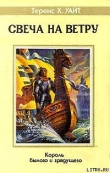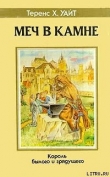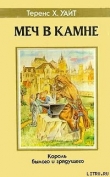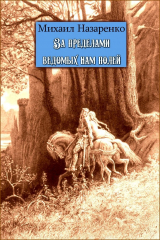
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Романы Хаггарда балансируют на грани реального и фантастического. То, что может показаться удачным вымыслом, – например, охота на колдунов, столь ярко описанная в «Копях», – оказывается вполне реальным. Поэтому и явные фантазии обретают привкус подлинности. Затерянные города и неведомые народы, известные лишь по древним хроникам, являются очам изумленных путешественников, не все из которых переживут встречу… Этот прием охотно возьмет в оборот Берроуз в «Земле, забытой временем» (1918) – точно так же, как в «Тарзане» (1912) перенесет Маугли в хаггардовскую Африку. У Берроуза эстафету примет Роберт Говард – и жанр «затерянного мира», имеющий не так уж много общего с одноименным романом Дойла, продолжит победное шествие[92]92
Обратите также внимание на то, что «пропавшей», «затерянной» страной (lost land) называет мир короля Артура герой Твена («Повесть о пропавшей стране» – подзаголовок книги): еще один пример того, что чертами «иного» наделяются не только далекие земли, но и далекие эпохи. Вообще о «затерянных мирах» в «географической фантастике рубежа веков см.: Глеб Елисеев, Сергей Шикарев. На суше и на море // Если. – 2007. – № 2.
[Закрыть].
Как я уже говорил, в «Копях» подлинные чудеса скрываются за рациональным видением – отрицаемые, но необъяснимые. В позднейших книгах Квотермейн сталкивается с африканским колдовством непосредственно – однако гораздо важнее не само проявление магии, но общая атмосфера, которую с переменным успехом будут имитировать многие авторы фэнтези. Герои Хаггарда оказываются на той стороне, где всякое может случиться; не случайно переход этот зачастую сопровождается символической встречей со смертью, как на перевале в горах царицы Савской. Фэнтезийный флер покрывает и многие исторические романы Хаггарда, особенно те, что живописуют древнейшие времена. «Чудесность» прошлого становится очевидной, когда Квотермейн переносится туда во снах, вспоминая прошлые воплощения.
Сразу же после «Копей» Хаггард написал самую важную для него книгу – нет, не самую популярную, хотя довольно известную и не раз экранизированную. Роман «Она: История приключения» (1886) был создан, по словам автора, «как в горячке, почти без отдыха… Когда я принялся за работу, то имел самые смутные представления о развитии сюжета. В голове моей был лишь образ бессмертной женщины, которую вдохновляет бессмертная любовь. Всё прочее обрело форму вокруг этой фигуры».
И «Она», и ее продолжения написаны попросту плохо, – но это именно тот случай, когда качество текста никак не связано с силой воздействия его образов. Бессмертная, «Та-чье-слово-закон», которой со времен Древнего Египта суждено встречать своего возлюбленного и снова его терять – отдавая то смерти, то другой женщине, – бессмертная эта полубогиня несомненно наследует роковым женщинам прерафаэлитов. В первой книге она сродни Лилит (одноименный роман Джорджа Макдональда будет написан только в 1895 г.) – прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. Во второй же – «Аэша: Ее возвращение» (1905) – героиня сложнее и неоднозначнее: ее врагами оказываются не соперницы, но время и силы природы, с которыми она ведет борьбу с незапамятных времен. Борьбу, обреченную на поражение, но именно поэтому героическую.
В «Аэше» действие перенесено из уже хорошо известной читателям Хаггарда Африки в таинственные Гималаи, которые были на рубеже веков в большой моде. Затем последовали книги, в которых Хаггард попытался связать историю Аэши с другими излюбленными сюжетами: «Она и Аллан» (1921), название говорит само за себя – и «Дочь Мудрости: Жизнь и история любви Тойчьесловозакон» (1923), автобиография героини и исправление наиболее явных несоответствий между томами. А еще был прелюбопытный случай соавторства: Хаггард вместе с известным фольклористом Эндрю Лэнгом написал роман «Мечта Мира» (1890), где любовный треугольник, повторяющийся во всех книгах об Аэше, перенесен в гомеровскую эпоху: Одиссей – египетская царица Мериамун – Елена Прекрасная.
История Аэши неизбежно связана с темой Империи: но каков ракурс!
«– Ты уже любишь меня, Калликрат! – ответила она, улыбаясь. – Скажи мне что-нибудь о твоей стране, о твоем великом народе. Ты, наверное, захочешь вернуться туда, и я рада этому, потому что ты не можешь жить в этих пещерах. Мы уйдем отсюда, – не бойся, я знаю дорогу, – поедем в твою Англию и будем там жить! Две тысячи лет ждала я того дня, когда смогу покинуть эти ужасные пещеры и мрачный народ! Ты будешь управлять Англией…
– Но у нас есть королева в Англии! – прервал ее Лео.
– Это ничего не значит! – возразила Аэша. – Ее можно свергнуть с трона!
Мы объяснили ей, что сами погибнем тогда.
– Странная вещь! – произнесла Аэша с удивлением. – Королева, которую любит народ! Вероятно, мир очень изменился с тех пор, как я живу здесь!
Мы пытались объяснить ей, что наша монархиня любима и уважаема всеми, что настоящая власть находится в руках народа, что Англия подчиняется своим законам.
– Закон! Что такое закон? – проговорила она насмешливо…»
Этот диалог – пик «отчуждения» Аэши: она – королева далекой земли, более того – бессмертна, более того – воплощение зла, более того – убийца, более того – она не чтит нашу королеву!
И тут же – неожиданное сальто:
«Ее гордая, честолюбивая душа захочет возместить долгие столетия одиночества. Умереть она не может, убить ее нельзя. Что же может остановить ее? В конце концов она получит всю власть в Британских владениях, а, может быть, и на всей земле, и ценой ужасных злодеяний сделает Англию богатейшей и цветущей империей во всем мире. После долгих размышлений я пришел к заключению, что это удивительное создание, вероятно, будет орудием в руках Провидения, чтобы изменить порядки одряхлевшего мира и направить его на лучший путь». – Британия в любом случае будет править морями.
Двойственность образа Аэши и притягивала, и страшила поздневикторианских читателей – как и самого автора. Юный Толкин перенес Кор, город Аэши, в заморский край эльфов («Книга утраченных сказаний»), и отзвуки этого цикла Хаггарда сильны в главах «Властелина Колец», живописующих Лориэн. Образ Галадриэли в равной степени ориентирован на образы Аэши и Богородицы; а вот Джадис, Белая Колдунья из «Нарнии», – это Аэша, лишенная раздвоенности вовсе, воплощение беспримесного зла, тем более опасного, что оно притягательно для смертных.
Исследователи отметили немало параллелей между циклом Хаггарда и «Властелином Колец»: Мертвецкие Топи обязаны своим происхождением не только болотам на острове Просперо в шекспировской «Буре», но и африканским трясинам из романа «Она»; талисман. который висит на шее, и невозможно снять его и отдать кому-то, – из романа «Она и Аллан». Подростковые впечатления остаются на всю жизнь.
Хаггард остался в истории фантастики не как писатель (испытания временем его книги, по большому счету, не выдержали), но как «поставщик» чрезвычайно устойчивых образов и сюжетных схем, о происхождении которых уже и не все помнят. Поэтому он бессмертен – как Аэша.
С Киплингом сложнее – как и со всяким гением.
Если одним словом ответить на вопрос «Кем был Киплинг?» – слово это будет «журналист», и ответ окажется верным примерно в той же степени, в какой слова «театральный деятель» определяли бы значение Шекспира. Писатель, радикально изменивший английскую прозу, поэзию, систему жанров, сам английский язык, – всего лишь «журналист»? Да, Киплинг и вправду был отличным репортером-очеркистом – Сомерсет Моэм справедливо полагал, что именно работа в «Гражданской и военной газете» города Лахор научила молодого автора писать сжато и точно. Киплинг на всю жизнь сохранил цепкий, жадный до деталей журналистский взгляд. Смесь почти циничного прагматизма с неистребимым идеализмом – тоже дань газетным годам. Но как Антон Чехов вырос из журнального поденщика Антоши Чехонте, так и Киплинг чрезвычайно быстро стал одним из тех, кто определил развитие литературы на десятилетия, если не на века. Он создал новый язык, точный до грубости, новую прозу (а заодно и современный жанр рассказа в английской культуре), новую поэзию – собственно, новый взгляд на мир. И, что важно для нас, новую фантастику.
Киплинг был слишком хорошим журналистом, чтобы не верить в чудесное, которое шевелится за обыденностью и может явиться в любой момент. Реакции на такое явление посвящен не самый известный, но весьма примечательный рассказ «Истинное происшествие» (1892).
«[Над пароходом], обрамленное в тумане и столь же лишенное всякой опоры, как полная луна, нависло лицо. То не было лицо человека, а также и не животного, ибо оно не принадлежало ни к одной из известных нам пород. Рот был открыт, показывая до смешного тоненький язык, – не менее нелепый, чем язык слона; углы натянутых губ окаймлялись глубокими складками белой кожи, с нижней челюсти свисали белые щупальцы, и не было признаков зубов в открытой пасти. Но весь ужас сосредоточился в незрячих глазах, – белых, в белых же, подобных отполированной кости, впадинах, – и слепых. Со всем тем это лицо, сморщенное как морда льва в ассирийской скульптуре, дышало яростью и ужасом. Один длинный белый щупалец задел наши шканцы. Затем лицо с быстротой молнии нырнуло вниз…» (пер. Е. Кудашевой).
Нет, это не Ктулху – вернее, не лавкрафтовский Ктулху. Историю о глубинном чудовище, выброшенном на поверхность извержением подводного вулкана, мог бы написать Уэллс, но в то время Герберт Джордж только-только подбирался к литературной карьере. Самое странное, страшное и невообразимое является очам трех журналистов – кого же еще! – но никто из них не решается сообщить об ЭТОМ в газеты. Всё равно не поверят.
И другой пример, совсем из иной книги: Хари-Чандар-Мукарджи, более известный как Хари-бабу, выпускник Калькуттского университета (и один из самых талантливых участников Большой Игры), разумеется, не верит в магию. «Можно ли бояться колдовства, которое с презрением исследуешь, и собирать для Королевского Общества фольклор, не теряя веры во все силы тьмы?.. Но, пересекая комнату, он тщательно избегал наступать на пеструю короткую тень Ханифы на досках. Ведьмы, когда на них находит, могут схватить душу человека за пятки, если он не поостережется» («Ким», пер. М. Клягиной-Кондратьевой). Всевидящий автор в этом вопросе является агностиком – но только в этом.
Индийская магия для Киплинга – отнюдь не экзотика, но движитель многих «истинных происшествий». Пускай Дана-да чуть не сводит с ума сахиба простым мошенничеством («Дана-да насылает наваждение», 1888), но когда мистер Флит превращается в безумное дикое существо, это действие подлинного давата, заклятья; и надо сказать, что «Клеймо зверя» (1890) – один из самых страшных киплинговских рассказов.
Начинал писатель с вещей достаточно традиционных: ново в «Рикше-призраке» (1885) разве что место действия, а история сама по себе – весьма привычна; Моэм назвал покойную миссис Кит-Уэссингтон «самой неотвязной пиявкой в литературе, ибо даже после своей смерти продолжает донимать несчастного, сидя в своей призрачной рикше»[93]93
С. Моэм. Моэм выбирает лучшее у Киплинга // С.Моэм. Подводя итоги. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 425.
[Закрыть]. Подобных рассказов о призраках всегда было немало – из «колониальных» можно вспомнить хотя бы позднейшую «Коричневую руку» (1899) Дойла: индус, которому врач некогда ампутировал руку, каждую ночь будит несчастного. Важен, однако, контекст: «Рикша-призрак» среди почти документальных очерков обладает совсем иной степенью условности, чем неоромантическая «Рука» среди подобных же новелл в журнале «Стрэнд»; да и для двадцатилетнего начинающего журналиста «Рикша» хороша.
В зрелых же рассказах Киплинг не уменьшит, а, напротив, усилит степень и реального, и фантастического. Внезапное вторжение чудесного в мир, описанный со всеми социальными, культурными, этническими подробностями, – создает замечательный эффект, которого тщетно пытались добиться многие современники Киплинга. У Хаггарда, Дойла, Стивенсона сама атмосфера таинственности соответствует чудесному происшествию и подготавливает его; Уэллс знает цену контрасту будничной жизни и того немыслимого, что в нее вторгается. Киплинг делает фантастическое неотъемлемой частью своего мира (экзотического – Индия всё-таки, не Англия, – но реальнейше воссозданного). Фантастическое как часть мироустройства, чудо как элемент огромной и сложной системы – всё это приметы фэнтези. Читатели не удивляются вторжению чудесного – мы поражены тем, что оно, оказывается, всё это время было рядом, незамеченное. Открывается чудо не избранным (как у Гофмана и других романтиков-элитаристов), а тем, кто оказался в нужное время в нужном месте.
Эффект реальности отчасти создается потому, что Киплинг, выстраивая свои книги как огромный единый текст, дублировал схожие сюжеты в двух вариантах, реалистическом и фантастическом. Истории о пограничных стычках – и «Пропавший легион» (1892), где мертвые солдаты идут в бой вместе с живыми. Трагические рассказы о бессмысленных смертях простых строителей империи, – и сомнамбулический «Конец пути» (1890), в котором герой умирает, увидев во сне некий запредельный ужас. Рассказы о тружениках, несущих «бремя белого человека», – и потрясающие «Строители моста» (1893) с детальным описанием подготовки к наводнению Ганга, которое может снести почти завершенный мост, а вместе с ним и репутацию строителя. Затем следует сам потоп, событие мифологических масштабов; и наконец – англичанин-строитель и его помощник-индус наблюдают на островке совет богов, обсуждающих, что делать с дерзкими захватчиками. Киплинг прибегает к обычному приему романтиков: беседа Ганги, Ханумана, Кришны и других божеств может быть лишь опиумным видением, – но мыслимо ли, чтобы двум людям привиделось одно и то же? Сомнение возникает лишь для того, чтобы его развеяла логика: значит, чудо реально.
В «Строителях моста» Киплинг выходит за пределы будничной реальности и еще в одном отношении. Спасение моста через Ганг – частный случай борьбы культуры (европейской, разумеется) с природой; но и борьба эта – часть тысячелетнего процесса, который даже не все боги могут осознать. Сменяются эпохи, новые боги вытесняют прежних или обретают старые имена. И всё это – часть сна Брахмы; «и пока он не проснется, боги не умрут».
Вот перспектива, в которой надлежит рассматривать творчество Киплинга. Вот почему он не пошел по пути, который ему прочили критики: не стал британским Бальзаком, автором имперской «Человеческой комедии». Расширение материала Киплинга уже не интересовало: разрозненные фрагменты надлежало сложить в единую картину – обширнее и, главное, глубже любого социального полотна. Жизнь империи «семи морей» оказывалась частным случаем огромной и сложной системы, исследовать которую можно было только прибегнув к самой верной из условностей – мифу. На человеческое бытие надлежало посмотреть со стороны – что Киплинг и сделал в «Книгах Джунглей» (1894-95), написанных почти одновременно со «Строителями моста».
О самом знаменитом сочинении Киплинга написано много и хорошо[94]94
См. в особенности предисловия А. Долинина к сборнику Киплинга «Рассказы. Стихотворения» (Л.: Художественная литература, 1989), Ю. Кагарлицкого – к «Киму» (М.: Высшая школа, 1990) и подготовленное Е. Перемышлевым издание «Книги Джунглей» в серии «Школа классики» (М.: Олимп; АСТ, 1998).
[Закрыть], я лишь обращу внимание на некоторые важные моменты. Конечно, «Книги Джунглей» – это не вполне сказки или не сказки вовсе. Это картина мироздания, едва ли не всех уровнях («на всех» – будет в «Просто сказках») и на всех широтах: вопреки названию, действие охватывает не только индийские джунгли, но и снега Аляски, и южные моря. Главная тема «Книг» – Закон, его соблюдение и нарушение, которое зачастую тем же Законом и санкционировано (раз в год Тигр может посмотреть Человеку в глаза, – но не чаще). Мир состоит из множества групп, стай, общин, в каждой из которых – свои порядки и нравы, но Закон стоит над ними, ибо универсален и природен. Тот самый Закон, который гласит, что «Востока нет и Запада нет». Различия не стираются (ведь «им не сойтись никогда»), – напротив, подчеркиваются. Но в бесконечном разнообразии, которое и составляет эстетическую привлекательность мира, обнаруживаются нерушимые основы.
Поэтому Киплингу интереснее всего тот, кто может пересечь границу между мирами, стать своим среди чужих и вернуться домой. Маугли – случай самый известный, но отнюдь не единственный. Маленький Тумаи становится свидетелем слоновьих плясок – непонятного и непознаваемого ритуала, после которого в джунглях остаются вытоптанные круги. Лишь после удивительной и страшной ночи на спине слона, ушедшего из лагеря, Тумаи становится полноправным погонщиком: он приобщился к тайне, которую ни Киплинг, ни слоны выдавать не собираются. Министр Пуран Бхагат, осыпанный всеми мыслимыми почестями англичан, становится отшельником, заводит дружбу со зверями – и, отказавшись от созерцания, спасает жителей деревушки, на которую несется лавина. Формально он нарушает Закон – так же, как самозванные вожди Маугли и Белый Котик, которые силой заставляют соплеменников принять то, что для них лучше всего: новый порядок. Сильная личность во главе «корпорации» – идея с отчетливым фашистским привкусом, тем более, что вертикаль подчинения – от Императрицы Индии до последнего лагерного мула – выстроена в финале первой книги четко и недвусмысленно. Противопоставлена этой иерархии может быть только беззаконная свобода, разрушительная для общества, будь то волчья стая или толпа Бандар-Логов. («Если вы будете сыты, вы можете опять взбеситься… Вы дрались за свободу, и она ваша. Ешьте ее, о волки!»– пер. Н. Дарузес)
Однако у Киплинга любая политическая доктрина работает прежде всего как метафора. Если Закон нарушен (людьми, Шер-Ханом, силами природы) – он должен быть и будет восстановлен. Единство многообразия разумно и естественно – но кто-то должен охранять и регулировать это динамическое равновесие, будь то Хатхи, смотритель за водяным перемирием, или служащие британской разведки в позднейшем «Киме».
Мир «Книг Джунглей» в конечном счете неизменен. «Что есть, то уже было. То, что будет, – это только забытый год, вернувшийся назад», – мудрость Екклесиаста, но высказывает ее Каа. Сама история Маугли – человеческого детеныша, вскормленного волками, – вариация того, что «бывало и раньше, но только не в нашей Стае», а на берегах Тибра. Наг вспоминает Первую Кобру, исполняются пророчества, хозяин Джунглей Маугли вынужден подчиниться властному ритму смены сезонов во время «весеннего бега». Мифологический круговорот охватывает всё бытие «Книги Джунглей», да и вселенную, как мы знаем из «Строителей моста». Киплинг пытается сделать исключение для британцев: их боги – новые, их обычаи – небывалые, они отчего-то запрещают сожжение колдунов и одни могут остановить нашествие джунглей. Однако даже автор вынужден подчиниться логике созданного… нет, лишь изображенного им мира. Не Киплинг создал Закон, – только разглядел его яснее прочих.
Настолько живое ощущение мифа можно встретить только у Вагнера – однако Киплинг, в отличие от него, говорил о современности, пусть и увиденной непривычным, «животным» взглядом (так, тема восстания сипаев пронизывает обе «Книги Джунглей»). Чрезвычайно примечательно, что чудес и магии в этих рассказах нет вовсе, даже в рассказе, который назван «Чудо Пуран Бхагата». Сверхъестественные объяснения событий Киплинг оставляет на долю жрецов, к которым относится весьма саркастически. Оно и понятно: в мифе не может быть чуда, потому что он весь чудесен. Если судьбы Маугли и Рикки-Тикки-Тави непосредственно связаны с теми древними временами, когда лианы оставили полосы на боках Тигра, а Брахма возложил свой знак на клобук Кобры, – значит, Законы неизменны.
«Книги Джунглей» задали несколько направлений, по которым Киплинг пойдет в дальнейшем.
Диалектику свободы и подчинения он до конца жизни будет разрабатывать в басенном жанре, от рассказа «Бродячий делегат» (1894) до изощренной притчи «Ваш слуга, пес» (1930), в которой заглавный герой называет хозяев «Мои Собственные Боги». Не говорю уж о стихотворении «Мировая с Медведем» (1898), аллегории политической («Не заключайте мира с Медведем, что ходит, как мы!» – пер. А. Оношкович-Яцына).
Обещая в первой «Книге Джунглей» поведать «рассказ для больших» о том, как Маугли «спустя много лет стал взрослым и женился», Киплинг не кривил душой. Собственно, он выполнил обещание еще до того, как его дал: рассказ «В лесах Индии» («В рукхе») опубликован еще в 1893 году. Киплинг знал, чем закончится история Маугли, прежде чем она началась. Его судьба – быть посредником между людьми (белыми!) и животными в северо-западном заповеднике; Маугли, как и многим любимым героям Киплинга, не приходится выбирать между двумя мирами – вернее, выбор оборачивается примирением их обоих.
Ярче всего это показано в безусловном шедевре Киплинга, романе «Ким» (1900-1901). Никогда прежде писателю не удавалось создать настолько живой образ Индии – во всех деталях, от цветов до запахов. Разумеется, увидим мы огромную страну глазами мальчишки, которого прозвали Другом Всего Мира, ибо он может принять обличье и манеры человека любого народа, любой касты. Кимбол О’Хара, выросший на лахорском базаре сын знаменщика ирландского полка и ученик спустившегося с гор Тешу-ламы, оказывается ценнейшим приобретением британской разведки. Для Киплинга важно, что лучшие профессионалы Большой Игры по призванию этнологи, и они хотят прежде всего понять страну, которую защищают от зловещих поползновений России. Большая Игра сама по себе мифологична, ибо не знает ни начала, ни конца, и «Ким» не был бы столь глубок, если бы Киплинг ограничился нравоописанием.
Лама ищет созданную Буддой Реку Стрелы, воды которой очистят человека и оборвут цепь перерождений. То, что река эта оказывается ручьем, мимо которого герои не раз проходили, – не важно. А важно то, что каждому она дарует свое: ламе – освобождение от Колеса Всего Сущего, Киму – понимание того, ради чего он привязан к Колесу.
«…и он почувствовал, что с почти слышным щелчком колеса его существа опять сомкнулись с внешним миром. Вещи, по которым только что бессмысленно скользил его глаз, теперь приобрели свои истинные пропорции. Дороги предназначались для ходьбы, дома – для того, чтобы в них жить, скот – для езды, поля – для земледелия, мужчины и женщины – для беседы с ними. Все они, реальные и истинные, твердо стояли на ногах, были вполне понятны, плоть от его плоти, не больше и не меньше».
И это – тоже освобождение, спасение, которое лама искал для себя и для своего ученика. И это – чудо: отныне откровение будет приходить к героям Киплинга изнутри и только изнутри. Лейтмотив романа – вопрос, который задает себе мальчик, оказываясь в одиночестве: «Я – Ким. Кто такой Ким?» Киплинг настаивает на том, что самопознание, познание мира, обретение своего места в нем и освобождение от него – суть одно.
Чрезвычайно показателен диалог Тешу-ламы и Махбуба Али – торговца лошадьми и шпиона.
«– Это нехорошая причуда, – проговорил лама. – Какая польза убивать людей?
– Очень маленькая, насколько мне известно, но если бы злых людей время от времени не убивали, безоружным мечтателям плохо пришлось бы в этом мире».
Лишнее подтверждение того, что духовное и социальное у Киплинга уравновешены. И тут же – их яркий контраст:
«Помнится, этот год прозвали Черным Годом», – говорит лама к изумлению Махбуба Али: «Какую же ты вел жизнь, если не знаешь о Черном Годе?.. Вся земля знала об этом и сотрясалась». – «Наша земля сотрясалась лишь раз – в тот день, когда Всесовершенный достиг просветления», – отвечает лама; и каждый говорит истину – в рамках своей системы ценностей, которые суждено объединить Киму. «Сотрясение земли» – и образ общественных потрясений, и буквальное именование чуда.
В эти же годы – на рубеже веков – Киплинг обратится и к явно-мифологическим формам. Очень странный рассказ «Дети Зодиака» (1891) – о небесных знаках, переселившихся на землю, – оказался предвестьем совсем иных по тональности и, на первый взгляд, незамысловатых «Просто сказок для маленьких детей» (1902). Название «Just So Stories» многозначно: это истории, которые, по требованию детей, повторяются дословно (just so!), но и повествования о том, что было именно так. Так возникает нынешний облик животных (у Кита такая глотка, а у Верблюда – такой горб), так возникают семья и общество (в рассказах о Кошке, о Первом Письме и Алфавите), таково происхождение библейских притч (о женах царя Соломона, пятнах Леопарда и коже Эфиопа). Онтогенез повторяет филогенез: развитие ребенка соответствует развитию мира, и Киплинг, великий стилист, показывает это на уровне языка: «Просто сказки» естественно соединяют «детское» произношение трудных слов, слова «взрослые», заведомо непонятные слушателям, библейскую ритмику и простые стишки. В итоге возникает… да, опять миф: текст, который описывает и объясняет всё.
Честертон некогда упрекнул Киплинга в том, что он недостаточно патриотичен: обожает Британию, но не знает Англии, да и сам Киплинг как-то заметил в письме к Хаггарду, который отлично мог его понять: «Я медленно открываю для себя Англию – самую замечательную заграницу, в которой мне довелось побывать».
Результатом этого «открытия» стала дилогия «Пак с Волшебных Холмов» (1906) и «Награды и феи» (1910)[95] 95
Единственный адекватный русский перевод – Ирины Гуровой – к сожалению, давно не переиздавался и малодоступен.
[Закрыть]– вероятно, самая слабая (сравнительно, конечно), из книг Киплинга, имеющих отношение к фэнтези. Пак, последний обитатель Холмов, оставшийся в Англии, знакомит брата и сестру, Дэна и Уну, с людьми Британских островов – от древнейших, неолитических времен до начала XIX века: с римским центурионом и королевой Елизаветой, астрологом и строителем… Любопытно, что Киплинг тщательно избегает тех столетий, которые описаны в хрониках Шекспира: состязаться он не хотел, а история Британии предоставляла множество сюжетов и без того.
«Пак» перекликается с «Книгами Джунглей» в том отношении, что показывает современный европейский взгляд на мир как один из возможных. История человека, который избавил деревню от чумы, следуя астрологической логике, весьма показательна. Но Киплинг заходит и дальше: лучший рассказ цикла, «Нож и Голый Мел», повествует о превращении человека в бога. Древний овцевод, подобно Одину, отдает глаз за тайну холодного железа, чтобы спасти от Серого Пастуха (Волка) людей и овец: «Овцы ведь люди». А второй платой стало одиночество, ибо Купивший Нож стал, как сказано, богом для своего народа.
История Британии оказывается непрерывной цепью потерь и обретений, жертв и самопожертвований (Елизавета отправляет молодых людей на верную смерть, и те идут добровольно, ибо такова нужда Страны). После Реформации навсегда покидает Англию Народ Холмов, ибо время его прошло – сквозная тема «Пака». Но контрапунктом идет столь же чудесная история меча Виланда, божественного кузнеца, которая заканчивается событием вполне историческим – принятием Великой хартии вольностей. К этому переломному моменту британской истории, как выясняется, приложили руку евреи, – однако Киплинг не пересказывает басню о жидомасонском заговоре: для него важно, что новую Британию создавали все ее обитатели, вне зависимости от происхождения и веры. Миф и история подтверждают и укрепляют друг друга: Пак реален, как Талейран, великая Елизавета чудесна, как королева фей Глориана.
Старые знакомцы возвращаются в новых рассказах, причинно-следственные связи тянутся через века, – словом, композиционное мастерство Киплинга, как всегда на высоте. Неудачей представляется скорее изначальная модель повествования: Пак не показывает детям картины древности, но выкликает из прошлого людей, которые рассказывают свои истории, то и дело прерываемые Паком, Дэном и Уной. Так миф превращается в некое театральное представление, – и только в «Ноже и Голом Меле» диалог обретает ритм и мощь древней трагедии.
Однако сюжеты Киплинга, ощутимая в каждой строке кровная связь с родной страной и родной историей привлекают многих – в том числе и писателей. Как вызвать в наш мир обитателей Холмов? Разыграть посреди одного из древних каменных кругов «Сон в летнюю ночь». Это Киплинг, но это и «Дамы и Господа» Терри Пратчетта. Молодые люди, почти мальчишки, защищают великую Стену от набега северных дикарей; в тот миг, когда, казалось бы, неминуемо поражение, на помощь Стене приходит войско нового императора. Это – рассказ центуриона Парнезия, но это и «Буря мечей» Джорджа Р. Р. Мартина.
Киплинговская фантастика настолько многообразна, что обо всем не расскажешь, тем более – в цикле, посвященном предыстории фэнтези. Научно-фантастические рассказы Киплинга показали молодому Хайнлайну, как можно ненавязчиво подавать реалии мира будущего; «Лучшая в мире повесть» (1891), в которой банковский клерк вспоминает свое прошлое воплощение – жизнь греческого галерного раба, – несомненно повлияла на «Корабль Иштар» Абрахама Меррита (1924); а «Око Аллаха» (1926), рассказ о микроскопе в средневековом монастыре, кажется, держал в памяти Умберто Эко.
К числу лучших сочинений Киплинга относятся мистические новеллы, которые лишь на последних страницах открывают таинственную подоплеку событий. «Они» (1904) и «Садовник» (1926) принадлежат к тем редким рассказам, в которых финальный поворот не выглядит надуманным и производит столь же сильное впечатление при каждом перечитывании. Сюжеты не пересказываю – именно для того, чтобы не смягчать удар этих сильнейших трагических рассказов, в которых Киплинг выплеснул самое больше свое горе: потерю детей. В 1899 году умерла его дочь Джозефина (Таффи из «Просто сказок»), в 1915 на войне погиб сын Джон, который мог по состоянию здоровья получить «белый билет», но, следуя наставлениям отца, отправился на фронт. В числе «Военных эпитафий» Киплинга есть и такая:
Коль спросит кто: почему вы здесь пали? –
Ответь: потому что отцы наши лгали.
Киплинг мог быть безжалостен и к себе самому, и к своей стране. В конечном счете любая империя обречена на падение, любой человек – на поражение; однако это не повод пренебрегать своим долгом.
Киплинг мог ошибаться – и ошибался часто, с трагическими последствиями: едва ли не всё поколение, прошедшее Первую мировую, Киплинга просто ненавидело. Однако Хемингуэй на вопрос, что нужно настоящему писателю, отвечал: «Во-первых, нужен талант, большой талант. Такой, как у Киплинга» (пер. И. Кашкина).
А еще у Киплинга была вера – вера в незыблемые ценности, которая, как казалось на рубеже веков, только и могла сохраниться на краю света. Верит в «Бога Динамо» африканец в рассказе Уэллса. «Дикари, те веру знают, – говорит миссионер в «Тени акулы» Честертона. – Они приносят ей в жертву животных, детей, жизнь. Вы бы позеленели от страха, если бы хоть краем глаза увидели их веру. Это – не рыба в море, а море, где живет рыба» (пер. Н. Трауберг). И, как заметил тот же Честертон, когда люди перестают верить в Кого-то, они начинают верить во всё. «Люди с готовностью принимают на веру любые голословные утверждения. Оттесняя ваш старинный рационализм и скепсис, лавиною надвигается новая сила, и имя ей – суеверие» («Вещая собака», пер. Е. Коротковой).
То необычное и чудесное, что викторианцы хоть как-то пытались рационализировать и объяснять, в ХХ веке представляется принципиально непознаваемым и неодолимым. Судьба полковника Куртца (чьи последние слова – «Ужас. Ужас») объявлена единственно возможной; зов Ктулху слышнее тихой проповеди отца Брауна.