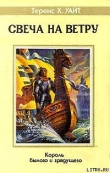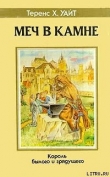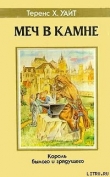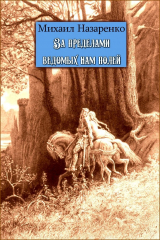
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
…а затем
Со слугами своими в Камелот
Вошел – в сей город сумрачных дворцов,
Великолепных, драгоценных фресок
И статуй древних королей, которым
Теперь навеки оставаться камнем…
– и это лишь малая толика тех грандиозных картин, то неподвижных, то живых, которые показывает зачарованному читателю Теннисон. Они, в конечном счете, и остаются в памяти.
«Песней Короля» назвал великую утопию Круглого Стола шут Дагонет, – неумолчной песней, в которую, тем не менее, столь же неизменно вносят диссонанс. Королевскую Песню создал и Теннисон: воистину он был тем, кто вернул Артура своим современникам, а значит, и нам. Но что сделали современники с его даром, чем были недовольны, а чем воспользовались… об этом – в следующей статье.
_____________________
12. Дивные острова
Джадсон поднял голову и увидел, что Энид, вынырнув из тени дома, идет по освещенной солнцем траве. Лицо ее светилось, волосы сияли пламенем, и казалось, что она вышла из аллегорической картины, изображающей зарю. Она шла быстро, но ее движения были и плавными, и сильными, словно изгиб водопада.
…Запела птица, и в тот же миг утренний ветер ринулся в сад, согнул кусты, и, как всегда бывает, когда ветер налетит на залитую солнцем зелень, свет сверкающей волной покатился перед ним. А Энид и Джону показалось, что лопнула какая-то нить, последняя связь с тьмой и хаосом, мешающими творению, и они стоят в густой траве на заре мира.
Г. К. Честертон. «Пять праведных преступников» (пер. Н. Трауберг).
Честертон родился через четверть века после возникновения Братства Прерафаэлитов – иное время, иное поколение. Однако вряд ли найдется писатель, который точнее запечатлел словами то, что прерафаэлиты хотели выразить красками. И сколь бы иронически ни высказывался в молодости Честертон о своих предшественниках, яркие, четкие краски его блистающей прозы, его закатов и гроз – суть отголосок того художественного движения, без которого невозможно представить не только культуру девятнадцатого века, но и мир века двадцатого. К Честертону я еще вернусь: у прерафаэлитов учились многие, автор же «Пяти праведных преступников» и «Возвращения Дон Кихота» умел быть по-настоящему благодарным своим учителям. Он понимал их.
…А в 1857 году группа молодых художников была приглашена расписать фресками одно из новых зданий Оксфордского университета. Предложение почетное, к тому же дающее возможность заявить о своих творческих принципах; мастера не потребовали иной платы, кроме жилья и необходимых для работы материалов. Напомню, что за десять лет до того Уильям Дайс создал в Вестминстерском дворце серию фресок на артуровские темы. Их мало кто видел – как-никак, располагались они на стенах королевской гардеробной – но работы Дайса успели стать неким каноном, которому следовало противопоставить новое (хорошо забытое старое) искусство. Были выбраны десять сюжетов из Томаса Мэлори – от Меча в камне до Смерти Артура, – и началась работа; а надо сказать, что художников звали Данте Габриэль Россетти, Эдвард Бёрн-Джонс, Уильям Моррис…
В работе над оксфордскими фресками более проявился энтузиазм, нежели мастерство. Темперные краски наносились на сырую штукатурку акварельными кисточками, без грунтовки. К тому же большие окна, между которыми и находились росписи, мешали цветополаганию. Большая часть артели покинула Оксфорд через три месяца, завершены были только две работы («Ревность сэра Паломида» Морриса и «Смерть Мерлина» Бёрн-Джонса»), и Моррис расписал потолок: декор ему всегда удавался лучше, чем живопись. Изольда, Тристан и Паламид-сарацин были окружены подсолнухами (о которых, разумеется, Европа не знала еще тысячу лет после падения Круглого Стола) – по той лишь причине, что ноги Моррису изобразить никак не удавалось.
Но и незаконченные фрески были прекрасными – «нежными, светлыми и чистыми, как облака на заре… столь яркими и сияющими, что стены поход[или] на поля иллюминированной средневековой рукописи». Такой отзыв дал влиятельный критик, имевший счастье видеть их в том же 1857 году[57]57
Цит. по: Е. А. Некрасова. Романтизм в английском искусстве: Очерки. – М.: Искусство, 1975. – С. 186.
[Закрыть]. Говорю – «счастье», поскольку потомки, да и большинство современников были его лишены: через год фрески начали выцветать и осыпаться, а к 1870 году почти исчезли под копотью от газовых рожков. Моррис – видимо, с некоторым раздражением – предложил заклеить их обоями; несколько помогли фрескам только реставрации в ХХ веке.
Символический эпизод: многие, слишком многие проекты этих замечательных и знаменитых (сегодня) людей заканчивались провалами и разочарованиями; а уж тому, что и в личной жизни Россетти и Моррис были несчастливы, удивляться тем более не приходится. Удивительно другое: влияние прерафаэлитов на современников и потомков, совершенно несхожих между собою. К Моррису восходят ар-нуво и конструктивизм, о нем с одобрением отзывались Энгельс и Толкин… А современная фэнтези обязана ему и Джорджу Макдональду, пожалуй, более, чем кому бы то ни было из авторов XIX века.
Если ранние романтики почти не обращались к артуровской теме, которая лежала в русле официальной идеологии, то прерафаэлиты присвоили обитателей Камелота: под влиянием Теннисона и одновременно с ним. Это была окончательная эстетизация Круглого Стола: последнее доказательство того, что национальная мифология не менее ценна, чем классическая.
Через год после оксфордской авантюры Моррис выпустил свою первую книгу, сборник «Защита Гиньевры и другие стихотворения». Критики встретили ее без одобрения, но современные историки литературы полагают едва ли не лучшей поэтической работой Морриса. Друзья поэта, впрочем, сразу оценили книгу очень высоко. «Топси» (домашнее имя Морриса) оказался большим поэтом, – не без удивления заметил Бёрн-Джонс. «Прекрасно, если это поэзия, писать ее очень легко», – отшутился Моррис[58]58
Эстетика Морриса и современность. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – С. 25-26. Статьи А. Аникста и Е. Некрасовой, вошедшие в этот сборник, – прекрасное введение в художественный мир Морриса.
[Закрыть].
Как и все произведения 1840-50-х годов на артуровскую тему, «Защита Гиньевры» написана под явным влиянием ранних стихотворений Теннисона. Вернее сказать, этот сборник – как и триптих Мэтью Арнольда «Тристан и Изольда» (1852) – заимствует у Теннисона тематику, но не трактовку сюжетов. Моррис как бы «превентивно» защитил Гиньевру, не дожидаясь пока через год, в первом издании «Королевских идиллий» (1859) Теннисона викторианский моралист решительно осудит королеву.
Содержание «Защиты» очевидно – как очевидна любая противоположность догме. Гиньевра не оправдывается – она утверждает свою любовь, и даже если все обвинения Гавейна правдивы, они всё равно – ложь. Контраст между королевой и рыцарями Артура – не менее жесткий, чем у Теннисона, – но, разумеется, не в пользу рыцарей. Убийство Моргаузы сыновьями – эпизод, немыслимый в мире «Королевских идиллий», – для Морриса служит еще одним аргументом, и аргументом весомым: эти не могут судить ее. Когда в последней строке стихотворения появляется спаситель Ланселот – перед читателем не просто счастливый конец, и не просто дань канону Мэлори: поэт изображает любовь рыцаря и королевы как нечто естественное и должное. Трагедия вовсе не забыта: стихотворение «Гробница Артура» о последней встрече Ланселота и королевы, вошло в ту же книгу.
Для оправдания Гиньевры Моррис воспользовался формой драматического монолога, которая в английской поэзии стала популярной благодаря Роберту Браунингу, чей сборник «Драматическая лирика» (1842) – воплощение романтического историзма. Перед читателем исповедуются не маски автора, но самостоятельные личности, люди разных времен и культур (или даже не вполне люди, как шекспировский Калибан). Фантазия и фантастика были для Браунинга полноправными способами познания человека, и по крайней мере две его небольшие поэмы влияют на жанр до сих пор. «Флейтист из Гаммельна» и «Чайльд Роланд к Башне Темной подошел» настолько заслонили первоначальные легенды, что когда современный западный автор пишет о Пестром Дудочнике («Потрясающий Морис» Терри Пратчетта) или о Темной Башне (сами-знаете-кто), без цитат из Браунинга им никак не обойтись[59]59
За пределами жанра фэнтези Дэн Симмонс в романе «Илион» напрямую использовал монолог Браунинга «Калибан о Сетебосе».
[Закрыть].
Не обошелся и Моррис – но оригинальность проявилась в том, что шекспировский белый стих, который предпочитал предшественник, он заменил на Дантовы терцины. Это важно, потому что свидетельствует: прерафаэлиты не только в живописи, но и в литературе пытались соединить британские легенды с эстетикой раннего Возрождения. Приближение к «историчности» – и резкий сдвиг к средневеково-ренессансной «условности»: эпохи и культуры неразличимы. А если вспомнить, что моделями для большинства длинноволосых дев были по преимуществу одни и те же женщины – Элизабет Сиддал (в замужестве Россетти) и Джейн Бёрден (в замужестве Моррис), – становится очевидным, что Россетти, Моррис, Бёрн-Джонс создали единое эстетическое пространство. В нем стирается различие между языческим и христианским (даром что Россетти настаивал на единстве любви, веры и искусства), между целомудрием и эротизмом. Прерафаэлиты смогли удержаться на грани – их эпигоны и продолжатели слишком явно склонялись на ту или иную сторону.
Декларации братства вряд ли помогут разобраться в творчестве его участников. «Стремиться к воплощению оригинальных идей», «внимательно изучать природу», «приветствовать искренность и новизну» – требования настолько размытые, что каждое новое направление высказывает их, обвиняя предшественников в искусственности и отходе от «жизненной правды». Растиражированные типажи и приемы прерафаэлитов, декоративность и броскость их работ стали почти эталоном манерности. Нужно вглядеться и увидеть, что композиция принципиально неравновесна, и любая симметрия только подчеркивает отклонения. Движение не тел, но взглядов. Яркие краски отражают реальность всего, что изображено, – всего, что существует. Поэтому на картинах – то нагромождение вещей, не условных, а материальных, то – совершенство абстракции, где соположение красок обозначает фон, плотный, как драпировки. Россетти одним из первых, если не первым, стал накладывать на холст чистые краски, не смешивая их на палитре, – еще до импрессионистов[60]60
Я говорю прежде всего о творчестве Россетти, Бёрн-Джонса и Морриса. Уильям Холлмен Хант и Джон Эверетт Миллес стоят несколько в стороне – в том числе и потому, что такого влияния на историю фэнтези, как их собратья, они не оказали.
[Закрыть].
Сейчас нам уже трудно представить, насколько это шокировало викторианского обывателя – да и не только обывателя. Прерафаэлитов совершенно не принял Диккенс, для которого их творчество было не более чем «манипуляциями с палитрой, шпателем и красками», а столь «вещный» подход к сюжетам Писания – «пучиной низкого, гнусного, омерзительного и отталкивающего» (статья 1850 г. «Старые лампы взамен новых», пер. Е. Коротковой).
Полвека спустя для Честертона будет очевидным, что та же «материальность» и не позволила, в конечном счете, достичь желанной близости к старым мастерам. «Ангелы летают, потому что они легко относятся к себе, – говорит он в «Ортодоксии». – Христиане всегда чувствовали это, особенно – христианские художники. Вспомните ангелов Фра Анжелико; они скорее бабочки, чем птицы. Вспомните, сколько света и движения в самых серьезных средневековых фресках, как проворны и быстроноги ангелы и люди; только это и не сумели перенять наши прерафаэлиты от тех, настоящих. Бёрн-Джонс не уловил легкости средних веков. На старых картинах небеса – как золотой или синий парашют. Каждый человек вот-вот взлетит, воспарит в небо…» (пер. Н. Трауберг).
Но, кажется, прерафаэлитов взлет не интересовал: они распознают духовное в материальном, метафизика начинается в тенях и орнаментах, а заканчивается в темных глазах и огненных волосах их женщин. Это и есть основа фэнтези – заметная даже сегодня в работах лучших иллюстраторов (Чарльза Весса, Алана Ли): безусловная «вещность», даже «приземленность» всего изображаемого. И когда фантастический мир становится убедительным и знакомым, он оборачивается иной, высшей реальностью.
В последние десятилетия много пишут о женщинах в викторианском искусстве – о творцах, моделях и адресатах. Несколько упрощая, можно сказать, что английских художников (в широком смысле, включая поэтов) Женственность притягивала и страшила: эти смешанные чувства отражают столь же двойственное отношение к сексуальности. Можно сказать и иначе: напряжение – в картинах, в стихах, в жизни – вызвана неопределенностью женских образов. Они – жертвы и владычицы, колдуньи и зачарованные дамы, богини и смертные. Офелия и Гиньевра, Вивиана и леди Шалотт, Венера, Прозерпина и Беатриче. Триптих «Паоло и Франческа» работы Россетти, вероятно, наиболее показателен. В левой части – запретная любовь, единение в вихрях второго круга ада – справа, а посредине – Данте и Вергилий (зритель и художник!), и взгляд их устремлен к преисподней. Откровенная стилизация под Джотто – но совсем не Джотто.
Любопытная статистика: за десять лет, с 1860 по 1869 год, на художественных выставках было представлено около шестидесяти работ на артурианские темы, и образы волшебниц занимали в них особое место. Чаще всего встречалась Моргана ле Фэй, затем – Владычица Озера (Вивиана. Нимуэ) и леди Шалотт. Зритель как бы отождествляется с персонажами картины: он – тот, кто поддается чарам (Артур и Мерлин); тот, кто наблюдает со стороны и ничего не может изменить в трагедии (Ланселот). Художник же – творец, запечатлевший Ее образ; Пигмалион, угадавший и воплотивший Галатею.
Женщины-объекты (объекты желания, поклонения, служения) и женщины-субъекты (активные, а значит, опасные) – кажется, ни Россетти, ни Моррис так и не нашли выхода из этой дилеммы. Оба до смерти оставались большими детьми – отсюда и трагедии. Элизабет Сиддал позировала для картины Миллеса, изображая утонувшую Офелию, простудилась – так и не оправилась до конца дней. За десять лет Россетти несколько раз собирался жениться на ней, но сестры[61]61
Кристина Россетти, младшая сестра художника, была автором замечательных стихов и странных сказок. Самое известное из ее фантастических произведений – поэма «Базар гоблинов», женский взгляд на Волшебную Страну. Девушка заболевает, отведав волшебных фруктов (этот мотив проникнет в знаменитый роман Хоуп Миррлиз «Луд-Туманный», 1926); спасти ее может только сестра, которая встретится с гоблинами, но не поддастся на их искушения и не отведает чудесных плодов. Суть, разумеется, не в гоблинских фруктах, но в прикосновенности к Волшебной Стране, в тоске по иному.
[Закрыть] не могли одобрить его выбор (Элизабет, поэтесса и художница, была модисткой «низкого происхождения»); ее не оставляли депрессии, лечебным средством избрали опиум. Наконец Россетти проявил силу воли; они обвенчались, на другой год Элизабет родила мертвого ребенка. Во время второй беременности она умерла от передозировки опиума. Неизвестно, было ли это самоубийством. Россетти положил в гроб стихи, обращенные к жене, но семь лет спустя велел их извлечь (сам не решился при этом присутствовать). Волосы Элизабет продолжали расти и после смерти, весь гроб был заполнен ими. Стихи Россетти прекрасны и конкретны, как живопись. Картина «Beata Beatrix», написанная после смерти жены, – возможно, лучшее его полотно. Осквернения могилы жены Россетти забыть не мог и даже пытался покончить с собой.
История любви Уильяма Морриса не так трагична, но очень печальна. Он, выходец из богатой семьи, тоже пытался создать Галатею-Гиньевру из простой девушки Джейн Бёрден, дочери конюха. «Я не могу написать вас, но я люблю вас», – написал он на обороте незаконченного рисунка; картина «Королева Гиньевра» так и осталась единственной его живописной работой. Первые годы брака были довольно счастливыми – не считая того, что Моррис и домашний уют попытался превратить в искусство (о чем – далее), но, к примеру, забыл зарезервировать номер в гостинице на время свадебного путешествия. А потом что-то надломилось – в нем ли, в ней ли. Вольно было Моррису за год до свадьбы оправдывать неверную жену Артура – мог ли он предположить, что на месте короля окажется сам. Моррис бежал на край света – буквально, в Исландию; плодами поездок стали переводы скандинавских саг и большая поэма о Сигурде. Джейн пережила мужа почти на двадцать лет, слыла респектабельной женщиной и – неожиданное возвращение к теме Пигмалиона, – как говорят, стала прототипом миссис Хиггинс в пьесе Бернарда Шоу.
Я рассказал эти грустные истории людей, связанных дружбой, любовью, изменой, не для того, чтобы доказать – великие тоже люди. Каждый, кто хотя бы пролистывал альбомы прерафаэлитов или романы Морриса, увидит тот надрыв и тот непокой, которые из отзвуков личных трагедий стали законами художественного мира. И даже – миров.
Моррис говорил, что его призвание – воплощать в жизнь мечты. По натуре он был эскапистом, но особого рода: из тех, кто не бежит от действительности, но преображает ее в соответствии с идеалом. Не бежать в средневековье, но взять лучшее из него. Мало что Моррис ненавидел сильнее, чем псевдосредневековые «реконструкции» старых английских домов: он принимал стилизации, но не подделки с поделками.
Близкий к прерафаэлитам выдающийся критик Джон Рёскин писал: «Если нам суждено совершить что-то великое, доброе, религиозное, оно должно быть выведено из нашего маленького острова, и именно из настоящего времени, с его железными дорогами и прочим». Моррис же говорил: «Нам следует превратить страну из прокопченного задворья мастерской в цветущий сад. Если некоторым это покажется трудным или даже невозможным, я не могу ничего с этим поделать. Я знаю только, что это необходимо».
Вспомним основные достижения Морриса. История искусства: Моррис был лучшим в Англии специалистом по средневековым рукописям, ему, как Шерлоку Холмсу, хватало одного взгляда, чтобы определить не только возраст манускрипта, но и монастырь, где он был переписан. Архитектура: Моррис с друзьями создал новый облик зданий, в котором подчеркивалась фактура материала (знаменитый Red House, Красный Дом из кирпича, не покрытого штукатуркой). Дизайн: Моррису принадлежат не только сотни рисунков для обоев, гобеленов, витражей, но и современная концепция интерьера как стилевого единства жилья. Ремесла: Моррис, ненавидевший буржуазную «красивость» и массовое производство, доказал значимость «малых», прикладных искусств. Его мастерская не столько принимала заказы, сколько навязывала клиентам то, что, по мнению Мастера, им надлежало принять. Парадокс в том, что трудами «средневековой» мастерской Морриса долгое время могли пользоваться только очень богатые люди.
Наконец, Моррис, давно проявлявший интерес к печатному делу, основал издательство «Кельмскотт-пресс» и произвел революцию в оформлении книг. Направление мысли было тем же: Идеальная Книга, как идеальный дом, должна являть собою целостность, единство всех элементов, от шрифта до переплета. «Если бы такая вот книга вышла в ту пору, когда мы с Моррисом были мальчишками в Оксфорде, мы бы просто с ума сошли, а теперь вот, на закате дней наших, мы создали ту самую вещь, которую сотворили бы тогда, кабы могли», – слова Бёрн-Джонса о кельмскоттовских «Кентерберийских рассказах»[64]64
Цит. по: С. Лихачева. Уильям Моррис – бард Средневековья // У. Моррис. Воды дивных островов. – М.: Тера – Terra, 1996. – С.6.
[Закрыть]; точно так же определяли основной импульс своего творчества «Инклинги» – Льюис и Толкин. Моррисовское издание Чосера, стилизованное под богато украшенную средневековую рукопись, стало образцовым, породило множество подражаний и даже пародий. «Смерть Артура», оформленная Обри Бердслеем, практически повторяет структуру кельмскоттовского Чосера, – но если на страницах издания Морриса играла радостная, здоровая жизнь, то в новой версии Мэлори изнывали изломанные декаденты.
Моррис заблуждался, пытаясь накануне появления конвейеров возродить средневековое рукомесло. Тем, кто следовал его путем, оставалось только вздыхать по утраченному раю, который каждым поколением потерян вместе с детством. Неудивительно, что Моррис пытался скрыться в легендарном прошлом и фантастических мирах; неудивительно и то, что он пришел к социализму. Его вера в грядущий рай на земле – обратная сторона средневековой утопии.
Это хорошо почувствовал Честертон. В романе «Возвращение Дон Кихота» (1927) он изобразил мир, где последнего мастера из круга прерафаэлитов отправляют в сумасшедший дом (как же! он сам создает краски, а не пользуется фабричными!); где идеалы средневековья берут на вооружение плутократы; где король Англии (бывший библиотекарь) судит вождя профсоюзов. Судит – и оправдывает: требования бастующих рабочих оказываются ближе к букве и духу уставов средневековых гильдий, чем практика современного капитализма. Король и рабочий лидер: две стороны медали, два Дон Кихота, равно чуждые сегодняшнему дню. Моррис бы их понял.
За всеми заботами Моррис не оставлял литературную деятельность, прежде всего поэтическую. Подобно тому, как Моррис-практик заботливо воссоздавал в своей мастерской средневековые нравы, Моррис-поэт реконструировал давно забытое прошлое. В 1867 году была опубликована поэма «Жизнь и смерть Ясона», написанная чосеровским стихом. Ее встретили гораздо теплее, чем «Защиту Гиневры», а много лет спустя разбором «Ясона» Борхес начнет эссе «Повествовательное искусство и магия» (1932). Магия: слово сказано. Борхес показал, как Моррис преодолевает «неправдоподобие кентавра», у которого воспитывался древнегреческий герой. Сперва мифические существа упомянуты вскользь, как нечто очевидное («Где медведи и волки встречали стрелы кентавра»), затем царь дает рабу приказ – отнести дитя в лес – и представляет, как мальчик будет расти среди «быстрооких кентавров». Сквозь пенье дрозда в чаще слышен стук копыт – и наконец появляется Хирон, чья шкура ныне бела от старости, хотя некогда была пятниста. «Моррис может и не передавать читателю свой образ кентавра – да и нам нет нужды его видеть,– подчеркивает Борхес, – достаточно попросту сохранять веру в слова, как в реальный мир» (пер. А.Матвеева). Вывод Борхеса таков: задача романа – любого романа – в установлении причинных связей, особенно там, где их нет и быть не может. Уже во второй своей книге Моррис нащупал этот принцип, которому оставался верен до конца дней. Но есть в «Ясоне» и другой важный аспект, о котором Борхес не говорит прямо: это плотность текста, его насыщенность деталями, общими для нашего мира и мира мифов (ведь, по сути, эти два мира суть один). Недаром Толкин будет так настаивать на том, что действие «Властелина Колец» происходит не на другой планете, а здесь, «под этими небесами».
За «Ясоном» последовал «опус магнум» Морриса, трехтомная поэма «Рай земной» (1868-70) – и в связи с ней опять придется вспомнить Толкина. Когда в 1916 году молодой филолог начал создавать свою мифологию, «рамку» для нее он заимствовал у Морриса. Морестранники (у Морриса – скандинавы XIV века, спасающиеся от чумы) прибывают на далекий остров, где выслушивают занимательные и чудесные рассказы. Только у Толкина это будут предания эльфов, а у Морриса – сказания разных народов, от исландских саг до «1001 ночи», общим числом двадцать четыре. «Тот, кто грезит в одиночестве» – так назовут толкинские эльфы пришельца; «сновидцем, рожденным в недолжное время», именует себя Моррис в прологе к поэме. Пролог же закономерно назван «Апологией», сиречь Извинением: поэт просит прощения у современников за то, что отвлекает их сказочками. Но герои сказок и небылиц бессмертны: ведь кто не жил, и умереть не может; а значит, бессмертно и мастерство сказителя.
Моррис не решался удаляться слишком далеко от знакомых границ: миф, но общеизвестный; чудесный остров, но – последний осколок античной культуры. И третья великая «сказочная» поэма Морриса – не свободный вымысел, но реконструкция: «Повесть о Сигурде Вёльсунге и падении Нибелунгов» (1876).
Премьера вагнеровской тетралогии «Кольцо Нибелунга» состоялась в том же году (хотя работа тянулась почти тридцать лет); поэма Морриса в сравнении с ней интересна не столько обработкой сюжета (поэт верен оригиналу), сколько тем размером, которым она написана. Это знаменитый «киплинговский стих» (для филологов: шестииктный дольник с парной рифмовкой): твердый, мужественный размер, восходящий к народным балладам. Поскольку «Сигурда» на русский язык не переводили, приведу пример из позднейшего романа Морриса:
Стоя в кольце орешин, мы пили битвы вино.
И солнце достигло полудня, и вот закатилось оно.
Три короля, три гунна, вышли против меня,
Хитрые, умные в битве, каждый сильней коня…
(пер. С. Лихачевой)
Очень знакомо, не так ли? И это – изобретение Морриса.
Поэт был знатоком древнескандинавской литературы, переводчиком «Саги о Вёльсунгах» и «Саги о Греттире» – и большим поклонником «северного духа». Киплинг до конца дней запомнил случай из своего детства: они с кузиной играли в доме «дяди Неда» (Бёрн-Джонса), когда в комнату вбежал «дядя Топси» и, усевшись на лошадку-качалку, принялся рассказывать длинную и страшную историю о человеке, которому являлись дурные сны. Много позже Киплинг понял, что это была «Сага о Ньяле», которую Моррис только что прочел и жаждал поделиться ею хоть с кем-нибудь. (Непосредственность всегда отличала Морриса: изготавливая старинные доспехи, он радостно их примерял, с лязгом приплясывал в них и даже садился в них за обеденный стол.)
Поэтическая форма и пересказ старых повестей новыми словесами начали стеснять Морриса: его романы 1880-90-х годов примечательны всё большим отходом от «истории» к «мифопоэтике»[65]65
Если Моррис как художник, архитектор, дизайнер, социалист известен у нас сравнительно неплохо, то Моррис-писатель – почти не знаком и почти не изучен. Из семи его «фэнтезийных» романов переведены три; единственная известная мне специальная работа – замечательная статья С. Лихачевой (см. предыдущее примечание).
[Закрыть]. После выхода «Сказание о доме Вольфингов» (1888) некий профессор обратился к Моррису за дополнительными подробностями о жизни готских кланов Чети; роман «Колодец на Краю Мира» (1892) известный писатель и редактор Лин Картер назвал первым произведением фэнтези в современном смысле слова – первой книгой, действие которой происходит во «вторичном мире» (термин Толкина), никак не связанном с нашим.
Но почему же к нашему жанру относят и ранние, условно-исторические романы Морриса – «Вольфингов», «Корни Горы» (1889) и «Повесть о Сверкающей Равнине» (1890)? Проще всего ответить – потому, что в первом романе действуют сверхъестественные существа (неземная дева, зловредный гном) и присутствуют чудесные артефакты (например, кольчуга, дарующая неуязвимость); а в «Сверкающей Равнине» действие с легкостью переносится из северных земель в волшебные страны. Но дело не только во внешних признаках жанра. Что восхищало в романах Морриса современников и потомков – так это небывалая даже для английской литературы, породившей Вальтера Скотта, плотность и достоверность изображенной истории.
Лучше всего об этом сказал К. С. Льюис: «Повестям Морриса придает мрачную убедительность не что иное, как их безусловность. В других книгах имеются только декорации, у Морриса – география. Он не забоится об «изображении» пейзажей: ему достаточно рассказать вам о расположении земель, и вы сами нарисуете картину в воображении. Читателю, взращенному на ботанических и энтомологических тонкостях современной прозы, такой подход сперва кажется невыразительным и холодным, но тут же возникает чувство свежести и простора. В литературе нет гор, столь же отдаленных, как далекие горы Морриса. Мир его воображения так же пронизан ветром, так же осязаем, звучен и объемен, как миры Скотта и Гомера».
Пример из «Дома Вольфингов», выбранный буквально наугад:
«…Настало утро, и рать Порубежья проснулась по сторонам реки; позавтракав, воители быстро построились и продолжили путь. Войско теперь еще более растянулось, ибо расстояние между водой и лесом снова уменьшилось, и пройти рядом могли только десять мужей, а смотрящему вперед казалось, что чаща поглощает и реку и дорогу. Но ратники торопились вперед с радостью в сердце, ибо их ждали новые встречи с соплеменниками, а картина будущей битвы становилась все более ясной для их глаз…
Так шли они вперед, но вот лес широко расступился перед ними, образуя другую поляну, чем-то похожую на Среднюю Марку. Каменистые берега тоже как бы раздвинулись, и между ними появились островки, увенчанные ивой и ольхою, или же в середине своей заросшие осиной…» (пер. С. Лихачевой).
Стиль Морриса намеренно архаизирован – до такой степени, что к современным изданиям иногда прилагаются словарики редких и устарелых слов; критик же XIX века давал писателю издевательские наставления: «Ибо воистину подобает, чтобы всяк говорил на собственном своем наречии, а не на чуждом ему, как, впрочем, и всякому другому»[66]66
С. Лихачева. Указ. соч. – С. 17.
[Закрыть]. Неудивительно, что неразрывно связанные языко– и миротворчество Морриса лучше всего оценили филологи Льюис и Толкин. Первый написал настоящую апологию Морриса, второй же… Толкин купил «Вольфингов» весной 1914 года, всего за несколько месяцев до создания первого из текстов собственной мифологии; первый его прозаический опыт, пересказ истории Куллерво из «Калевалы», возник как подражание «Вольфингам». «Книга Утраченных Сказаний», первый вариант будущего «Сильмариллиона», написана под сильнейшим стилистическим влиянием Морриса; в архиве Толкина сохранился рисунок на темы старшего писателя; действие «Вольфингов» происходит в Мирквуде, Лихолесье, да и моррисовы готы – явная родня роханцам…
Кстати, совсем не удивительно, что для Толкина важнее оказались «исторические», а не собственно фантастические книги Морриса: фантазия Профессора всегда опиралась на историческую реконструкцию, пусть даже забытых или вовсе не существовавших культур. Роман Морриса как раз и заканчивается забвением героев и племен, но сохранением топонимики.
Моррис говорил, что моралью «Дома Вольфингов» – «если там вообще есть мораль» – является «растворение индивида в племени». Двадцатый век заставляет нас читать эти слова не совсем в том смысле, который вкладывал в них автор: Моррис говорит не об уничтожении личности, но – о ее добровольном самопожертвовании ради других. Соединение христианской, «нордической» и британской идеологем: примерно то же, что и во «Властелине Колец», только с несколько смещенными акцентами. Если Толкин создавал Средиземье как мир «добродетельных язычников», не поклоняющихся ложным богам, то Моррис без зазрения совести пишет о человеческих жертвоприношениях – впрочем, добровольных. Военный вождь Тиодольф отказывается от защиты зачарованной кольчуги, потому что его спасение – гибель родного племени; еще одна жертва, но совсем иная.
С. Лихачева справедливо указывает, что для Морриса важна тема отказа от «дурного», неправильного бессмертия: в «Доме Вольфингов» она звучит приглушенно, в «Сверкающей Равнине» становится центральной. Поскольку все события мы видим глазами героя, Халльбита из клана Ворона, писатель искусно манипулирует и его. и нашим восприятием. Желанная для всех Земля Живущих, известная также как Поля Бессмертных, оказывается… отнюдь не толкинским Заморьем (хотя и лежит она за морем), но ловушкой: Бессмертный Король манипулирует судьбами, а платой за бессмертие оказывается отказ от памяти, рода, культуры.
«Сверкающая Равнина» – книга отчетливо переходная. Моррис еще не может отказаться от хорошо знакомой этнографии Севера, но уже использует прием, который будет доминировать в его собственно-фантастических книгах: отказ от объяснений. Многое – и даже мотивировки поступков! – подчиняется некой логике, которую понять затруднительно. Возможно, она лежит за пределами логики человеческой; возможно, лишь сокрыта.
Этим Моррис отпугивает читателя – я, во всяком случае, входил в мир его книг со всё возрастающим изумлением, – но и создает свою, особую реальность. Ее строительство завершилось в «фэнтезийных» романах «Колодец на Краю Мира» (1892), «Лес-за-Миром» (1895) и «Воды дивных островов» (1896). Том Шиппи, лучший исследователь творчества Толкина, писал в предисловии ко второму из них, что сочетание зримости изображаемого с неопределенностью трактовок создает особый художественный эффект: каждый эпизод можно трактовать как христианскую аллегорию, психологический этюд, фрейдистский намек...[67]67
Tom Shippey. Introduction // William Morris. The Wood beyond the World. – Oxford: Oxford University Press, 1980. – P. XI-XIV. Благодарю А. Белкину за любезно предоставленный мне текст работы.
[Закрыть]Леса Морриса явно произрастают неподалеку от аллегорических лесов Мильтона и Беньяна, но – в царстве фэнтези. У читателя нет ни малейших оснований предпочитать одну интерпретацию другой или одно понимание событий делать главенствующим.