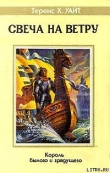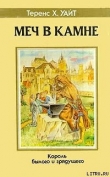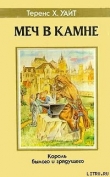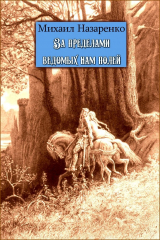
Текст книги "За пределами ведомых нам полей"
Автор книги: Михаил Назаренко
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Выразительный стиль Уолпола некогда считался образцовым («– Гнусный, бесчеловечный злодей! Чудовище! – возопил Теодор, бросаясь на Манфреда и вырывая у него кинжал»), но сейчас скорее заслоняет истинные достижения писателя. Мой совет: или научитесь наслаждаться подобными оборотами, или визуализируйте текст, представьте себе ту картину, которая стоит за словами, по ту сторону строк. Представьте себе замок не просто как место действия, но как мир, вне которого изложенные события невозможны; замок как персонаж, заслоняющий прочих героев.
«Подвальная часть замка состояла из множества низких сводчатых коридоров, настолько запутанных, что до крайности взволнованной Изабелле нелегко было найти дверь в тот погреб, откуда начинался ход. Пугающее безмолвие царило во всех этих подземных помещениях, и лишь иногда порывы ветра сотрясали раскрытые ею двери, заставляя их скрипеть на ржавых петлях, отчего по всему мрачному лабиринту прокатывалось многократное эхо. Каждый шорох вызывал у Изабеллы новый прилив страха…» Повторяю еще раз: это не штампы, это находки. Мервин Пик в трилогии «Горменгаст» (1946-1959) сбрызнул мощи готического романа живой водой иронии – но, тем не менее, истово придерживался традиции двухвековой давности.
Наконец, не кто иной, как Уолпол вновь пробудил интерес к привидениям, которые, бедняжки, прозябали под ярлыком «суеверие». Вспомним диалог из «Трех мушкетеров», который мне представляется весьма правдоподобным:
«– Вы верите в привидения? – спросил Атос Портоса.
«– Я верю только тому, что видел, и так как я никогда не видел привидений, то не верю в них, – ответил Портос.
– Библия, – произнес Арамис, – велит нам верить в них: тень Самуила являлась Саулу, и это догмат веры, который я считаю невозможным брать под сомнение».
Вот, собственно, и все варианты. Неупокоенный дух, жаждущий мести или, напротив, стремящийся предупредить своих потомков о грядущих бедствиях, заново введен в литературу Уолполом. Вариации на тему (от «Пиковой дамы» до «Кентервильского привидения», от «Неопытного привидения» Герберта Уэллса до фильма «Другие») чрезвычайно расширили сферу жизнедеятельности… или, точнее, посмертной деятельности этих духов, но все авторы XIX-XXI веков добивались и добиваются одного и того же: веры в то, что обычный человек именно так (с ужасом, с восторгом, с любопытством, с недоверием, с зевком) отреагирует на встречу с призраком. То есть – исполняют завет Уолпола.
Автор «Замка Отранто» не был «гением» – то есть творцом неустаревающих произведений. Но его интуиции могли бы позавидовать многие признанные классики. Открытия Уолпола превратились в штампы со скоростью, прямо пропорциональной популярности повести. Полвека спустя, в 1816 году, когда классический готический роман клонился к упадку (чтобы возродиться в прозе романтиков и неоромантиков), в русском журнале «Сын Отечества» появился иронический рецепт по составлению образцовых произведений в этом жанре. Своего рода «малый типовой набор» начала XIX века. Итак:
«Имейте старый развалившийся замок… Замок должен быть необитаем. Потом сделайте в нем в каждом этаже длинные, узкие, темные и излучистые коридоры; они должны примыкать к пространным залам, наполненным гнилыми мебелями, старыми шкафами и прочим тому подобным. Вам также надобно иметь в стенах несколько железных дверей, открывающихся посредством тайных пружин… присовокупите к сему сырые, мрачные подземелья.., в коих должно находиться довольное число темниц, самых ужаснейших, какие только можно вообразить. Не забудьте также расположить недалеко оттуда какой-нибудь лес, непроницаемый лучами солнца. В нем должны находиться: Первое: древнее аббатство, стены коего обросли мхом; унылые и однообразные звуки колоколов одни только нарушают тишину сего ужасного уединения. Второе: ущелье, самое узкое, между двух каменистых гор, с которых нависшие утесы во всякого вселяют трепет. Третие: хижина на скате какого-нибудь холма. После сего заведите разбойников около ваших выбоистых дорог, а в хижине поместите пустынника лет в 90 или более, потому что в таком уединенном месте необходимо нужен на всякий случай какой-нибудь сострадательный человек, чтобы перевязывать раненых и доставлять пищу путешественникам. Что же касается до развалившегося замка, главного места ужасных приключений, то он будет служить убежищем или фальшивым монетчикам или какому-нибудь мстительному и ревнивому испанцу… Когда расположите места и запасетесь таким образом, то будете иметь все нужное для вашего романа…»
Это пародия не только и не столько на Уолпола, сколько на сочинения его ближайших последователей – Анну Радклиф, Мэтью Грегори Льюиса и других. Исследователи немало потрудились над классификацией готической прозы, различая, кто из писателей держит читателя всего лишь в «напряжении» (suspense), кто приводит его в «ужас» (terror), а кто вообще издевательски пародирует жанр.
Простоты ради можно выделить два критерия классификации: место действия и объяснение чудесного. Понятно, что в каком-нибудь «Джиннистане» готических замков век не водилось, однако же, помимо «европейской» разновидности готического романа существовала и разновидность «восточная», со всеми полагающимися атрибутами вроде пустынь, змей и джиннов (или, как именовали в русских переводах, «Жени-духов»). Представителем «восточной готики» был, к примеру, Уильям Бекфорд, автор «арабской сказки» «Ватек». Не будем забывать, что именно в XVIII веке Европа знакомится с «1001 ночью» – а вернее, создает «1001 ночь», поскольку арабские сборники не знали четкой разбивки именно на такое количество «порций». Да и Аладдин с Али-Бабой – плоды фантазии европейских переводчиков, а не арабских сказочников…
Теперь – что касается объяснений чудесного. Какие-то объяснения неизбежны в любой готической книге. «Замок Отранто» родился из сна, увиденного Уолполом: огромная железная рука лежит на балюстраде замка; роман и стал расшифровкой этого образа. Однако Анна Радклиф – пожалуй, самый талантливый мастер готики после Уолпола, – пошла дальше или, напротив, сделала шаг назад: это как посмотреть.
«Удольфские тайны» (1794) и другие романы писательницы приводили читателей в восторг. «Великой очаровательницей», «Шекспиром романтических писателей», «первой поэтессой романтической литературы» называли ее коллеги. «Ее темы не были новыми, – комментирует современная исследовательница, – но никогда до сих пор горы и призрачная музыка, беспомощная красота и инквизиция, разрушенные поместья, своды, путники и разбойники не были расцвечены со столь необычной роскошью; никогда до сих пор не было столь обильной пищи для романтического умонастроения, такой чистой по содержанию и достойной по форме».[19]19
Цит. по: В. Вацуро. Указ. соч. – С. 169.
[Закрыть]
Почему же это, тем не менее, шаг в сторону? Потому что Радклиф искуснейшим образом создает иллюзию фантастического – только для того, чтобы разрушить ее в финале естественным объяснением. Гибрид Просвещения и готики: суеверия привлекательны, непонятное щекочет нервы, – но в мире нет места мистике! Радклиф рационалистически опровергает вымыслы перепуганных или чересчур доверчивых героев, – однако не раньше, чем сердце читателя ёкнет, не раньше, чем мы подумаем: «А вдруг?». Когда герой бесследно пропадает из комнаты, в которой, по слухам, обитает привидение, мы принимаем это как должное, даже если впоследствии выяснится, что Людовико похитили контрабандисты, проникшие в замок через потайной ход. Как заметил В.Вацуро, «особенность «Удольфских тайн» не в том, что сверхъестественное объясняется, а в том, что объясняется сверхъестественное».[20]20
Там же. – С. 182.
[Закрыть]
Уолпол начал традицию, которая в конце концов привела к созданию современных «ужастиков». Радклиф – родоначальница «саспенса», крестная фея Альфреда Хичкока: тайна вот-вот раскроется, но всё время ускользает. Но ведь и классический английский детектив строится на тех же принципах, что ее романы! «Женщина в белом», «Собака Баскервилей», «Неведение отца Брауна» – во всех этих книгах светоч разума разгоняет тьму загадок и суеверий. Действительность, впрочем, оказывается подчас еще более мрачной.
Граница между возможным и немыслимым была в конце XVIII века весьма проницаемой. Мир резко усложнился: Разум Просвещения уже не мог объяснить всего (на что претендовал). И одни стали искать Высшее Знание на мистических тропах, а другие этим воспользовались. Сен-Жермен и Калиостро – бессмертные, почти всемогущие…[21]21
В. Жирмунский и Н. Сигал (указ. соч. – с. 265) прямо связывают успех этих деятелей с популярностью фантастических повестей. Вообще об «авантюристах Просвещения» см. замечательную книгу А. Строева «Те, кто поправляет Фортуну» (М.: НЛО, 1998).
[Закрыть] Тем горшим было разочарование современников и тем большей – популярность этих авантюристов у следующих поколений. Эпоха Разума неизбежно сменяется эпохой маловерия, а маловер, по Умберто Эко, «не тот, кто ни во что не верит, а тот, кто верит во все».
Но наследие готического романа не свелось к утверждению мистических амбиций европейцев. Не свелось даже к поставкам нового антуража. Темы неумолимого рока, неизбежной судьбы, неведомых сил, которые играют человеческими судьбами, и бунта против этих сил – сама возможность невозможного определили дальнейший ход европейской фантастики. И прежде всего – фантастики романтической. Но о ней – в следующий раз.
_________________________
7. Романическая интермедия
Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение – и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории.
Владимир Одоевский.
Привидение.
После долгого перерыва мы возвращаемся на Неведомые Поля – вернее, на самую границу с ними.
Времена здесь стоят романтические, а значит – и яркие, и смутные. Некогда П. А. Вяземский сравнил романтизм с домовым, о котором все слышали, но никто не видел. Добавим, кстати, что и к домовым интерес пробудился во времена предромантические.
Об этой эпохе, определившей путь западной культуры на десятилетия, если не на века вперед, – о времени Кольриджа и Байрона, Пушкина и Гоголя, По и Готорна нужно говорить или очень подробно, или очень кратко. Поневоле избираем второй путь. К тому же, влияние романтизма на современную фэнтези огромно, однако опосредованно.
С чего же начать? Вполне по-романтически – с отступления в прошлое.
В 1760 году, за четыре года до появления первого готического романа («Замок Отранто» Горация Уолпола) вышли в свет «Отрывки старинных стихотворений, собранные в горной Шотландии». Энтузиасты фольклористики и не догадывались, что перед ними – одна из самых талантливых мистификаций за несколько столетий. Джеймс Макферсон, недоучившийся священник и школьный учитель, был движим теми же чувствами, что и Толкин два века спустя: ему хотелось если не обнаружить, то создать национальную мифологию – в данном случае кельтскую. И ему это удалось, хотя и на краткое время. Моды вообще преходящи.
А мода была – и какая![22]22
См.: Дж. Макферсон. Поэмы Оссиана. – Л.: Наука, 1983; Ю. Д. Левин. Оссиан в русской литературе. – Л.: Наука, 1980; Дж.Уайтхед. Серьезные забавы. – М.: Книга, 1986 (глава «Оссиан и «Фингал»).
[Закрыть] Молодой Вертер, герой Гете, ставил Оссиана выше самого Гомера! Голливудская премия и кукла с голубыми волосами обязаны своими именами «Песням Оссиана»: Оскара и Мальвину создал ни кто иной, как Макферсон.
Что произошло потом, хорошо описал герой «Сталкера»: «А вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок. В свое время в него объедки кидали, а нынче он вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. И все охают, ахают… А вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь шутник… Веселья ради. Аханье, как ни странно, стихает».
Гете был в восторге от Оссиана до тех пор, пока не узнал правду (а разоблачили Макферсона довольно быстро: слишком уж рьяно он взялся за «сиквелы». Урок современным литераторам). И вот уже автор «Вертера» комментирует свое творение: ну да, конечно, пока юноша был в здравом уме, он читал Гомера, а как помешался – тут и взялся за это…
«Это» оказалось весьма и весьма близко к фэнтези.
«В какой мир вводит меня этот великан! – восторгался всё тот же Вертер. – Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана, при тусклом свете луны, гонит души предков слушать с гор сквозь рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, ее возлюбленный!».
Перед нами типичный «оссианический пейзаж», который на рубеже XVIII-XIX веков эпигоны (и юный Пушкин в том числе) воспроизводили с такой же частотой, как нынешние сериальщики – средиземские ландшафты. Да и метод Макферсона не может не напомнить подходы многих позднейших писателей к историко-мифологическому материалу.[23]23
К «позднейшим писателям» некоторые исследователи относят и автора «Слова о полку Игореве», которое якобы было создано в конце XVIII в. в подражание Оссиану. Это мнение убедительно опровергнуто более сорока лет назад, о чем многие ниспровергатели традиций и не догадываются. См.: Ю. М. Лотман. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII – начала XIX в. // «Слово о полку Игореве» – памятник XII века. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962.
[Закрыть]
Великий король с неблагозвучным именем Фингал (он же Финн) якобы жил в III веке от Рождества Христова в королевстве Морвен на западном побережье Шотландии, сражался с захватчиками из Лохлина (викингами) и внутренними врагами, властвовал над героями, породил славного воина и барда Оссиана… Напоминает артуровские легенды – но не будем забывать, что Макферсон основывался на тех же преданиях, которые, смешавшись в Волшебном Котле со множеством других традиций, и породили Артура, каким мы его знаем.
В «песнях Оссиана», впрочем, не меньшую роль, чем война, играет любовь. «Многочисленные любовные истории в поэмах почти никогда не имеют счастливого конца, – пишет исследователь. – Герой обычно гибнет на войне, на охоте, в плавании. Его возлюбленная, если только она не сопровождала его, облачившись в мужские доспехи, и не погибла с ним, умирает от горя».[24]24
Ю. Д. Левин. Указ. соч. – С. 11.
[Закрыть] «Радость скорби» – это признак не столько древней кельтской культуры, сколько новой, сентиментальной (хотя мотивы англосаксонской поэзии присутствуют и здесь).
Описаниям битв нельзя отказать в известной выразительности; в примечаниях к ним Макферсон указывает на параллели у Вергилия и Мильтона – якобы для того, чтобы подчеркнуть гениальность певца, на деле же – чтобы указать на источники собственного вдохновения.
«Смерть вокруг подъемлет вопль, мешая его со звоном щитов. Каждый герой – столп мрака, а меч – перун огневой в длани его. От края до края гремит поле, точно сотня молотов один за другим кует багряное чадо горнила…
Кухулин стоял… как гора, что хватает тучи небесные. Ветры спорят в соснах ее чела, град гремит по ее утесам. Но неколебима в силе своей стоит она, ограждая долину тихую Коны.
Так ограждал Кухулин сынов Эрина, стоя посреди тысяч. Горным ключом струилась кровь героев, трудно дышащих вкруг него. Но редели с обеих сторон рати Эрина, как снега под солнцем полдневным».
Образ Темных Веков, созданный Макферсоном, – не просто условный, но и лиричный (Оссиан, в отличие от Гомера, постоянно посредничает между изображаемыми событиями и слушателем / читателем), и нарочито искаженный. В мире Оссиана почти отсутствует фантастическое. Есть, конечно, тени павших – дань не только сагам, но и Шекспиру: покойный Фингал является сыну, «как дождевая туча в солнечный день»; слова «звезды сверкали сквозь призрак его» повторяются, как рефрен. Один раз появляется даже некий «дух Лоды» (бог Один), но Фингал «пронизал угрюмого духа» булатным мечом – с легкостью, достойной Конана-варвара и его наследников. У Роберта Говарда это было бы обычной подростковой безответственностью, у современных фэнтезистов – модой, у романтиков начала XIX века – гордым вызовом Небу, у Макферсона же – знак времени. Даже не времени – эпохи: эпохи Просвещения. Отвергнув христианскую фантастику, какой она была, скажем, у Мэлори, Макферсон не принял и языческую – во всяком случае, не в большем объеме, чем она была «санкционирована» хорошим вкусом и тем же Шекспиром. Это предромантизм.
Как всё изменилось несколько десятилетий спустя! Мистика Эмануэля Сведенборга парадоксальна, но рациональна. На смену приходит его заочный ученик Уильям Блейк – и какой взрыв безоглядной, безумной, богохульной фантазии является миру! Не удивительно, что Сведенборг для современной культуры остается фигурой второплановой – несмотря на безнадежные попытки Борхеса возродить к нему интерес; несмотря на то, что идеи шведского мистика аукнулись в книгах К. С. Льюиса и Джона Краули. А Блейк – поэт, художник, визионер – является, вместе со своими творениями (а то и они одни, без творца), в фильме Джима Джармуша «Мертвец», «Сказании о Мастере Элвине» Орсона Скотта Карда, «Многоярусном мире» Филипа Хосе Фармера…[25]25
Излишне говорить, что мы не уравниваем эти произведения!
[Закрыть] Не говоря уж о статье в «Энциклопедии фэнтези», где единственным соперником Блейка в создании чрезвычайно сложных и внутренне связных миров назван Толкин.
Рассматривать романтическую фантастику как нечто целое невозможно; невозможно и перечислить всех ее мастеров – это означало бы назвать едва ли не всех крупных поэтов и прозаиков начала XIX века.
Напомним только некоторые принципы, важные и для современной фэнтези.
Романтик – свободный творец, чья фантазия не ограничена никакими законами. Опасность такого подхода заметил уже Вальтер Скотт, с неодобрением отозвавшийся о «фантастическом методе», который не сдерживается ни правдоподобием, ни внутренними закономерностями. «Внезапные превращения случаются в необычайнейшей обстановке и воспроизводятся с помощью самых неподходящих средств: не предпринимается ни малейшей попытки сгладить их абсурдность или примирить их противоречия…»[26]26
В. Скотт. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана // Собр. соч. – Т. ХХ. – М.-Л.: Художественная литература, 1965. – С. 620.
[Закрыть] По отношению к Гофману Скотт был не прав; не вполне прав и по отношению к романтизму в целом. Один из теоретиков этого направления, Жан-Поль Рихтер, отвергал и «фантастику» в понимании Скотта, и рациональные объяснения чудесного, которыми «грешил» готический роман Анны Радклиф.[27]27
См.: Ю. В. Манн. Поэтика Гоголя. – М.: Художественная литература, 1988. – С. 56.
[Закрыть] Существует и третье решение… а какое – об этом чуть ниже.
Романтизм открывает «местный колорит», ищет «душу народа» в фольклоре. Чтобы осознать значение этого, достаточно сравнить основной текст «Руслана и Людмилы», написанный в духе французских шуточно-сказочных поэм XVIII века, и пролог («У Лукоморья…»), созданный несколько лет спустя, уже в Михайловском. На месте Руслана вполне мог быть какой-нибудь Неистовый Орландо; «русский дух» (привкус «славянской фэнтези») – в прологе очевиден. Древнерусский колорит поэмы – небрежно сработанный антураж; «неведомые дорожки» зачаровывают и по сей день.
Не случайно, что основатели национальных литератур угнетенных народов – Мицкевич, Шевченко – так охотно обращаются к фантастике и мифу. Миф оказывается не сказкой о былом, а сутью того, что происходило когда-то и будет происходить всегда. Создавая свою версию национального мифа, поэт как бы запечатывает, заклинает (от слова «заклятье») судьбу народа – обрекает его на вечное пребывание в этом мифе. Разве мы не живем в «Кобзаре»?..
Романтическая фантастика могла воплощаться в форме иронической сказки, такой, как «Крошка Цахес» Гофмана или пьесы Людвига Тика. Она рационализировалась – и тогда возникала прото-НФ Эдгара По и Натаниэля Готорна. Оставалась вовсе без объяснений. Уходила в область символики – вспомним «Старого Морехода» Сэмюэля Кольриджа, «Приключения А. Г. Пима» Эдгара По, «Моби Дика» Германа Мелвилла, объединенные зловещим и непостижимым образом белизны. Могла быть реальностью – особенно в поэзии: ведь поэтическое слово реально, действенно по природе своей, и фантастический элемент в поэзии легче принять как данность.
«Было решено, что я возьмусь за персонажи и характеры сверхъестественные или во всяком случае романтические с таким, однако, расчетом, чтобы эти тени, отбрасываемые воображением, вызывали в душе живой интерес, а некоторое подобие реальности на какое-то мгновение порождало в нас желание поверить в них, в чем и состоит поэтическая правда», – так говорил Кольридж о замысле «Лирических баллад»[28]28
Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Хрестоматия историко-литературных материалов. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 216-217. За указание на эту цитату благодарю Т. Корякина.
[Закрыть]; формулировка, весьма напоминающая теоретические рассуждения Уолпола в предисловии к «Замку Отранто».
И был еще один, пожалуй, самый типичный способ подачи фантастического. Обычно его иллюстрируют на примере «Песочного человека» Гофмана; мы остановимся на «Лесном Царе» Гете. Вот подстрочный перевод, выполненный Мариной Цветаевой:
«Кто так поздно скачет сквозь ветер и ночь? Это отец с ребенком. Он крепко прижал к себе мальчика, ребенку у отца покойно, ребенку у отца тепло. «Мой сын, что ты так робко прячешь лицо?» – «Отец, ты не видишь Лесного Царя? Лесного Царя в короне и с хвостом?» – «Мой сын, это полоса тумана!» – «Милое дитя, иди ко мне, иди со мной! Я буду играть с тобой в чудные игры. На побережье моем – много пестрых цветов, у моей матери – много золотых одежд!» – «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне шепотом обещает?» – «Успокойся, мой сын, не бойся, мой сын, в сухой листве – ветер шуршит». – «Хочешь, нежный мальчик, идти со мной? Мои дочери чудно тебя будут нянчить, мои дочери ведут ночной хоровод, – убаюкают, упляшут, упоют тебя». – «Отец, отец, неужели ты не видишь – там, в этой мрачной тьме, Лесного Царя дочерей?» – «Мой сын, мой сын, я в точности вижу: то старые ивы так серо светятся…» – «Я люблю тебя, меня уязвляет твоя красота! Не хочешь охотой – силой возьму!» – «Отец, отец, вот он меня схватил! Лесной Царь мне сделал больно!» Отцу жутко, он быстро скачет, он держит в объятьях стонущее дитя, доскакал до двора с трудом, через силу – ребенок в его руках был мертв».
Как заметила Цветаева, знаменитый и гениальный перевод Жуковского не вполне передает реальность происходящего («У Жуковского ребенок погибает от страха. У Гёте от Лесного Царя»[29]29
М. И. Цветаева. Два «Лесных Царя» // М. И. Цветаева. Об искусстве. – М.: Искусство, 1991. – С. 322.
[Закрыть]). Но именно поэтому Жуковский ближе к тому третьему решению, которое предложил Рихтер: «Пусть чудо летит не как дневная и не как ночная птица, но как сумеречная бабочка».
Так всё-таки – забрал Лесной Царь ребенка к себе? Приходила ли к Германну мертвая графиня, чтобы поведать тайну трех карт? Подлинно ли Акакий Акакиевич после смерти повадился стаскивать шинели с ночных прохожих?
И да, и нет.
Именно такую литературу французский исследователь Цветан Тодоров называет «фантастической», в отличие от «литературы необычного» (в которой есть рациональные объяснения тайн) и «литературы чудесного» (где вмешательство сверхъестественных сил в конце концов подтверждается).[30]30
Ц. Тодоров. Введение в фантастическую литературу. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. См. также известную работу Г. Ф. Лавкрафта «Сверхъестественный ужас в литературе» – яркий обзор «протофэнтези», прежде всего – готической и романтической.
[Закрыть]
Замечательный, хотя и малоизвестный пример «фантастического» в русской литературе, – рассказ Владимира Одоевского «Привидение», цитата из которого взята эпиграфом к нашей статье. Текст построен по принципу вложенных коробочек (рассказ в рассказе в рассказе в рассказе), причем в зависимости от того, чей именно рассказ звучит в эту минуту, мы склонны то верить в привидение из старого замка, то не верить, а в финале остаемся в недоумении – и понимаем, как ловко автор нас обманул. Виртуозно выстроенная история, нимало не устаревшая за полтораста лет.
И всё же это не фэнтези. Не потому, что призраки в поисках шинелей – хоббитам не товарищи. В конце концов, вампиры заявили о себе именно в романтическую эпоху (повесть Полидори «Вампир», одно время приписывавшаяся Байрону). Но в основе фэнтези, как мы уже не раз говорили в прошлых статьях, – полная и безусловная достоверность событий и мира. То есть по классификации Тодорова фэнтези – это «чудесное», но никак не «фантастическое». И романтизм, и фэнтези создают реальности более глубокие и подлинные, чем реальность окружающего мира. При этом миры фэнтези и романтической фантастики пересекаются, но не совпадают. Много позже придут неоромантики – и скрестят высокий romance (рыцарский роман) с волшебной сказкой.
Но и для современной фантастики романтический век сохранил свою привлекательность. Блейк, Байрон, Китс, Шелли, Кольридж чувствуют себя, как дома, на страницах твердой НФ и высокой фэнтези, паропанка и альтернативной истории. Они не создавали фэнтези – они стали фантазией. Завидная судьба!
История фэнтези тем временем шла своим путем, и три персонажа появляются перед нами: Альфред Теннисон, Джордж Макдональд и Льюис Кэрролл. В свой черед, джентльмены, в свой черед.
____________________