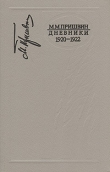Текст книги "Дневники 1914-1917"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Я сказал своему спутнику, что, кроме моих задач писать интересное, я хочу еще поддержать дух народа в этой войне, а как раз это может ослабить дух.
– Верно, верно, – воскликнул мой спутник, – вот уж правильно, дух не выдерживает долго, нервы ослабевают, вы должны поддержать дух… ну что же из этого, вы и поддерживайте.
– Значит, об настроении не писать?
– Почему же не писать, пишите ложно!
Со времени своего приезда с войны в Галицию в ноябре я почти безвыездно жил в одном селе Новгородской губернии (Песочки).
Отзвуки боя [123]123
Отзвуки боя. – Военный очерк Пришвина под таким названием был опубликован в газ. «Русские ведомости», 1915, 4 марта. См.: Цвет и крест. С. 478–481.
[Закрыть].
15 Февраля – день моего отъезда из Петрограда на войну. Я здесь в сборах провел несколько дней у многих своих знакомых. Как будто все постарели – такое мое общее впечатление. В людях что-то великопостное.
Собираясь, я ходил по магазинам, покупая различные вещи на дорогу, и мне все время казалось, что я хожу не в столице, а в провинции, где в лавках непременно нужно торговаться. Вещи все вздорожали, и торговцы берут, смотря по настроению, по виду покупателя.
В литераторах полный переворот: прежние утонченные декаденты собираются, решая вопросы, которые раньше были исключением этических групп, эстетизм лепится к войне. Один большой литератор бросил группы – и бежать на войну.
Есть предчувствие близкого конца войны, но уверены, что мы победим. Как будто все постарели. Но я не думаю, что духом упали. Один большой художник [124]124
Один большой художник… – речь идет о К. С. Петрове-Водкине, с которым Пришвин в это время поддерживал дружеские отношения.
[Закрыть] уверял меня, что никогда ему так хорошо не работалось: живет верой в будущую лучшую жизнь, и это дает новые силы в работе. То же и в общественной деятельности.
Встретил знакомую женщину – врача-хирурга, лицо утомленное, постаревшее, побочные занятия литературой брошены, но зато множество деловых проектов. Один из этих проектов – организация всероссийских здравниц (народных санаториев) – близится к осуществлению, собраны большие средства и на днях будет опубликован результат подготовительных работ. Всероссийская здравница, иначе говоря, народный санаторий, исходит от английского образца. Дело чисто общественное <1 нрзб.>. Не кончится ли вся затея чиновничества домом трудолюбия? Есть надежда, что нет, надежды на лучшее, что-то другое… Тыл – жалость к человеку, в тылу не мирятся с страдающим человеком.
События в Восточной Пруссии несколько изменили план моей поездки. Я еду в Галицию по всему фронту <1 нрзб.>.
По пути в Вильну: <на вокзале> в Питере последний поцелуй, вагон и кончено. Когда в последний раз целует женщина и дети уезжающих на войну, я испытываю совершенно то же, что на охоте, принужденный иногда смотреть на последние судороги умирающей птицы: каждый охотник знает это и закрывает глаза, это пустяки в общей радости, но из-за этих «пустяков» очень многие совсем отрицают охоту.
Мы с провожающим меня товарищем отвернулись, молчали, он бормотал: «Душа не переваривает», я почему-то чувствовал себя виноватым. Но вот поезд двинулся, и все преобразилось, и тот оплаканный юноша-доброволец едет, как счастливый охотник.
Офицеры окружили артиллерийского солдата с тремя Георгиями и той известной медалью Японской кампании: «Да вознесет вас Господь в свое время». «Георгий» был получен разведчиком в эту кампанию «в свое время», офицеры, еще не бывшие в бою, с почтением слушали солдата. Говорили о последней восточно-прусской операции, обсуждали ее, толковали так и эдак. Разведчик только улыбался.
– Это, – говорил он, – все наша неосведомленность, у нас не знают самого главного: немец не может против нас, ну, просто не может и не может.
Я хотел проверить прочитанное где-то: правда ли, что немец потому не может, что как личность задавлен государственностью, массовой муштровкой, в рассыпном строю он не может проявить своей личной инициативы, как русский солдат.
– Неправда, вот уж неправда, – ответил разведчик и горячо стал доказывать превосходные качества германского солдата.
– Почему же все-таки не может?
– Почему? а потому, что не может. Нужно это видеть, как вам объяснить: ну вот лежат наши солдатики, один другого кажется хуже, робко лежат, и вот как на них крикнут: «В штыки», и как они тут подымутся, ну, так этого он не может.
– Чего этого?
– А я не знаю, чего…
И опять мы снова начинаем расспрашивать разведчика, и опять он приходил к чему-то неизвестному, и такая у него вера в эту неизвестную величину, что и мы все заражаемся, и прежняя вся критика кажется малодушием тыла, и я знаю по опыту: это настроение мало-номалу по мере приближения к позициям будет все нарастать и, в конце концов, получится та пропасть между <фронтовой> братской линией и всем анализирующим тылом.
Тот юноша, прощание с которым женщины было похоже на судороги умирающей птицы, слушал теперь разведчика с разгоревшимися глазами: он тоже разведчик, только кавалерист, это еще опаснее, только что окончил реальное училище и тоже с «Георгием».
Вот он рассказывал мне совершенно охотничью картину, как он получил «задачу» и едет дозорным, едет тихонько, остановится, следующий за ним тоже остановится, и это передается ядру – все остановятся, смотрим на землю – следы! много следов! ночевали, была засада, думаем… а впереди что-то похоже на окопчик – ехать или не ехать? тихо едем и все думаем: окопчик или так, снег? И вдруг показывается каска в двадцати шагах, залпы… конь вынес, рана зажила. Теперь дадут и не такую задачу!
– Вы говорите о смерти… как вам сказать, мне было <1 нр-зб> вот, думаю, будто я маленький… ополчение, да уж сколько прошло с тех пор! а как будто сейчас было – так быстро прошло. И так же быстро пройдет и все время, такое быстрое, это так коротко, не все ли равно, теперь или тогда. А как теперь интересно! я очень доволен, что я кавалерист, не знаю, что сказал бы, если бы я был в артиллерии или в пехоте, а тут интересно, интересно!
Артиллерист услыхал это, взревновал к своему делу и вмешался:
– Что вы там все с трубой!
– А разве это не интересно, с трубой? а чем плохо: вот я смотрю, да, вот не как в книжке написано, а смотрю по-своему, я ищу наблюдательный пункт, ищу час, два, кустик, речка, ветряная мельница – ничего нет больше, а я все смотрю, смотрю – вдруг вижу: крыло ветряной мельницы чуть-чуть двинулось… кончено! <сразу передаю> два слова по телефону – чик! и нет ветряной мельницы. А разве это не интересно? Или вот, я вижу, вьется по дороге обоз – чик! и как все переменилось, летят лошади вниз головой, люди, телеги, какая-то груда из всего обоза, я все смотрю, смотрю. Я уж теперь смерти не боюсь из-за этого, да я и знаю, что меня не убьют, а если и убьют, то уж не зря, <дорого отдам свою жизнь>. А разве это неинтересно?
И так мы всю ночь говорили, и ночи нам не хватило делиться сказками войны. Счастливый разведчик утром уехал в Гродно, а я остался в Вильне, в близком <к фронту> тылу, виноватый.
16 Февраля. Литовский Иерусалим. Всего одна ночь от Петрограда, и вы у самой-самой войны. Вильно теперь для северо-западного края все равно, что Варшава для Западного…
Поездка в Гродно
Часами стоят и сидят эти серые фигуры военных в ожидании поезда. К любому из них можно подойти и отдать честь его погону, и говорить с ним, и вам будет отвечать голос одного из массы, пережившей событие. (Я подошел к маленькому человечку (доктор), и вдруг он ничего не знает о событиях, он теперь дошел до непонимания: – Зачем непременно разбить? – Жениться. – Если хотите, женюсь принципиально.)
Офицерский вагон: «Горизонтальное положение», капитан сибирского полка с красным носом:
– Мне за пятьдесят, я пятьдесят лет пожил, и никто меня больше учить не может, живу, молчу, никто ничего не знает, и нечего тут больше говорить с вами. Я только слушаю, что мне велят делать, своего фельдфебеля.
Между Августовым и Райсбором шла колонна наших по шоссе, а по боковой дороге германская – тем и другим было нужно выполнить свое назначение, стрелять было некогда, а близко; у наших Митюх вспыхивали цигарки – Митюхи без этого не могут, а там – электрические фонарики.
Как человек, погибал корпус [125]125
Как человек, погибал корпус… – Пришвин попадает на передовые позиции, в отряд, которому было поручено спасти корпус, заблудившийся в лесах, занятых неприятелем. Ср.: Собр. соч. 1982–1986. Т. 2. С. 602–608.
[Закрыть], и слышна была его борьба, пальба отчаянная, и мы шли, и колонна немцев шла: порядком за нами немцы, за немцами наш обоз…
Конец: бой затих, казаки принесли знамя полка… и другое… полки спасены. Снял командир знамя с древка, казаки взяли и увезли.
Артиллерист, счастливый человек, наблюдает, стреляет и ничего не видит, захотел посмотреть действие снарядов – одни руки лежат в деревне.
Общая картина – утомленные серые фигуры, тьма общего… у каждого свой небольшой фонарик, покупаем газеты (счастливо отделался – зубы вышибли), у каждого из нас фонарик и оттого скрытность, каждый рассказывает, но как бы и спрашивает вас: – А что делали, вы что видели, как это понять?
О немцах: не злоба и не жалость, а удивление, как они могут – будто без понимания, без хитрости, просто могут умирать, не пикнет в лазарете, не требует. Ожесточены только в атаке…
С о н. Не мешает записать и что снится [126]126
…записать и что снится… – текст дневника содержит большой материал снов, который имеет важное значение как для понимания глубинных пластов психологии Пришвина-писателя, так и для понимания сна как формы художественного творчества; в поэтике Пришвина генезис сна, в частности, связан с развитием жанра малой художественной формы – уловить, восстановить явившийся во сне образ («как человек погибал корпус»).
[Закрыть] в военное время, я сейчас хорошо понял, что сон – это убежище для личного отношения к фактам, когда они давят вас со всех сторон, как чугунные катки давят по дороге мелкие камешки.
Мне снилось, будто я стою возле Августовских лесов и слышу как близкий мне человек зовет на помощь, он тонет в окнище непроходимых болот, он тонет – я тону, и вот уже не его это голова виднеется над окнищем, а моя собственная, это я сам тону и зову, запрокидываю голову назад, чтобы последний раз дохнуть воздух милого света, в последний раз позвать своего друга на помощь…
Я проснулся и понял сразу, что погибающий друг мой – 20-й корпус, окруженный неприятелем, а отклик души моей – отклик на рассказ офицера соседнего корпуса о том, как он мучился, когда слышал пальбу неприятеля, окружившего погибающий корпус. Меня поразило в рассказе офицера его чисто личное отношение к части армии, казалось мне, он пережил потерю любимого, близкого человека и у него на глазах были слезы…
Не смею сказать крикливое слово «герои», когда все значение их действий, что они погибают в каком-то призывающем нашу душу к ответу молчании…
Полковник снял с древка знамя полка и передал его казакам, те пробились и вынесли знамя, и это значит – полк был спасен. Мы думаем о полке числом, они думают знаменем, возьмут знамя, останутся целы все люди – нет полка, и хотя один казак пробьется со знаменем – полк спасен. Совсем разное отношение, разный счет в тылу и на войне. И сон мой угадал это: погибающий 20-й корпус мне снился в образе тонущего друга.
Весь город как-то задавлен войной, вы берете извозчика в гостиницу и не верите, что он доберется. По одной стороне улицы остановился обоз с сеном, по другой стороне йо-возки беженцев со всякой рухлядью, те стоят, и эти стоят, и некуда разъехаться. Лошади беженцев воруют обозное сено, одни только среди криков, ругани стоят довольные.
Вокруг везде серые фигуры военных, все эти дни бывших в жарком сражении, с виду они, кто не знает, суровые и недоступные, но стоит вот подойти к любому из них и спросить о решительном моменте встречи его с неприятелем, как на лице его появляется какая-то детская улыбка, и начинается рассказ, и вы чувствуете, будто и вас призывают, вас спрашивают ответа в этом, что это значит. Я видел в лазаретах людей умирающих в столбняке, которые на ваши вопросы отвечают глухо, и ответы их слышатся из глубины, как будто из самого ада, и даже у этих людей, когда спрашиваешь их, как получена была рана, появлялось на лице усилие улыбнуться такою же тихой детской улыбкой. Вот это самое, этот свет какого-то детского вопроса тайной нитью соединяет все эти грубые фигуры людей, наполнивших город.
Теперь уже кончено смертельное напряжение, нам теперь ясно, что враг спешит отступать и ведет только <арьергардные> бои, но все-таки еще сохранился этот свет величайшего напряжения духа. Напрасно вы будете спрашивать о значении всей операции, если кто и вызовется объяснить, он видит только из маленького угла небольшую часть горизонта, у каждого зрение при свете небольшого фонарика. Это надо отбросить, это придет потом из общей работы сознания. Сейчас у меня муравьиная работа собирания опыта этих отдельных людей.
Вот этапный прапорщик стоит и смотрит, улыбаясь, как лошади беженцев воруют казенное сено, его и надо расспрашивать в этой области, он этапный, значит, не его дело самое сражение, он, вероятно, возится больше с лошадьми и повозками. И правда, он, глядя на лошадей, рассказывает о какой-то чудесной серой матке с человеческими глазами. Началось общее отступление, оно было, правда, в полном порядке, кроме некоторых частей, если бы не это несчастье с 20-м корпусом, оно было бы «блестящее». Только все-таки это отступление спешное и уж какая тут жалость к лошади. Привели серую матку, прекрасная лошадка, ее ноги в крови, не может двигаться. Окрутили ноги соломой – не идет, ноги не сгибаются, упрется и стоит, гнали кнутом – не идет, вели – не идет, что делать? Прапорщик вынул револьвер, приставил лошади к уху, и она тут и взгляни на него человечьими глазами. Рука не поднялась, нашли <большую> повозку, разломали бока, взвалили лошадь и повезли. Привезли куда-то к главному этапному на двор, а там стоит коней штук двадцать забранных в плен, ценой каждый в пятнадцать рублей. Кричит этапный начальник, чтобы сию ж минуту уничтожили лошадь. Прапорщик не послушался, дал ответ, что уничтожит, а матку поставил в стойло, думая, выживет, отличная будет лошадь. Каждый день ходил потихоньку наведывать – все стоит и не ложится, хоть бы легла – стоит и ноги как чугунные, не разгибаются. Дня три так стояла и пала. И все – я старался расспросить у прапорщика вообще об отступлении, о его занятии этапным делом, он стал жаловаться, ворчать на кого-то… с душой он мне рассказал из этого относительно себя одно только – серая матка.
Столбняк от переживаний. – Это же, что с человеком, – он прослезился, – <делается>.
Я спросил, кем он был в мирное время.
– Бухгалтером, – ответил прапорщик.
– Ничего не знаю, ничего не хочу знать, давно бросил уже интересоваться таким пустым делом, слушаю только, что мне приказывают, и вам рекомендую бросить это пустое занятие, никто ничего не знает!
Так говорил мне пожилой здоровенный капитан-сибиряк с большим сизо-багровым носом, в мирное время, должно быть, большой любитель выпить.
– Нет, ведь подумайте только, – говорил он, действительно волнуясь, – пятьдесят лет прожил, тридцать лет прослужил на военной службе, достиг капитанского чина, и кто же заботится о моем нравственном воспитании, ну, Митюхи (рядовые) – черт с ними, на то они и Митюхи, а ведь я же капитан.
Ужасно возмущается:
– И еще видишь, на глазах в своих окопах немцы пьют, кричат, мерзавцы: «Приходите к нам, будем пиво пить!» – бутылки на палках выставили из окопов. Подлецы! Один пьяный ввалился в наш окоп, очухался, огляделся, видит, русские <солдаты>, хочет уходить: «Русские – хорош, русские – хорош!» Стучит в грудь с гордостью, а мы ему: «Зер гут!»
А раз мы на разведке за горкой и видим, едут пять немцев, тащат за собой катушки (телефон), впереди едет толстенький немец – бочка бочкой. Мы подпустили их, хватили залпами, трое свалились, двое ускакали, подъехали – толстого нет, и видим, толстый упал. Подъехали к канаве, и он лежит в канаве, на спине, бутылка во рту – буль, буль, буль – здоровехонек, только лошадь убита. Митюхи как увидели, что пьет, бросились бутылку вырывать, вырвали, и что же вы подумаете, ну, угадайте, что было в бутылке, нет, вы угадайте, без этого я не скажу…
– Спирт…
– Коньяк Шустова [127]127
Коньяк Шустова. – В начале XX века фирма купцов Шустовых (эмблема – колокол) была главным поставщиком коньяка ко двору и широко известна в России и за границей.
[Закрыть]. По глоточку всем досталось, а толстого взяли в плен.
21 Февраля. Ночь: номер гостиницы, шорохи, запахи множества жильцов, что-то не свое, раздражающее, в одной комнате детский плач, в другой скрип кровати. Вчера там был полковник и устроил себе там семейную жизнь, какая-то дама, может быть, его жена, денщик, он весь вечер читал газету, а сегодня живет кто-то другой с жеребцовым голосом, гогочет, а голос дамы все тот же, они теперь не читают: она мурлычет вальс, и он ей подсвистывает.
Ночью я проснулся как будто маленьким, пели мне детскую песню, опомнился – на улице войска проходят и поют эту детскую песенку. Я понял, что война теперь, и это военное грозное и неумолимое представилось теперь временем жизни моей, годами нынешнего возраста моего, и детская песенка зачем попала в эти суровые годы? И так я посмотрел из окна на проходящие колонны: единственный фонарь освещал проходящие войска, и на улице от него мне было не видно проходящих солдат, но черные тени их на стенах домов двигались одна за одной, мне было ясно видно, как эти черные мертвые тени на белых стенах шли, размахивая руками, рты их открывались и закрывались – все было видно! – и пели мертвые тела мою собственную детскую песенку.
Войско шло долго, я успел жизнь <вспомнить> под их песню и очнулся в обществе своего секретаря. Никакого нет у меня секретаря, но сегодня один еврейчик, исполнявший мои поручения, сказал мне: – Извините, что я скажу вам, вы недостаточно смелы, для ваших дел нужно быть пронырливым и нахальным – вы так не можете, вам нужно поручить это дело другому секретарю.
И сейчас же вызвался быть моим секретарем, значит, быть пронырливым и нахальным. Потом еще мне вспомнилась довольно важная особа, он мог сделать для меня, а когда я выходил, то догнал меня на улице, лысый, в форме, и с какою-то жалкой улыбкой просил меня упомянуть в газете, что брошюра его распространяется в действующей армии. Так я проснулся в обществе своего секретаря, мне представилось, будто он все это нахальное и пронырливое делает для меня и я пользуюсь его материалом и пишу прекрасные военные письма… как это удобно! Но я задумался о своем секретаре, мне стало обидно за его существование и противно, что он вечно пребывает возле меня, и что я уж больше без него не могу, я в плену у своего секретаря. Но ведь это же обыкновенная картина, так делают все настоящие деловые люди, и незаметно их побеждает их собственный секретарь. Мне мелькнуло сначала, что во мне нет этого секретаря, это жизнь имеет в своем составе то существо и, если сталкиваешься с жизнью, сталкиваешься с секретарем…
Так я совсем было успокоился, но опять проходящие войска запели мою детскую песенку, и вдруг я почувствовал – я виноват в секретаре, ведь он же сказал: «Вы не смелы, вы слабы», – значит, я виноват, что я слаб. Эта слабость рождает секретарей. И это все война, все ее ужасы, все это от секретарей, от нашей слабости… человека, человека сильного ждет земля, весь земной шар.
Утром всё проходили колонны, между двумя ротами как-то попала похоронная процессия: коротенькая: простой гроб, ксендз, полдюжины родственников. Сверху из лазарета на проходящее войско и похоронную процессию смотрели белые фигуры врачей и сестер милосердия.
Был на вокзале, осматривал великолепный Виленский перевязочно-питательный пункт, и какой-то очень важный уполномоченный в генеральской форме говорил мне, все показывая: – Я здесь завел чистоту, я устроил эту прекрасную кухню, я <оборудовал> это помещение, я организовал вольную дружину, я распорядился посыпать весь путь перекисью марганца, я наладил добрые отношения между военным ведомством и Красным Крестом – теперь я занят составлением о всем этом книги: я выпущу книгу.
В редакции «Вечерней газеты» говорили о немцах: мое настроение подтверждается. Белорусы – люди тихие, с застенчивой улыбкой, жители лесов с бледно-голубыми глазами (обычай целовать руку у женщины). Говорят, что белорусы по психологии ближе к русским, чем к украинцам, ближе к Москве, чем к Киеву (Киев – степи). Гнет на их культуру и принудительное обрусение способствует колонизации. Белорусы будто бы индивидуалисты.
Летчик казнится за бомбометание, но он был герой, если бы его не поймали, он был бы награжден, он погибает за правое дело, но он в то же время и не прав… он виноват, что летал не от себя и слепо отдался своему чувству.
Немец, учивший нас с колыбели порядку, закону и вообще всякой <расстановке> вещей – погибает целыми колоннами, не желая отступать от своего принципа и участвовать в каком-то хаотическом рассыпанном строю (гибель колонны).
22 Февраля. Поездка в Гродно.
23 Февраля. Сегодня, 23 февраля, было совсем весеннее солнце над Гродно. Сестры за утренним чаем.
В Гродно я остановился в резерве Красного Креста над почтой. У меня есть поручение осмотреть передовые учреждения Красного Креста, и потому в Гродно я остановился в резерве сестер милосердия и врачей – все живущие сегодня здесь принадлежат к составу подвижного лазарета, недавно еще благополучно стоявшего в Лыке. При отступлении лазарет потерял все свое имущество, сестры и врачи теперь обшиваются, закупают необходимые вещи для нового наступления. Кажется, теперь все уже готово, и если достанут стерилизатор, лазарет завтра выступит. Всем хочется с весны опять попасть в Лык и все надеются, кроме старшей сестры Ирины Ивановны:
– Я такая уж несчастная, третью войну сестрой милосердия и как-то все отступаю…
Там в Лыке есть какое-то прекрасное озеро, его все с любовью вспоминают, и потом все удобства жизни сравнительно с русскими! Расположились, приготовились жить долго, мечтали даже встретить весну в Лыке – Дом-замок – и вдруг в несколько дней без имущества, без инструментов, без дела очутились в Гродно где-то над почтовой конторой.
При первом наступлении в Лыке жители встречали русских пулеметами, засадами, теперь они, боясь мести, все покинули город, и русские вступили в город, наполненный товарами, но ни одной живой души там не было… и тут сказались силы немецкой организации: не было ни одной живой души в целом городе!
Небольшая черточка из психологии старшего врача подвижных лазаретов Красного Креста: одной стороной он похож на гувернера, что бы там ни говорили о мужестве сестер, но все-таки они женщины… устают, ссорятся. И, конечно, врачу хочется устроить свой пансион как можно удобнее.
Торопится вступить первым, занять самое хорошее помещение. В Лыке врач облюбовал один большой замок над озером, взял с собой несколько санитаров и пошел осматривать помещение. Вечерело, в городе нет освещения, электричества, водопровода – все это не действует, но магазины открыты, стоят даже извозчичьи пролетки. Со свечами в руках вошли в замок. Все там было так, как будто люди живут, но где-то прячутся, может быть, в шкафах, может быть, в неизвестных комнатах. В детской комнате были игрушки в том беспорядке, как будто только что бросили их и играли, тут были любимые поломанные игрушки. Врач, как семейный человек, понимал, что значат эти игрушки, как хотелось доставить их детям, но где они… казалось, они где-нибудь здесь. В спальной комнате стояли великолепные кровати, в шкафу было белье. В столовой было только что подано второе блюдо… В столовой был камин, достали угли, затопили камин и сели у камина молча: было грустно и жутко и странно в темном городе, в темной комнате, чуть освещенной камином. И вдруг треск, огонь! горящий уголь вылетел из печки, вся комната наполнилась дымом: взорвался порох в печи, потом еще раз взрыв и стало совершенно темно.
Я записываю это со слов доктора, вчера нам это рассказывал:
– Мне казалось, будто весь замок был взорван, но оказалось, взорвался <горючий> порох и <горящие> там угли, ничего особенного, печь осмотрели, опять зажгли, комната согрелась, была освещена. Закусили, разместились спать, но заснуть не могли, все казалось, что-то еще будет. Встали, осмотрели весь дом, даже слазили на чердак – нет, ничего не было, и опять легли спать и опять не могли, измученные переходом, заснуть. Вдруг там, в окне, в темном городе что-то вспыхнуло, бросились к окнам: там, в соседний огромный дом вступили <наши русские> солдаты, они зажгли огни во всех комнатах, в темноте все вспыхнули сразу огни дома, и стало так радостно и спокойно. Тогда все спокойно разместились и уснули.
На другой день среди солдат нашлись инженеры и всякие техники, заработал водопровод, электричество, были пущены в ход трамваи… В магазинах были везде даровые запасы. Началась жизнь.
– Ах, как хорошо в Лыке! – говорили сестры. – Как прекрасно озеро – весной мы будем там.
Только Ирина Ивановна, покачивая старой головой, говорила:
– Я несчастная, я третью войну все как-то отступаю.
Утром, просыпаясь один за другим, врачи догадывались, пришел сегодня стерилизатор или нет, выступать или еще ждать: хочется выступать. За чаем одна сестра вспомнила, что сегодня светит богатое солнце и похоже на весну. Я очень чувствителен к этому февральскому свету еще младенческому, <но уже весеннему>, первый год в жизни своей я равнодушен к нему, теперь мне все равно, все это задавлено войной, и еще я знаю, как будет весной… страшно подумать об этом отравленном трупами запахе, какая героическая борьба предстоит общая со всеми эпидемиями… какая тут весна, какое тут солнце может обрадовать.
А сестра говорит:
– Такое солнце, вот бы в Лыке на нашем озере!
Я взглянул в окно, там все смотрели вверх на небо.
– Вероятно, летят немецкие аэропланы, – сказали равнодушно.
Я своими глазами еще ни разу не видел неприятельского аэроплана в момент метания бомбы, меня это волновало, я заторопился.
– Куда вы, да он же сейчас сюда прилетит, вы из окна увидите, – говорили мне все равнодушно.
Но я все-таки выбежал на улицу. Там было яркое солнце, так все улыбалось, что едва можно было смотреть на небо. Я скоро увидел эту птицу, несущую смерть. Ее, эту птицу смерти, встретили выстрелами, где стреляли, я не знаю, весь город наполнен военными, везде караулы, дозоры, везде могут быть выстрелы.
Навстречу этому огромному летел другой – я не знал, тот неприятель или этот или оба. Вот и взорвались – как один. Мы побежали на дым <и огонь> к месту взрыва: решительного ничего. Небольшая яма в логу чернела на камне. Бомба эта была поджигательная, говорили, что второй где-то упал с прокламациями, третий лошадь убил. Я посмотрел на небо, одного аэроплана не было, а другой вдруг <появился> и стал быстро падать за Неман. Все бежали туда, и я бежал за всеми, пока не достигли патруля и заграждения. За Неман к месту падения мчались казаки, автомобили.
– Чей же упал аэроплан?
Один говорит, что наш, другой – немецкий, я ничего не мог добиться.
Когда я пришел в резерв, то уже знали о катастрофе и тоже спорили, чей аэроплан упал: наш или немца. Спорили, впрочем, довольно спокойно, главное было, что пришел стерилизатор, и лазарет может сегодня выступать. Через несколько часов я проводил четыре <обоза> с красным крестом и сопровождавших <военный лазарет> врачей.
Пожелали все друг другу встречи в платье мирного времени и расстались. Про аэроплан совершенно забыли… и я вспомнил про него только теперь с пером в руках, так что это ничтожно в этих границах, <закрытых> черной ширмою, границах закулисного <скрытого> механизма войны, который стоит тут у них.
Какая-то граница черной ширмою видна перед собой: какая-то часть уходит, какая-то приходит, передвигается <военный> театр. Если пожелать, то можно узнать, говорят почтенные лица, но все как-то не веришь, или никому не веришь, но все время кажется, что никто настоящего <смысла> и знать не может.
Мне нужно было <сделать> сегодня небольшие переезды по железной дороге. Эти переезды возле театра войны чрезвычайно утомительны, несколько часов ожидания поезда, потом купе битком набитое и все непременно курят. Но тут как раз встретишься с <человеком>, прикосновенным к военному делу. В этот раз, кроме молодого офицера, со мной в купе ехал артиллерийский полковник и старый казак с четырьмя Георгиями <на груди>, только что произведенный из нижних чинов в прапорщики. Разговор у него был с полковником о слабом <1 нрзб.>.
Молодой офицер рассказывал один эпизод из последнего сражения под Гродно.
Так разговаривали преинтересно, и вдруг к нам в купе ввалился мальчик лет тринадцати в солдатской форме с ефрейторскими нашивками.
28 Февраля. С поля сражения из Августовских лесов, где были на волоске от германского плена, я попал в католический монастырь. Ксендз, еще совсем молодой человек, дал мне комнату записать свои впечатления. Я начинаю с того, о чем мы говорили с ксендзом, приютившим меня за стенами монастыря 17 века. Я рассказывал ему самое главное, что вынес из этого хаоса: мука побеждается мукой. Нашему отряду удалось из-под огня спасти около четырехсот людей, обреченных на смерть. Три дня я видел, как врачи, без сил и пищи, перевязывали раненых, изумлялся, откуда взялись у них такие силы. Потом Августовскими лесами мы спасались от неприятеля, когда под страхом попасть в плен, или вовсе погибнуть от разъезда врага, шли пешком при страшном морозе, и когда прибывали в безопасные места, опять принимались за работу, – откуда, я спрашивал себя, бралась такая сила? Это и была мука, но этой мукой искупались муки других. С каждым часом работы, мне казалось, люди взбирались все выше и выше на неприступную гору: муки давали силу, муку брали мукой.
Священник слушал меня и вдруг воскликнул:
– Да ведь это же: «Смертию смерть поправ!» [128]128
«Смертию смерть поправ!» – Слова из тропаря пасхального богослужения.
[Закрыть]
Как будто он был поражен и я тоже этим внезапным открытием: мы твердили с самого детства слова «Смертию смерть» и вдруг оказалось, мы твердили это без всякого смысла, и сразу смысл открылся, когда я просто свое пережитое назвал своими словами: мука мукой.
Внезапное открытие повело нас к долгой беседе, и в этот вечер я ничего не мог записать…
Пройдут столетия – какая легенда будет у людей об этой борьбе народов в Августовских лесах, эти огромные стволы деревьев, окропленные кровью человека, умрут, вырастут другие деревья, неужели новые стволы <новых деревьев> будут по-старому шуметь о старом человеке. Нет!
Сегодня еще лежат неубранные <1 нрзб.> трупы людей и животных, вы увидите еще теперь два дерева, связанных <вместе> белым флагом – место, где сдавались последние русские части, на днях нам привезут зарытые там знамена – враги победили, но враги сами погибли от голода. Потом голодных их брали в плен. Мы знаем, как небольшая кучка русских солдат, когда выходили из леса, вела за собой сотни пленных врагов, как они, измученные голодом, хотели бросить этих пленных, гнали их от себя, но пленные в надежде получить кусок хлеба шли, все шли и шли по лесам за русскими солдатами. Голод заставил их забыть родину, и они шли, как голодные псы вслед за новым хозяином.
Это унижение человека переживут деревья. Пройдут столетия, новые стволы будут шуметь о новом мире – неужели новые деревья будут шуметь о старом человеке?
Саперный офицер – полковник – лет за сорок, лысый, длинная борода, нервное лицо… снаряд лежал около <него>, крики, он помнит что-то <1 нрзб.> и все думал: пустяки рана, не стоит перевязываться, нога <задета> осколком; его раздели, и в лопатке рана, кто знает, может быть, смертельная, и так обидно: я ничего не сделал, не может быть, рана пустячная. Она к нему не приходилась, было обидно смотреть <1 нрзб.> (начало обиды детской).