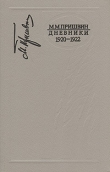Текст книги "Дневники 1914-1917"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Ну, довольно об этом, возвращаюсь к поверочному молебну в нашем селе [260]260
…возвращаюсь к поверочному молебну в нашем селе. – Ср.: Поверочный молебен. // Цвет и крест. С. 73–76.
[Закрыть]. Еду я из города к себе в убийственном настроении, спешу попасть к молебну – назначен молебен на выгоне против церкви в два часа дня. Около этого времени подъезжаю и вижу – несут на выгон хоругви, как красные знамена, с надписью: «Да здравствует свободная Россия! Долой помещ.». И так на всех знаменах одинаково: помещики сокращенно с точкой и через «е». Батюшка, старый человек, выходит из церкви ни жив, ни мертв, начинает молебен слабым голосом. Уполномоченные впиваются в него глазами, вслушиваются. И чувствую я, что не то, нельзя так, и я будто не на молебне, а в киргизской юрте, где сидят все чинно кругом в ожидании еды, а в кругу хозяин собирается резать барана, над точилом точит свой ножик. Мало-помалу батюшка справляется с собой, служба его увлекает, голос крепнет, он забывается и вдруг «Побе-еды, Благоверному императору… – ах! – державе Российской… Побе-еды…» Опять «отцикнулся» и на поверочном молебне! Гул, ропот, смех – жалко, противно, глупо: баран зарезан.
И главное, что не то, не то всё, не на земле мы, а в овраге. Вот тут-то и происходит со мной та беда, о которой я начал писать Вам: происходит то, что в родном округе лишает меня теперь всякого значения. Чтобы предупредить безобразие неминуемое, беру я первое слово – и уж как наболело у меня на душе, по всей правде режу им, что Россия погибнет, и мы теперь точим друг на друга ножи. В ужасе от моих слов бабы, слышатся встревоженные голоса <женские>: «Научите, что делать?». Тогда выходит солдат и говорит: «Слушайте меня, я научу вас, что делать». И вот тогда сразу тишина наступает, и все готовы отдаться солдату.
«Этот помещик вас пугает!» – «У меня шестнадцать десятин». – «Все равно: он вас пугает. Снимите у него рабочего, и он не будет вас пугать, пусть пашет». – «Я брошу дело общественное и буду пахать сам». – «На его место мы поставим солдата, а он пусть пашет. Только, товарищи, верьте мне, есть в Америке плуги нефтяные, и эти плуги пашут в час шестнадцать десятин, этого плуга ему не давайте, отбирайте, пусть пашет сохой». – «Известно, сохой!» – твердят мужики.
Сразу видно, что настроение всех в пользу солдата. Я схватываю голос и говорю: «Если вас моя собственность смущает и вы не верите мне, то я от нее отказываюсь. Примите ее от меня сейчас же, но только с условием: не делить. Все берите: и огород, и сад, и дом, и лошадь, и скот, и землю. Но не делите: обрабатывайте сообща и сохраните так, как я устроил, потому что если вы будете делить, то соседняя деревня тоже захочет часть, вы не дадите, и будет беда». – «Будет беда!» – соглашаются. И как будто подавлены моим решением и готовы стать на мою сторону.
«Товарищи, – говорит тот солдат, – не принимайте, я его мысли вижу: вы примете землю, а он потом вам предъявит убытки. Вот что он хочет». – «Вот что он хочет! Вишь он!» – «У него, товарищи, еж по пузу бегает, а голова хитрая». – «Еж по пузу!» – хохочут мужики.
Конечно, уж и я заодно хохочу, потому что как ни плохо, а от своей слабости к хорошему русскому языку не могу отделаться ни при каких обстоятельствах.
«У вас, – говорю, – у самого еж на пузе, потому вот вы и не доверяете».
Задело это его, обозлился. «Товарищи, – кричит, – не доверяйте интеллигентам, людям образованным. Пусть он и не помещик, а земля ему не нужна: он вас своим образованием кругом обведет!» – «Известно, обведет!» – «А мы, солдаты Московского гарнизона, теперь все хорошо понимаем, мы все организовались, мы даже знаем теперь слова иностранные! Что значит мир без аннексий и контрибуций?» – «Это значит, о мире всего мира!» – надеюсь я. «Слышите: он вас опять к долгогривым ведет, к жеребцам. А мы, солдаты Московского гарнизона, понимаем из этого, что немцы нам не враги».
И потом он долго рассказывал, как хорошо солдаты братаются на фронте с немцами. И так удивительно мне наблюдать, что эти мужики, эти партизаны 12-го года, слушают солдата почти с умилением, и доверие к нему растет с каждой минутой. Вы понимаете, что это же люди, которые три года отдавали своих сыновей на борьбу с немцем! В городе это от головы, от <социалистов>, но деревня неграмотная! С изумлением я слушал часовую речь при восторженном одобрении толпы. Нет ни одного голоса, как в городе, кто сказал бы за борьбу с немцем.
«Товарищи, – продолжал оратор, – земной шар создан для борьбы!» – «Конечно, для борьбы». – «Помните, что не Германия нам враг, а первый нам враг Англия».
Тогда я на минутку схватил голос и говорю в этом духе, что если уж так хочется мириться с немцами всем, то пусть, но зачем же нам создавать еще нового врага Англию?
«Зачем? А вот зачем, товарищи, в подчинении у Англии есть страна Индия, которая еще больше России, и вот если мы против Англии будем, то с нами будет Индия».
Опять удивительное наблюдение: эта Индия, о которой здесь никто никогда не слыхал, понятна всем. Скажи я: «Индия!» – никто не поверит в нее. А вот говорит солдат – и все верят в Индию.
Словом, песенка моя как делегата Временного комитета спета. Со мной проделают то же самое, что и делал Марат. Солдат говорит мужику о «планомерности и хладнокровии захвата» помещичьих земель, о разделах их до Учредительного Собрания и что есть такие даже законы. «Нет такого закона. Все законы бумажные».
«Почему же не подождать всего три месяца? – пробовал я сказать, – не выйдет ли у них сказки о закрытой двери: это вот все дается, и один только заказ не входить в эту дверь. А как раз Иванушка-Дурачок и входит в эту дверь, и все пропадает. И почему не довериться правительству, если в нем социалисты?» – «Мы, – отвечает на это, – правительству доверяем постольку, поскольку оно нам доверяет».
И тут же делом постановили, чтобы рабочих у помещиков снимать и земли их отбирать и делить. «Только ежели ихняя корова в их сад войдет и они шум поднимут, то корову эту выгоняйте, действуйте планомерно и хладнокровно, снимайте рабочих!»
Физиономия какого-то странного субъекта все время мелькает у меня перед глазами: знакомое рябое круглое лицо, в синем пиджаке, сапогах бутылками. Не могу вспомнить, где я его видел, откуда он здесь. Ухожу с луга домой, оглядываюсь и вижу, что он тоже идет за мной. Вспоминаю и не могу вспомнить. Прихожу к себе на двор и, конечно, за мной в дом: «Здравствуйте, не узнаете? Мещанин Молотнев. Вы стоите за правительство, позвольте вас поблагодарить, я тоже стою за правительство, и в душе моей открылся новый микроб». – «В чем дело, Молотнев?» – «Потому я человек обиженный и ко всем прибегаю: лесами занимаюсь, тем живу, раздам задатки, а они меня лишили прав сводить свои леса, вот я лишился капитала и обижен. По секрету вам говорю, как вы за правительство, я свою шайку тоже подбираю, они подбирают, и я подбираю: ножи точим! Помогите, боюсь, а душу мою микроба захватила, микробы новые завелись!»
За мещанином приходит солдат, мелкий собственник, с веточкой замерзших цветов. Он сияет: яблони замерзли на цвету, урожая не будет, как хорошо! Пораженец. Он очень любит свой сад, сдал его в аренду, но арендатор отказался, без караула ветки яблонь непременно будут обломаны. Но раз замерзли цветы, сад останется цел. «Вот у вас, – говорит мещанин, – я слышу, тот же микроб завелся, мало ли их!»
И явно, меня онтоже причислил к своим людям микробным. И я вот сижу теперь и решаю: отстаивать собственность – жить с микробной душой, передать народу – не принимают, разве бросить все на произвол и перебраться в город с семьей? Сейчас не знаю, как поступлю, но это правду сказал солдат, что у всякого собственника теперь еж по пузу бегает. И так все это напомнило мне сцену из моего путешествия по Северу за волшебным колобком…
19 Мая. Митинг. Бабы:
– Видела самого Митинга: вышел черный, лохматый, голос грубый, кричит: «Товарищи, земли у помещиков доставайте, кто сколько может».
– У помещиков, известно, много, а вот еще под Москвой, сказывают, где-то француз в 12 году много земли оставил.
– И под городами тоже сколько земли.
– Под городами! Как же ты из-под городов-то ее выдернешь.
– И очень просто: города, сказывают – отменяются, городов больше не будет. Землю всю разделят мужики и будут жить одни мужики на всей земле, а заместо царя и царицы выберут какую-то Брешку.
Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков.
Безлошадные.
Тогда собрались безлошадные и заговорили: «Не надо земли!» Безлошадные заговорили сразу все разными голосами, но речь их всех была об одном и том же: «Не надо земли! Что нам, безлошадным, земля, когда наши мужики свои теперь пашут ее по восемь гривен за сажень. Мы сейчас кормимся у господ, а тогда кто нас будет кормить. Богатый мужик? Да провались он, богатый мужик: да он обдерет тебя, как лозинку. Не надо земли, долой земля!»
Голос одинокого.
Во все времена всякой революции вы слышите голос человека, не приставшего ни к какой партии, и голос этот одинокий не слушают, и он погибает, потому что он один. Но вот пройдут времена, и голос этот услышат люди, и вспомнят, и узнают в нем голос Распятого Бога: «Приидите ко Мне все труждающиеся, обремененные [261]261
«Приидите ко Мне все труждающиеся, обремененные… – Мф. 11,28.
[Закрыть], и Аз упокою вы».
От земли и городов [262]262
…От земли и городов. – Такое название получил впоследствии цикл из 8 очерков, каждый из которых с 4 мая по 5 июня 1918 г публиковался в газ. «Раннее утро». См.: Цвет и крест. С. 195–209.
[Закрыть]
20 Мая. Письмо в Таврический дворец. Пантелимон Сергеевич!
Передайте Временному комитету Государственной Думы, что я слагаю с себя полномочия делегата Комитета в Орловской губернии, эта деятельность для меня теперь невозможна: я – пленник Соловьевской волостной республики [263]263
…пленник Соловьевской волостной республики. – Ср.: Земля и власть (Восстановление Соловьевской республики). // Цвет и крест. С. 70–73.
В процессе работы в архиве были обнаружены еще несколько записей, относящихся к 1916 году:
Ср.: Волостные республики. Распадаются области, одна за другой объявляя себя республикой самостоятельной, губернии, каждая живет за себя, не сознавая, что опора их – уезды, каждый стремится жить независимо, и в уездах волости, даже села превратились в волостные и сельские республики.
Нечему тут удивляться и нечего пугаться: раз царский трон повален и царем каждый стал, кто захотел, раз признан основной новый жизненный закон самоопределения, то непременно так и быть должно, чтобы всякое сельцо заявило себя особой республикой. Рано или поздно придет время, когда эти самоопределившиеся республики, как муравьи, потащат все свое на постройку целого государства: пугаться тут нечего. Теперь же пока что происходит так, будто муравьиную кучу все муравьи потащили в разные стороны.
Представьте себя на минуту в лесу, в раздумье вы смотрите на муравьиную кучу и вдруг видите, что куча тает на ваших глазах, присматриваетесь и видите, что муравьи стремительно растаскивают ее все в разные стороны. Вы знаете, что тут, не зная законов лесной жизни, ровно ничего не поймешь, удивишься, скажешь: «Стало быть, так нужно» или «Дивны дела Твои, Господи». Только я, зная муравьиную природу, вообще не очень обеспокоился: стащат куда-нибудь, и через день-два куча будет стоять под другим деревом.
Каждый из нас теперь муравей, <несет> свою тяжкую ношу и охвачен тревогой.
Стало тепло. Соловьи запели. Сидим на террасе и думаем, как быть с садом: арендатор наверно откажется, самим охранять – не найдешь караульщика, и не нужны яблоки, лишь бы, обрывая зеленые, не обламывали ветвей. Что делать? Разве цветы оборвать, но как их оборвешь? Или яблоки зеленые оборвать – опять работа немаленькая, ничего не выйдет. Попробовать разве сговориться с деревней, чтобы взяли они половину дохода себе и за это охраняли бы? Но так сделать – подумают, что колеблемся в правах своих на сад. Так ни до чего и не додумались.
Прошлою весну я сводил лес и на эти деньги строил дом для семьи и за этим делом, чуждым моей природе, не видал весны. Теперь мы строим дом для всего народа – государство – и опять не видим весны. Для некоторых в этом строительстве жизнь, другие это считают лишь формой жизни, ее домом. Лева приходит ко мне и, не в состоянии выговорить «социалист», говорит: «Папа, я специалист-революционер!» Другой тихий мальчик говорит: «Всё какие то приключения, когда только окончатся эти приключения!»
Напрасно ждет он конца, эти приключения теперь никогда не окончатся, но только рано или поздно мы к ним привыкнем, приспособимся и, живя, будем их миновать, как летучая мышь летает, не цепляясь в пространстве, опутанном железными проволоками.»
[Закрыть].
Нужно вам знать поговорку: «Орел – проломанные головы, Елец – всем ворам отец». Губерния эта, давшая свету столько знаменитых писателей, чуть ли не самая малоземельная и, наверно, самая истощенная в смысле социальных связей. Елецкий уезд – самый малоземельный в Орловской губернии, Соловьевская волость – самая малоземельная в Елецком уезде, и в Соловьевской волости мой хутор находится между двумя деревнями, самыми малоземельными. Обе деревни, Шибаевка и Ки-баевка [264]264
Обе деревни, Шибаевка и Кибаевка… – местные прозвища жителей этих деревень: шибай – барышник, кибай – буян, драчун. Ср.: Базар (Пьеса для чтения вслух) // Цвет и крест. С. 342.
[Закрыть], находятся между собой в вековой вражде: Шибай барские, Кибаи государственные.
Шибай и Кибаи имеют одинаковую претензию на мой кусок земли, и если какой-нибудь Кибай припашет хоть одну борозду моей земли, Шибай спускает его в овраг, и то же самое сделает Кибай, если припашет Шибай. На этой вражде Кибаев и Шибаев вот уже лет пятьдесят держалось некоторое благополучие хозяйства моей матушки.
Во время войны она умерла, мне досталось 16 десятин пахотной земли, сад, <насаженный матерью>. И вот, представьте себе, что я, собственник прекрасного сада, огорода и 16 десятин распашной великолепной земли, я призван в качестве делегата Временного Комитета организовать для политической борьбы Шибаев и Кибаев. Подозрительны они ужасно. Недавно объяснили им, что такое взгляд со своей колокольни и что такое государственная точка зрения. Слышу, шумят – в чем дело? «Как же так, – спрашивают, – государя убрали, а вы, товарищ, нас опять хотите вернуть на государственную точку зрения?»
Но, в общем, вначале дела шли у нас хорошо и занятно. Местная жизнь, словно раскапризничавшийся ребенок, всюду стремится теперь выкинуть какую-нибудь свою штуку, и в то же время в действительности он живет, вполне подчиняясь тем политическим ударам, которые следуют один за другим в Петрограде: недели так через две-три доходит к нам волна от удара, и местная жизнь в миниатюре повторяет событие.
Не нужно никаких делегатов: живите ладно между собой в Петрограде, и у нас будет ладно. А если у Вас там раздор, то в какое же положение Вы ставите Вашего делегата на месте? Революция совершилась под лозунгом мира и милосердия. Кибаи обошли овраг и собрались в Шибаевке.
По наказу Комитета, я им, прежде всего, объясняю, что никакого двоевластия у нас нет, и они этим очень довольны. Газеты ко мне запоздали, я не знаю, что в Петрограде уже настоящее двоевластие.
Предлагаю Кибаям и Шибаям выбрать хороших людей в сельские комитеты и в советы крестьянских депутатов. Выбирают, шумят несколько дней по ту и по другую сторону оврага. За это время я получил тревожные сведения из Петрограда. Шибай приходят ко мне с жалобой на Кибаев: те будто бы выбрали в совет уголовных. Посылаю записку с советом уголовных не избирать. «Ладно, – отвечают Кибаи, – кому уголовные, а нам хороши». Потом из расспросов я убедился, что явление это в нашем краю всеобщее.
Городские юристы мне объяснили, что это даже законное явление в революцию и что так было и во Франции: вор всегда интеллектуально выше рядового крестьянина. И потом из расспросов я убедился, что уголовные деяния выбранных депутатов – самые пустяковые, успокоился, и дела пошли своим чередом.
Конечно, я не сижу на месте, а езжу по волостям, по уездным комитетам. Спустя некоторое время уездные комиссары докладывают, что их селения организованы: везде учреждены волостные, сельские комитеты безопасности, советы крестьянских депутатов, в городе крестьянские союзы.
Вот в это время докатывается до нас волна раздора из Петрограда, и всюду в комитетах начинают вызывать комиссаров и председателей управ, избираются новые лица, заседания комитетов превращаются в сходы с их насильственным требованием подчинения меньшинства большинству и единогласности постановлений.
Каждая волость превращается в самостоятельную республику, где что хотят, то и делают, совершенно не считаясь с распоряжением правительства и постановлением других волостей и уезда.
В это время на мое клеверное поле едут мальчишки кормить лошадей, бабы целыми деревнями идут прямо по сеяному полю грабить мой лесок и рвать в нем траву, тащат из леса дрова.
За дрова я вступаюсь в волостном комитете: «Товарищи, вы сами же постановили здесь, чтобы дрова не трогать ни владельцам, ни крестьянам и считать их собственностью государства. Я подчиняюсь этому, хотя распоряжения правительства об этом нет, закона такого нет». Солдат, приехавший к нам сюда из Москвы с новыми идеями, говорит: «Как нет закона, а вот закон!» И читает отпечатанную на машинке программу какой-то партии.
Напрасно я объясняю разницу между партийной тактикой и распоряжением правительства, которому мы теперь доверяем. О новом правительстве рассказываю, в которое вошли социалисты. Это еще не дошло до нас: этому не верят. А солдат после меня в двухчасовой речи доказывает, что «земной шар создан для борьбы», и потому, что захватили, то захватили. И в заключение объясняет, что войне настал теперь конец, что первые друзья наши германцы, а враги англичане.
Не мы, конечно, с Кибаями и Шибаями решаем судьбу иностранной политики, и слова эти в нашем краю – звук пустой, но пугает меня, что при таком настроении Кибаи и Шибай непременно срежутся за мой кусок земли, я хорошо знаю, что Шибай барские тайно постановили выселить Кибаев государственных, а Кибаи вышибить Шибаев. Близится время пахать пары, выедут они пахать чужое и непременно сцепятся.
«Непременно приступайте к захвату и разделу земли, не басурманьте, планомерно и хладнокровно снимайте рабочих у помещиков». Тут же солдат причисляет и меня к помещикам, хотя у меня трудовая норма, и всех собственников из крестьян, у кого есть рабочий, причисляют к помещикам. Меня уже совершенно не слушают, потому что я собственник и держу сторону правительства.
Все имеют видимость полного единодушия, полного единогласия, но вы не думайте, что это изнутри, в этом и горе, что это только снаружи: внутри напряженное состояние раздора. Тут же, прямо с собрания по пути со мной идущие крестьяне, которые голосовали все время со всеми, говорят мне потихоньку: «Начали вы так хорошо, почему же вы под конец смялись?» – «Что же, – говорю, – лезть на рожон, меня бы арестовали или избили». – «Избили-то бы, конечно, избили, а почему же правительство не дает вам казаков?» – «Казаков? Господи ты, Боже мой: да я же вам целый месяц толкую, что все дело теперь построено на добровольном согласии». – «Это невозможно: п р а л и ч нашего брата смирит! Возьмите хотя бы вот живут спокон веку у нас бок о бок Шибай и Кибаи…».
На другой день прислуга заявляет, что ее снимают. Работник тоже заявляет, что снимают, и горюет, как ему быть: он безлошадный. Приходят другие безлошадные и вопят, и причитывают: тяжело, теперь берут с них за вспашку десятины 30–40 руб., что же будет, когда вся власть перейдет к мужикам? Кричат: «Не нужно земли, долой землю!» Это очень характерно: революционер малоземельный в деревне <3 нрзб.> против…
Собственники приходят и трясутся, как осиновые листы. Но всех хуже мое положение. Снимают рабочего, на днях нужно пар пахать. Если я не буду пахать, то выедут Кибаи и Шибай и сцепятся между собой… Днями и ночами обдумываю в семье положение: дороги все эти деревья, с которыми вырос, все эти яблоньки и липки, похожие на теток и бабушек, и разные мечты о земле, пережитые тут при чтении с детства Толстого, Успенского, Лескова, Тургенева, и труд, вложенный в постройки… Но все это пустяки, если бы можно было кому-нибудь передать. Но кому же передать? Волостному комитету? Тот передаст в сельский комитет Шибаям. Кибаи бросятся на Шибаев, и все будет разграблено. Вы понимаете: выход остается один, выезжать мне и начинать пахать пар самому, жене доить коров, мальчику пасти.
Слава Богу, что не обижены все мы здоровьем и можем это все делать не хуже наших крестьян. Но куда же денется принесенная мной сюда как делегатом Временного комитета Государственной Думы – идея законности, куда денется социалистическая идея Земли и Воли?
Как обыкновенный собственник-фермер, веду двухлемешным плугом длинную борозду от сада до леса, жена тут же варит кулеш, мальчишки пасут. Изумленные смотрят на меня с этой и с той стороны оврага Шибай и Кибаи. Они думали, что это невозможно и очень будет смешно. Но невозможное совершилось, и смешного нет ничего: веду борозду и веду.
Одно плохо, что в уезде сильно развилась преступность.
Опасно даже на одну ночь бросить семью без мужика и поехать куда-нибудь по делам общественности. Я прикован к своей собственности, я в плену. И, кроме того, Шибай и Кибаи все надеются, что я брошу пахать, и они в битве друг с другом завоюют себе по небольшой полоске хорошей земли. С мечтой социализма Земли и Воли [265]265
…с мечтой социализма Земли и Воли… – Имеются в виду народовольческие идеи, связанные с именами А.И. Герцена и Н.Г.Чернышевского. «Земля и воля» так назывались революционные организации в 60-70-е гг. XIX в.
[Закрыть] я распят на кресте моей собственности.
Надеюсь, что как-нибудь все переменится, и я буду иметь возможность расстаться со своей земной собственностью и удрать от нее. Есть кое-какие хорошие признаки. Вчера, например, старушка говорит мне: «Война скоро кончится, прислал письмо сын, что солдаты дали подписку наступать и германца прогнать». Думаю, не дошла ли новая волна до деревни. Собираю сход вечером, говорю им, что все бабы и дети их обижают меня: топчут клевер, <тащит дрова> парень в лесу. И вдруг весь сход в один голос говорит: «Лови!» Такой поворот меня удивляет, спросил, что делать, когда сам поймаю. «Крой дубинкой! Крой дубинкой!»
Как неправильный на один волосок прицел дает в миллион раз большую ошибку на мишени, так же теперь уклонение от истины в столице в речи какого-нибудь волостного оратора неисчислимый вред наносит провинции. Так, в столице какой-нибудь скромный и молчаливый солдатик, послушав таких речей, разрывается, как граната, в деревне. С пафосом религиозного сектанта бросает он в темные головы иностранные слова, за которыми один смысл: захват и анархия. Изумительно бывает слушать, как страстно призывает такой оратор к отказу от захвата вне страны и так же страстно к захвату внутри страны. И странно, как этот отказ от захвата вне, в мужицкой голове читается, как захват внутри. Это понятно: враг наш оказался не внешним, а внутренним, немец и война обращаются внутрь, война гражданская.
21 Мая. Троица.
Новая Земля.
Прежние либеральные газеты («Русские Ведомости») живут и чувствуют себя, как мелкие собственники, которые, уложив в собственность все свои лучшие силы и видя захват этой собственности теперь, возмущаются. И всякий, кто организовал свои способности, живя на старой почве, возмущается. На митингах встречаются и такие ораторы, которые хотят из-под городов взять землю. Выход из этого положения один: нужно вновь организовать свои способности на новой земле.
План Германии.
По городам и селам успех имеет только проповедь захвата внутри страны и вместе с тем отказ от захвата чужих земель. Первое дает народу землю, второе дает мир и возвращение работников. Все это очень понятно: в начале войны народ представлял себе врага-немца вне государства. После ряда поражений он почувствовал, что враг народа – внутренний немец. И первый из них, царь, был свергнут. За царем свергли старых правителей, а теперь свергают всех собственников земли. Но земля неразрывна с капиталом. Свергают капиталистов – внутренних немцев. С ними вместе отметается собственная <часть> организованных способностей: буржуазный интеллигент. После всеобщего разрушения собственности наступит новая эпоха: разрушители поймут и увидят своими глазами, что внутренний немец находится лично в каждом из нас. Тогда наступит какой-то последний акт трагедии; и некий раб хитрый вошел в жилище господина своего и умертвил его, и ел, что ест господин, и спал на постели его <как господин>, но не получил он сытости от стола господина своего и отдых на постели его. Так в сказаниях Библии тощие коровы пожрали тучных [266]266
тощие коровы пожрали тучных… – Быт. 41, 17–20.
[Закрыть] и остались такими же тощими.
Узел.
Впереди общества теперь бежит разрушитель и проповедует захват собственности. Он гол и ничего не боится. Его догоняют и стараются забежать вперед люди не настоящей собственности материальной, но с организованными способностями. За ними собственники мелкие, которые думали, что жили на земле вполне по разуму и совести. За мелкими крупные. Злорадно сидящие под арестом, смотрят в ожидании немца на эту погоню. Другие голубыми глазами смотрят на небо и чают приближение нового мира.
Кто из всех них захватит власть устроить людей? Кто развяжет узел?
Министры говорят речи, обращаясь к столичным советам, съездам, к советам съездов, к губернским комитетам, уездным, волостным и сельским. А во всех этих съездах, советах и комитетах разные самозваные министры тоже говорят речи, и так вся Россия говорит речи, и никто ничего не делает, и вся Россия – сплошной митинг людей, говорящих противоположное: от кабинета министров до деревенского совета крестьянских депутатов.
Чуднее всех говорят женщины на Бабьем базаре.
Власть и смирение.
Ястреб сидит на раките у заводи и смотрит на отражения и думает: какая глубина в воде, какое смирение при отражении в воде облаков и рыбок. А воды всего-навсего два вершка, мельницу прорвало, вода сбежала, и там, где были отражения небес и подвига смирения, по грязи скачут лягушки. Так власть, отражаясь в зеркале смирения, почиталась бесконечно сильной и смирение бесконечно глубоким. И вдруг спустили мельницу, и каждая лягушка почитает себя за министра, прыгает и выговаривает, гордясь, слова иностранные.
Духов день.
Сегодня возле церкви будет митинг, на котором «серые министры», вероятно, постановят снимать рабочих, в том числе и у меня – результат проповеди Ленина, Разумника и прочих максималистов.
Хорошая сторона захвата, что это дает синицу в руки плохое, что это должно расстроить снабжение городов хлебом, понизить культуру земли, обещают резню между крестьянами и необходимость усиления существующей теперь диктатуры «пролетариата», потому что потревоженные собственники зашевелятся.
Если сегодня не снимут Павла, завтра я подаю заявление в Сельский комитет безопасности: «Везде говорят, что с моего хутора хотят снимать рабочего Павла. Так как я нахожусь на службе в Государственной Думе и должен на днях ехать туда и не могу семью свою и хутор оставить на произвол, то прошу сельский комитет общественной безопасности выдать мне письменное удостоверение, что он не допустит снимать у меня рабочего. Если Комитет в таком удостоверении мне откажет, то от государственной службы я немедленно откажусь, рабочего уволю и работать на хуторе буду сам».
Положение выходит острое, и, признаюсь, хочется чтобы сняли: тогда все увидят, что я не барин, могу работать и, в конце концов, я заставлю уважать себя и мне верить. Работа будет каторжная до глубокой осени, но что справлюсь, в этом я уверен.
Спасения души в земледельческом труде, как проповедует Толстой, я не вижу: нельзя спасать дух посредством обработки капусты, как нельзя сделаться православным, переменив скоромную пищу на соленые огурцы. Но в это переходное время хорошо сделать орудием борьбы труд земледельческий, такой видимый для этих первобытных людей.
Главное, я глубоко убежден, что все эти земледельцы наши, пашущие в год по десятине земли, понятия не имеют о настоящем земледельческом труде. И жажда их земли есть жажда воли и выхода из тараканьего положения. Наши красные министры понятия не имеют, как мало пахнет тут социализмом и какое во всем этом деле совершается насилие Интернационалом. Соберется теперь этот интернациональный идол и наши скажут иностранным социалистам: «Вы только думаете, а вот у нас уже сделано, вся наша огромная страна принесена в жертву вашей идее, последуйте нашему примеру». – «Дураки, – скажут иностранцы, – вот уж правда: заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет».
Борьба – холодная жена. С холодным расчетом разума выходит будущий победитель на поле сражения. И пусть он, будущий победитель, кипит и горит, жена его ледяная, холодная.
Насилие.
То, что называется теперь анархией, по-видимому, совершенно противоположно истинному значению этого слова: анархист ненавидит не только внешнюю власть, городового, но и самый источник ее, право распоряжаться личностью другого, насилие. Между тем в этой анархии, которая теперь у нас водворилась, характерна претензия каждого на роль городового. Их речь, эти иностранные слова, которые они повторяют, как попугаи, их костюмы, их призыв к захвату – все это выражает отказ от своей личности и призыв к насилию.
Вот и сейчас проходит перед моими окнами с красным флагом сельское население на «митинг», одеты они так, будто вот сейчас разграбили какой-то город и надели на себя кто что смог утащить: один в крестьянских сапогах и в сюртуке, другой надел на голову цилиндр, девушки в шляпах, а новые верхние юбки, опасаясь дождя, завернули кольцами, спасательными кругами на бедрах. И будь тут ненастье, дождь, все равно ей непременно нужно три раза в день переменить свой туалет: обычай, наверно, перенесенный в деревню господскими нянями.
Как ни пыжатся ораторы, произнося иностранные слов в своих речах, как искусственно ни вздувается ими ненависть к помещикам, к «буржуям», все это не они сами, почивающий на них дух обезьянства и насилия.
Скажут, что это «переходное время», но всякое время есть переходное, правильнее было бы сказать, что это переходное время от обезьян к человеку: мы теперь видим своими глазами, что человек действительно произошел от обезьяны.
23 Мая. Свободу понимают так разнообразно, что для суждения о ней необходимо обратиться к опыту: лакмусовую бумажку надо найти и посмотреть в это время свободы, насколько эта бумажка свободы покраснела. Это состояние духа от неизвестных причин: поет человек, а отчего, неизвестно. Нытиков теперь нет, много испуганных, но нытиков нет: жизнь интересная.
Теперь много мальчиков, бегущих за бабочкой свободы, но столько же людей, вновь свободы лишенных.
Федот «измывается» над Лидией: «Пахать, пахать больше не буду, напахался, так жить у вас буду, а па-хать-ать отпахался…» <Лидия отвечает>: «Будет же кто-нибудь пахать?» – «Мало ли что: для себя, а для других больше пахать не будем».
В Лысовке все еще живут, как в старые времена, до них не дошло. Дуничка приехала с Арсением в нашу бунтовскую волость и ужасается беззаконию. Арсений же, быстро ознакомившись с положением, сказал: «Какая у нас в Лысовке еще темнота!»
Когда помещик во время ли сенокоса или уборки хлеба <со> своими рабочими не справится и нужно поклониться мужикам и они на короткое время становятся господами, помещик как бы теряет власть свою, то вот как ведет себя мужик, похоже <на> теперешнее положение правительства – во власти разных советов рабочих, солдатских, батрацких – уж они-то ломаются, вот уж они-то измываются: доверяем постольку, поскольку и прочее. Будь водка, но водки нет, и власть бессильна.
– Денатурату, – говорят, – дашь – сделаем.
Но у помещика и денатурату нет. Вот этого денатурату – власти – и нет у правительства.
Оратор-солдат расскажет мужикам про иностранную политику, что вот-де нужно действовать без захвата чужих земель, потом прочтет из внутренней политики программу, что во внутренней политике нужен захват чужих земель, и пункт этот своей программы назовет законным. Тогда выступает комиссар и говорит, что закона такого нет, и если они соглашаются с этим, то они, значит, не доверяют правительству.
– Как не доверяем! – кричит оратор, – мы доверяем ему вполне, поскольку оно нам доверяет. – Поскольку оно, стало быть, с нами! – подхватывает весь митинг. И начинается лицемерное ломанье. А если комиссар стоит на своем, его смоют. И если он потом, уже смытый, говорит не как должностное лицо, а как гражданин, физическое его бытие в явной опасности.
Тогда к нему, смытому, забитому, униженному, потихоньку подойдет какой-нибудь благоразумный мужичок и скажет – Товарищ комиссар, а нам это необходимо, о чем вы говорили, чтобы закон и подчинение власти. – Почему же вы не стояли за меня и даже руку подняли за солдата? – Разве можно, – отвечает он, – я вам совет дам: просите правительство, чтобы вам для охраны давали казаков, много тогда найдете приверженцев и даже часть, а может, две части…
Конец имения.
Митинг. Снимают рабочих. Сундуки проверять! Критический момент имения Стаховича. Речь поповны. Ночь бессонная: переход к ручному труду.
24 Мая. Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи злобствуют на меня за то, что я хочу ввести закон и <порядок> в этот хаос.
Внутренний немец: они видят его в помещике (перенесли на меня), а я его вижу в них, в этом солдате-ленинце, который посеял дух раздора между Кибаями и Шибаями. Я потому и чувствую себя военнопленным у этого внутреннего немца.
Депутат.
Сбились мужики, смялись, запутал их солдат совершенно, хотели, было, прямо с митинга идти снимать у Стаховича рабочих. Известно, что из этого бы вышло: человек триста пойдут – кто к Стаховичу снимать рабочих, а кто в парники, в сад, в дом. Барышня остановила толпу своей речью: смялись мужики, сбились и постановили отправить в Петроград депутата, узнать, что делать с землей.
С одним депутатом вышло так, что съездил, собрались его выслушать, и когда он хотел рассказать, то ничего не может рассказать. Спрашивают: где был, что видел, что слышал. «Был, – говорит, – везде, все видел, все слышал, а рассказать ничего не могу, забыл». Бились, бились с ним, ничего не выходит, отложили до другого дня, опять собрались. И опять ничего, спутался, смялся человек и забыл все совершенно. А на дорогу ему дано было сорок рублей! Думали, думали, что делать с ним, и постановили: арестовать. Вот ведь какие депутаты бывают!