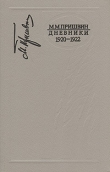Текст книги "Дневники 1914-1917"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Вероятно, на войне есть такие моменты, когда участвующий, вспоминая свое прежнее хозяйство, свою службу себе, удивляется, как он тогда не мог чувствовать службу общему делу. Государство – это большое имение. Во время войны внезапно рушатся перегородки отдельных хозяйств, исчезает огромный хозяйственный рычаг – свое! и заменяется – общее!
Цена – мера времени. Разврат цены: уничтожение договора и совести. Спекуляторы – те, кто следит за временем. Возмущение спекуляцией характерно для обывателя, но как серьезно возмущаться спекуляцией, если мы живем среди хозяйственного мира, главный рычаг которого есть стремление к личной выгоде! Уничтожьте этот рычаг – исчезнет спекуляция.
Немой колокол. Рассказывал мне один звонарь, что однажды под Ильей Пророком язык оборвался, рухнул, пробил под собою все колокольные подмостки и зарылся внизу – так вот и в моей жизни случилось: так хорошо все звенело вокруг, и вдруг все оборвалось, и я, немой, лежу у земли.
Где-то звонят, но я лежу немой, в пустоте, все оборвалось. Только есть у меня тайный друг, он такой близкий и единственный, и неприкосновенный, и неназываемый.
Стоит мне сделать усилие, сказать о нем, приблизиться к нему, как я чувствую – язык мой колокольный, стопудовый, лежит, глубоко зарывшись в землю. И если друг мой во сне хочет посетить меня, то является только в уродливом виде.
Я хотел бы звонить о самой простой человеческой радости в большой колокол. Я знаю, что и тот мой недосягаемый друг – простая земная радость, что незнаемое, неназываемое есть у всех. Мне кажется, у меня одного нет того, что у всех есть, и это предмет моей печали. И этот мир, и этот радостный мир простейшего, и печаль моя кроткая с людьми, лесами, полями моей родины.
Вот этот всем нам известный порочный круг объяснений дороговизны нашей жизни: высокие цены предметов первой необходимости промышленники объясняют вздорожанием рабочих рук, а сами рабочие свои повышенные требования справедливо объясняют вздорожанием предметов первой необходимости – земля стоит на китах, киты лежат на воде, вода на земле. Общество, печать, государственные деятели – как в поисках философского камня ежедневно дают нам картины своих усилий найти первопричину всеобщего зла.
Вокруг меня люди – каждый в отдельной беседе кажется Мининым, спасающим отечество, но стоит поговорить с другим, как узнаешь с очевидностью, что этот Минин сам вертится в порочном кругу. На дне души этого Минина вы с отвращением найдете какое-то почти естественное, законное оправдание своему бытию: во всякую войну наживаются, а такой войны не дождешься во много столетий!
Записки, найденные в подвале одного большого купеческого дома в Ельце. В этом городе много погибло культурно-ценного в процессе одичания купечества. Без сомнения, много было отщепенцев из купеческого рода, которые боролись за установление связи между этим бытом и миром. В том числе был, вероятно, и автор записок. Все знали его у нас, как большого чудака и очень странного человека, блуждавшего всю жизнь по России и даже заграницей. После смерти его родителей он возвратился в родной город и поселился у. себя в бане, а дом сдавал под квартиры. Известен он был у нас как художник [222]222
Известен он был у нас как художник… – Ср.: рассказы «Загадка», «Наш сад» //Собр. соч. 2006. С. 592–603.
[Закрыть], хотя ни одной картины его никто никогда не видал. Один всемирно известный художник посетил его однажды в этой бане и нарисовал его портрет. Недавно я встретил в концерте этого художника и спросил у него про нашего затворника: «Что, он талантливый был художник? – Нет, – ответил он, – как художник он не был талантливый. – И, подумав немного еще, сказал взволнованно: – Но он был гениальный, да, он был гениальный… человек-Записки представляют из себя кучу бумаг, объеденных крысами, местами все перепутаны и редко в них одна мысль перекидывается с одной странички на другую – все представляет из себя хаос мыслей, слов, наблюдений, писем адресованных, но не посланных…
По хозяйству. Весь день, как черные вороны, кружились над полем тучи, и мы их заговаривали: «не пойдет!», «обойдет!», «свалит!». Мы дошли до нахальства и прямо так, заговаривая под до того нависшими тучами, косили, не заботясь о стаскивании снопов в кучи. Так мы дошли до конца этого поля, теперь нужно бы до темноты стаскивать снопы в копны, и все поле было бы спасено от дождя. Но на той стороне и за лесом оставалось скосить еще две десятины – пустяки! из-за этих двух десятин не рисковать же всем полем. Но руки разгорелись, и косцы, не спрашиваясь нас, перешли на ту сторону. Мы уговаривали, упрашивали, приказывали, но косцы отвечали:
– Обойдет, свалит!
(Такие черные крылья…)
И продолжали косить. Громадной черной птицей раскинулась по небу туча, вечерело, темнело, накрапывал дождь, но косцы все отвечали: «Свалит, обойдет!»
И туча обошла, рожь докосили благополучно и всю сложили до ночи в копны.
Победа осталась за нами, всем стало весело, начали обычный разговор о том, нельзя ли где-нибудь достать «черного» спирту.
Мы победили, потому что нас было очень много, и все могли скосить в один день (на другой день пошел дождь), а еще потому, что нам помог счастливый случай. В душе оставалась все-таки неудовлетворенность и тоска от этого счастья, потому что счастье это было незаслуженное… больше не будет, подневольный труд кончается – как-то будет. Но все-таки весело, потому что нас было много. И так хочется дать ответ нашим врагам: вы нам не страшны, потому что etc…
В деревне, в глубоком тылу, даже не в тылу, а за всяким тылом войны, где сохранилось еще некоторое подобие прежней, обыкновенной жизни, где люди косят рожь, кормят скотину, иногда играют на гармонии и иногда ходят друг к другу в гости, – тут, конечно, люди далеко отстают от времени. Только цены – верные служанки времени – являются к нам и по-своему подгоняют отставших, вечно напоминая им о грозных событиях мировой жизни (не цена, а рынок – изменили все отношения: вежливо). Неизвестно, к добру или злу, но цена попирает все наши бывшие до сих пор законы и забирается в самую совесть. Ужасающе растет цена и особенно на труд, но к добру это или ко злу, я не знаю.
<По поводу> наших военных неудач в Восточной Пруссии: как-нибудь переждем, перетерпим. Или как во время запрещения водки.
Стоял в сахарном хвосте, весь погруженный в самую природу сахара.
«Водка и сахар, – думалось мне, – два продукта столь же близкие по своему химическому составу, по своему техническому производству, как порох и гигроскопическая вата. Из одного и того же хлопка захочешь, и будет порох – средство для нанесения ран, захочешь, и будет вата – средство для исцеления этих ран. Точно так же – захочешь, будет водка, захочешь, и будет сахар». На этом месте, однако, моя аналогия оборвалась, мы переступили еще один шаг к сахарному магазину, и новая тема предстала мне: почему запрещение водки вызвало такой необычайный подъем общественных и государственных сил и, наоборот, запрещение сахара действует почти в равной степени в другом направлении. Вот, например, вспомнилось мне, как прошлый год во время запрещения водки крестьяне знакомого села бросились помогать семьям, пострадавшим от набора, а теперь в этом же самом селе, теперь в эпоху запрещения сахара в этом селе за вспашку у бедной семьи берут тридцать копеек за сажень, значит, восемнадцать рублей за десятину…
Маклер сводил к движению беженцев: больше беженцев, меньше товаров и наоборот. С маклерами заспорили: товары останавливаются из-за беженцев, но почему же сами беженцы останавливаются? Вот будто бы в Туле стоял вагон с беженцами целых полторы недели, и на нем было написано мелом место назначения «Тула», потом кто-то подошел к вагону, стер рукавом меловую надпись, написал «Пенза» и так вагон с «Пензой» стоял еще недели полторы.
Услыхав это, биржевой маклер совершенно забыл о своей цели разъяснить для публики общую причину задержки и вздорожания товаров. Маклер рассказал, что будто бы уже недели две стоят здесь на Николаевском вокзале в ожидании разгрузки двадцать вагонов Терещинского сахара, и это он слышал будто бы от самого доверенного Терещенки.
После этого можно себе представить, как поднялось настроение сахарного хвоста, делающего полшага в три минуты! Не было ни одного человека, кто взялся бы разбирать общее положение, исходя из веры, надежды и любви, кто сказал бы, как прошлый год…
Тысячелетняя колотушка. Собеседник уходит, оставив мне повестку на заседание Городской Думы. Мне остается от него еще и задача – наполнить данную им формулу нашего горя содержанием. В тишине своей комнаты, в родном городе я пытаюсь обдумать жизнь своих предков-купцов. Погружаюсь в свои воспоминания, и вдруг под окном моим раздается звук колотушки. А не так давно в Петрограде я сидел в ресторане с одним знаменитым артистом. Утомленный своими путешествиями по всему свету, с каким наслаждением вспоминал он родную колотушку! Нам казалось, что это давно прошло, и никогда уж мы больше не услышим ее… тысячи лет тому назад звучала колотушка, как милы были нам воспоминания о неведомом стороже, проходящим где-то в темноте улиц под звездами. Казалось нам, тысячелетия прошли с тех отдаленных времен. И вот она, та же самая колотушка! Погруженный в свои воспоминания, как пьяный, выхожу я из своего дома и не спотыкаюсь – удивительно! – на улицу, залитую лунным светом. Я спотыкаюсь о тот же самый камень – правду. Помню, еще когда-то кто-то из моих предков-купцов говорил об этом камне: «Что в этом камне, лежит на пути, все о камень…»
Сельскохозяйственная перепись. В целях лучшего исполнения переписи уезд разделяется на участки с особой участковой переписной комиссией во главе. В состав этой комиссии входят старшины участка, представители кооперативов и лица, рекомендуемые председателем. На обязанности комиссии лежит наблюдение за ходом работ. На руках председателя будет находиться денежная сумма для выдачи авансов. Самая перепись будет произведена особо приглашенными лицами под руководством инструкторов.
Бумага заканчивалась: «Управа имеет честь просить Вас принять на себя звание председателя участковой комиссии и ввиду государственного значения переписи надеется на Ваше согласие».
Речь шла о той переписи, про которую говорил министр земледелия в своей речи в Государственной Думе. Но я этот номер газеты случайно не прочел, а потом больше не встречал статей о переписи и о присланной бумаге теперь подумал, что, вероятно, тут дело не в переписи, а в предварительной подготовке общественных сил для организации мелкой земской единицы и вообще о начале устройства…
<Хотя я> занят добыванием средств существования, отказаться от такой деятельности я не мог и, оторвав от вспашки пара лошадку, послал в город ответ, что согласен и за честь искренно благодарю.
Не все поймут, как мог я принять на себя общественное дело, раз дело свое личное задавило меня от головы до ног. И в другое время я никогда бы не стал этого делать и осудил бы всякого, кто, не устроив свое хозяйство, самого себя, хватался бы за падающие с неба общественные дела. Но теперь трудно так отчетливо рассуждать. Так больно, так страшно жить в этой неустроенной темной России, среди населения, которое жертвует всем для государства и в то же время, как мир переделывается, другие ищут смысл – лепечет какую-то ерунду о войне (и смысле своих жертв).
Я уже около года живу так, перемещаясь с фронта в тыл все глубже и глубже. Был на фронте, в тылу первом, втором, третьем, ступенька по ступеньке спускаясь в какой-то совсем особенный мир за всяким тылом войны. Иногда я себя представляю каким-то принципиальным дезертиром: где-то за тылом ищу такой край, где одновременно с разрушением создавалось бы нечто. Люди и тут, конечно, живут для какого-то общего дела, но оно, как общее дело, им совершенно неведомо. Конечно, и там и тут государство. Но как поле ржи, все зараз обозреваемое – и поле ржи, если войдешь в него внутрь и смотришь, как тощий колос зажмура пробивает себе путь среди высоких и жирных товарищей. Жизнь в этом за тылом войны кажется совершенно противоположной общему делу. Но вот представляется: вышел на пригорок, увидел все поле ржи, все наше дело, – как хорошо! Так и мне представилось, когда я получил бумагу о деле: председательстве в местной новой России, будто вышел из тюрьмы своего дезертирства, свет увидел и от этого дела сам стал другой.
Прошло недели две, три, я не получил никакого приглашения на совещание, никакой инструкции, никакого разъяснения. Только время от времени рабочие мне говорили, будто где-то в какой-то волости уже началось это мое будто бы дело: описывают, отбирают скот, уводят последнюю корову. Я не мог себе представить, что это та самая перепись, я не думал, что может начаться без меня, председателя. Начиналась настоящая паника, у кого было две коровы, стали их продавать, кто берег лошадь для рабочей поры, спешили с нею расстаться (все это не по дням, а по часам).
В ожидании, что вот-вот меня оторвут от леса, я лихорадочно работал, стараясь как можно скорее расстаться с неудобно-хранимым товаром – дубовой корой. И дни стояли сухие – кора больше сена боится дождя. Так дошло, наконец, что все богатство мое – эти пучки дубовой коры были расставлены для сушки на козлах на большое пространство по пару. И мне оставалось только беречь как глаз свой каждого рабочего…
…скорость протекающего времени. Но кто подумает о том, что вздорожание мяса на пятачок означает какую-то скорость времени. Всякий думает, выгодно это ему или невыгодно, и ему, только ему.
Может быть, никогда в мире человеческом не были так раскрыты карты жизни, как в этом сопоставлении личного дела где-то за тылом войны и общего где-то на фронте.
Вот стоит теперь стена стеной, выше всякого нашего роста прекрасная рожь. Войдешь в нее и видишь, как тощий колос – зажмура пробивает себе путь среди высоких и жирных товарищей, какая тут между колосьями нажива, сплетня, грызня. Но вышел из хлеба на пригорок, увидел все поле, – как хорошо! Так и мне представилось, когда я получил бумагу и понял ее как предложение участвовать в строительстве новой местной России, будто увидел все поле. И я, оторвав лошадку от вспашки пара, послал в город свой ответ, что готов послужить и за честь искренно благодарю.
1 Декабря. Храбрый заяц. У зайцев тоже есть любовь. Зимой из окна лесной избушки видел я не раз, как выбегает белый на лесную поляну и становится на задние лапки, и другой выбегает на поляну и тоже становится на задние лапки против первого, и третий, бывает, так прибежит, – постоят и опять в лес, и, смотришь, к весне уж зайчиха с дитятами (поймали поповы дети зайчонка – стал зайчонок ручной, на огороде кормится, и к ней повадился из леса ходить храбрый заяц).
4 Декабря. Причина войны есть причина происхождения власти. И такой возникает вопрос, что и никогда не кончится война, а промышленность к ней приспособится. С другой стороны: если бы кончилась война, то тем ясней стало видно по людям, что сейчас же начнет собираться другая. Время, когда понимание войны историческое перешло в понимание психологическое: первое понимание дает представление о последней войне, второе – в бесконечность.
5 Декабря. На предварительном открытии мощей Иоанна Кронштадтского, напряжение ожидания.
В регистратуре больше знают о Григории, чем наверху и отсюда ходят к нему место просить. О Распутине. Наглые глаза. Руку поглаживает – женщина все испытывает. В этой среде только про это и думают. А так правда ли, что большая часть нашего времени проходит под влиянием пола? В этом ошибка Розанова. Потому общественники его и ненавидят. А если так, то как характеризовать остальное: труд в обществе себе подобных для добывания пищи, честолюбия и прочее.
Беспокойство от сестры св. Георгия: в тихое дремлющее бюро нашего ведомства она внесла со своим появлением шум, в ее движении, в ее голосе слышался нам скрип обозных телег, крики погонщиков, стрельба и суета возле раненых, и среди всего этого хаоса сама она с надтреснутым сердцем, болезненно стремящаяся вперед и ничего не понимающая.
6 Декабря. Рассказ: моя летопись. 1. Когда Англия объявила войну. Мы дремали в ожидании поезда. На станции уже двое суток люди так сидели в ожидании. Газет не было и, казалось, теперь все зависело от Англии: если она объявит, то весь свет с нами. И главное тут было не в силе, а в правде, такой был ход рассуждения логики: если Англия, то весь свет, и если весь свет с нами, то наша правда. Не знаю, откуда это взялось, но с момента объявления войны я разделился на два совершенно различных существа: одно «я» было прежнее, но ставшее очень далеким, как глубокое романтическое ощущение, как зажившая, но в непогоду чувствуемая рана, а другое, новое «я» как «мы», на которых напали злодеи, которых должно защищать миром. Это второе новое требовало ответа от Англии и это оно так рассудило: если Англия, то весь свет, и если весь мир, то вся правда.
Нищие. Никого не было на станции, кто бы волновался вопросом о выступлении, об Англии, тут были груды дремлющих в ожидании поезда людей, больше женщины, которые, не помня ничего больше, стремились в столицу увидеться со своими солдатами. Утром на рассвете пришли ратники, их стали учить по-военному бегать. Маленькая девочка сидела на перроне, смотрела на солдат и горько плакала. Я долго добивался узнать у нее, чего она плачет, и когда приласкал, она ответила: татку бегать заставили. И показала мне на солидного бородатого мужчину, который вместе с другими солдатами и ратниками пробегал с ружьем вдоль полотна. Никому вокруг, ни ожидающей на станции массе народа, ни бегающим ратникам, ни плачущей девочке не было никакого дела до Англии. А я только об этом и думал, и мне даже казалось, что я этим богат: я понимаю, что все дело в Англии, но они ничего не понимают. Вдруг ударили в колокол: подходил поезд. Все выскочили на площадку.
«Местов нет!» – крикнул кондуктор. Но никто не обратил на него внимания, все кинулись к поезду занимать места, и сам кондуктор занялся покупкой… теперь не до нас, все заняты своим, и мне казалось, что тоже теперь не до меня, не до общей истории, и я как нищий среди этого хаоса.
В третьем классе люди лезли на крышу, в купе второго класса я нашел место стоять: тут ехала красивая дама с двумя детьми, нянькой, горничной, все купе было наполнено вещами, и рядом с ней можно бы сесть, да кот мешал: кот был серый большой, в плетенке, обвязанной крепко веревками. Дама читала газету, не обращая на меня внимания. Я упорно смотрел на нее, надеясь, что она обратит на меня внимание и предложит сесть, но она внимания на меня не обращала, и я мог бы сколько угодно стоять, но не обратила бы внимания.
– Сударыня, разрешите взять вашего кота на руки, а мне сесть.
– Садитесь, – сказала она, – не взглянув на меня. – Я сел и мельком заметил, что в газете было крупно написано: «Англия»… что Англия – нельзя было разобрать. «Неужели Англия объявила войну?» – думал я, еще минуту, я узнаю, спрошу даму сейчас. – Англия… – начал я, – скажите, правда, Англия…»
Дама посмотрела на меня и готова была уже ответить, но вдруг обернулась к окну, увидела проходившего по перрону военного, бросила газету на свое место и, открыв окно, крикнула военному: – Кирасиры не ушли? [223]223
Кирасиры не ушли? – Солдаты или офицеры гвардейского (кирасирского) полка, в парадную форменную одежду которых входила кираса – защитное вооружение из 2-х металлических пластин, выгнутых по форме спины и груди и соединенных пряжками на плечах и боках.
[Закрыть] – Офицер сделал под козырек: нет, он не знает, но думает, что еще не ушли. – Если бы не ушли! – сказала дама. – Вероятно, не ушли, – успокоил офицер.
Дама села прямо на свою газету и, как нарочно, оставила уголок для меня с крупными буквами: Англия. Она совсем забыла о мне, как будто я не существовал, и теперь осмелиться просить у нее газету… газета была под ней. Горничной, няньке она сказала: – Кажется, еще не ушли кирасиры. – Дай Господи! – ответила нянька. – Дай Господи! – повторила горничная. – Хоть бы не ушли.
Дама вполне успокоилась и, достав газету, стала опять читать про Англию, и я опять приготовился спросить ее.
8 Декабря. Пораженцы и обороновцы. Рассуждают так: воюют те, кому война выгодна, рабочему классу выгоды нет воевать и он должен отказываться. Лозунг: сначала мир, а потом социальные реформы. Но мир, если война не будет доведена до конца, будет заключен с выгодой для господствующих классов, и так социальной революции не будет. Слабое место оборонцев то, что оборону можно довести до того, что не останется людей, для которых все делается.
11 Декабря. Тема для фельетона. Куда бы я ни поехал на Руси, где бы ни остановился, везде раньше меня был какой-нибудь генерал. Был на море – поморы про генерала рассказывают, был в имении – раньше жил тут генерал, снял номер в гостинице, спросил, кто тут раньше стоял, отвечают: один генерал. Забрался я в глухой монастырь, пришел чай пить к настоятелю. – Как ваше имячко святое? – спросил он. – Михаил. – А по батюшке? – Михалыч. – Михаил Михалыч, вот так имячко, ну, вот и хорошее же у вас имячко. – Чем же так особенно хорошо оно? – Да тут перед вами жил генерал, тоже Михал Михалыч…
А на днях вышло еще чуднее. Приехал из провинции, взял место маленькое в казенном бюро, такое маленькое, что швейцар мне даже дверь не отворял. И вдруг в одно утро настежь отворяется дверь, швейцар с поклоном говорит: «Вам письмо, Ваше Превосходительство». Беру письмо – казенный пакет: «Его Превосходительству Михаилу Михайловичу Хрущевскому», распечатываю: тайный советник такой-то, «свидетельствуя свое совершенное почтение Его Превосходительству Михаилу Михайловичу», и т. д. На другой день опять такой же пакет уже ко мне на дом. Хозяйка изумлена, горничная смущена, в квартире переполох: живет генерал настоящий, получает казенные пакеты.
Я понимаю, как это произошло. Казенное здание. Барышня – лисий мех. Барышня идет по лестнице. Машинистка… Никто не знает, откуда они пришли, куда пойдут. Автомобиль – бумаги – в дежурке. Повестки штампуются, имя вычищается – Превосходительство остается. Настоящего генерала и нет. Обыкновенный человек в сером пиджачке. Умерший, почивающий дух генерала.
Потоком из недр Руси стремятся к центру ее, к мертвым стражам неведомых богатств разные жизнерадостные люди и погибают, часто не достигнув даже действительного статского советника.
22 Декабря. Грех. У хозяйки вечное волнение, что ее обкрадут. Заглянула в отдел, где дрова сложены. «Целы, целы, – спешит успокоить Глеб, – ни единого полешка никто не возьмет и сам не возьму. – Так разве греха не бывает? – говорит хозяйка. – Бывает, – отвечает Глеб, – по большому делу, а это что, не из-за чего путаться: что это за грех. Будьте спокойны, никто не возьмет».
Пасынок. Семейная драма из-за пасынка: мальчик испорченный, удалить его от матери – пустить на произвол, оставить – испортить других детей. В смятении духа советуется и вот интересно, что отвечают ему, какие дают советы. Единственный стоял за мальчика – «граф».
Варвара Алекс. Риме. – Корсакова. Прожила с мужем, не любя его и скрывая это и от него и от всех. Себя обманывала. Его много мучила, а людям постоянно раскрывала достоинства своего мужа, другом считала всякого, кто похвалит его, врагом, кто обидит. Ее нужно произвести в титулованную особу, а его в купца. Заветная шкатулочка с письмами к «нему».
И все Ладыженские необыкновенные: Любовь Александровна обращает в православие своего мужа, сумасшедшего цветовода, приемышей воспитывает Машу и Таню, Вера Александровна попадает в тот же монастырь через дочь, Надежда Александровна, более счастливая, многосемейная споткнулась на сыне беспутном. И все это посев о. Амвросия.
Сумасшедший цветовод. То ругается, то плачет по-детски. Затевал, строил и, расставшись с построенным, забывал о нем. А жена все помнила. Это она заставила его сделаться православным. Но что значит «заставила»: он, незаметно для себя, стал делать все, что она захочет. Воля-влияние и воля-насилие. Воля-влияние – абсолютно необходима и принимается, как свобода, а воля-насилие – абсолютное зло. Посев отца Амвросия.
Боль. Тогда казалось ему, что все чем-нибудь больны, он это чувствовал, где что болит по тайным вздохам, по нервным рассказам, и что все этой боли боятся, прячутся, делая всякие усилия, строя веселые лица, только бы не сомкнуться друг с другом больными местами, коснуться больным местом здоровых, или казалось, что все этим больным местом зацепятся. Религия, напрокат взятая у народа, в то время как самому народу она стала ненужной. Время, когда верхние слои общества обратили свое новое внимание на религию народа и когда народ охотно отдал бы ее задешево напрокат. От религии напрокат отличается религия Люб. Алекс, которая взяла ее и сделала делом своей жизни. Вокруг нее уже перестали молиться, а она строила храм.
25 Декабря. Праздник большой, большой. Скука доходит до изжоги. Размышление о слабости как об источнике зла; и сила и слабость одинаково могут быть источником зла, <1 нрзб.> от слабости – путь обиды, уединения, подполья; очищение страданием – к деятельной мудрости. Путь злой силы – внезапный поворот к добру.
26 Декабря. Волуйский из плена возвратился, где пробыл 15 месяцев. Его рассказы: Когда нас брали, я думал, что в силу Женевской конвенции я не могу считаться военнопленным. Но когда мы об этом заявили, то офицер вынул револьвер и сказал: «Вот где Женевская конвенция». И когда мы показали признаки возмущения, он сказал: «Успокойтесь, мой револьвер не заряжен». Если бы я знал это, то, конечно, выпустил бы все пули своего револьвера, прежде чем отдаться им в руки, потому что их плен для меня хуже смерти.
Оспопрививание. Несмотря на множество специальных приспособлений, врач подходит к пленным, острием шашки делает надрез и кладет в рану оспенный детрит [224]224
оспенный детрит… – соскоб оспенных пузырьков с кожи искусственного зараженного животного для приготовления вакцины.
[Закрыть], рана, конечно, делается громадной и долго болит. Сыпной тиф. В лагере пленных появился сыпной тиф. Мы сказали, что хорошо знакомы с этой эпидемией, ей способствует, главным образом, голод, холод, подавленность духа и насекомое вошь. В ответ на это заявление врач говорит: «Я покажу вам, как нужно бороться с тифом». Нас выстраивают перед бараком при морозе 10–12°, потом выводят пленных и велят им раздеться прямо на морозе, на немытое тело надеть чистое белье. В таких условиях я скоро сам заболел сыпным тифом». Доктор называл их гуннами, тевтонами, людьми жестокими ради жестокости. А когда мы спросили его, не наблюдали ли случаев милосердия среди простого народа. «За милосердие, за булочку пленному у них тюрьма – как же я мог наблюдать это? И все-таки, несмотря на угрожающую тюрьму, мне довелось раз видеть, как женщина, озираясь, сунула пленному хлеба. Отобрали книги, инструменты, заработанные деньги, выдали фальшивую квитанцию и сказали: «Хлопочите, чтобы русские заключили мир и тогда мы вас всех выдадим. – Правда, поскорее бы мир! – сказала гимназистка. – Милочка, – ответил доктор, – как же можно заключить мир, если люди не признают договор? – Но если победить невозможно? – Если бы они и победили нас внешне, то все равно бороться нужно внутренне: победа, милочка, открывается иногда там, где ее совсем не ожидают».
Песчаный холм оцепили колючей проволокой, загнали туда пленных и поставили часовых. Пленным выдали по чашке, этими чашками они копали себе ямы и прятались в них. Утром, в тумане, как мертвецы из могил они показывались и варили себе пищу в этих чашках. Потом начали строить землянки, бараки, и стал лагерь военнопленных.
На глобусе воюющего мира я нахожу точку, где скрещиваются все: Дек. 27, линии пространств и времен: это мой хутор Соловьевской волости Елецкого уезда – Хрущево, и я на хуторе Михаил Михайлович Пришвин (Алпатов) – я точка одного мира стою против точки другого. Мы, Алпатовы, засели в Хрущеве с освобождения крестьян, когда…
На хуторе. Как скифы, приглядываясь к моим поступкам, сотворили из меня своего собственного Скифа.