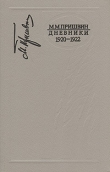Текст книги "Дневники 1914-1917"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
– Кто у нас Марат?
– Ты хочешь, как Шарлотта Корде?
– Да, я хочу. Кто Марат: Ленин, Троцкий? Кто похож на жабу?
– На жабу никто не похож, деточка, но, может быть, не побрезгуешь убить Шимпанзе?
– Обезьяну? Нет, обезьяну не хочу.
Пристала и пристала: подавай ей настоящего Марата, похожего на земляную жабу.
Думал я думал, что с голодной бешеной девкой делать, и достал ей билет на Шаляпина, прослушал с ней певца, и забыла про Шарлотту Корде.
Отвел Шаляпин сердце девочки или долетела молитва из церкви:
– Господи, умили сердца!
Радуюсь я за Козочку, <2 нрзб.>, слава Богу, миновала чаша ребенка, а для себя, потихоньку твержу неустанно, но верно свою молитву, обращенную к неведомому, но верю, твердо верю настоящему Богу: «Господи, помоги мне все понять, все вынести, и не забыть, и не простить!»
11 Ноября. У последнего конца.
Мар. Мих. говорит, что слышала от лица, бывшего в штабе Савинкова, еще до восстания Корнилова, что Керенский сказал Савинкову: «Вместе с Корниловым вы вызываете контрреволюцию, я умываю руки».
Одни говорят, что все дело погубил Керенский, другие – Савинков. Ненужно разбираться в документах для выяснения этого. Ясно, что Савинкову нужен был Корнилов для подавления Советов, а Керенский примыкал к Советам. И оба погубили себя, один генералом, другой Советом.
Всюду говорят, что социалисты-революционеры погубили и себя, и Керенского, не оказав ему поддержки.
Вся революция показывает невероятное непонимание демократической интеллигенцией народа и обратно. По-видимому, первопричина этого непонимания лежит в различии самой веры первых революционеров и веры народа. Большевизм есть общее дитя и народа, и революционной интеллигенции. Большевистский интернационализм ничто иное, как доведенная до крайности религия человечества. Это и погубило Россию, а не как теперь говорят: погубили Советы, погубил Савинков, погубил Керенский (меньше всех виноват Корнилов).
Еще часто говорят, что Правительство с самого начала должно было заявить державам, что мы не можем воевать: в результате худшим было бы нынешнее положение. Но это явно было невозможно, потому что тогда громадное большинство населения было на стороне «буржуазии».
Собирается крестьянское совещание – последние судороги партии с. р-ов: в угождение армии хотят выдвинуть Чернова. Напрасные усилия: при германской поддержке русское общечеловечество будет доведено до своего последнего конца.
В процессе движения к интернационалу целые группы интеллигенции свертывали с пути, заключая компромиссы с народной верой (нар. социалисты), – так возникли зародыши патриотизма.
12 Ноября. Армия не существует, золото захвачено, общество разбито, демократия своими руками разрушает фундамент своего жилища – что же есть? Плывущие по воде предметы, за которые можно ухватиться: Чернов, который популярен еще в армии через свое понимание земельного вопроса, Учредительное Собрание при заткнутых ртах? А что будет дальше? Все пожимают плечами, и слово «оккупация» у всех на устах.
И вот подумаешь: «А что было, может быть, ничего не было?» Была маниловщина и больше ничего.
Политические деятели, как бешеные, и спорят теперь уже не о будущем, а о прошлом: кто виноват. Работает задний ум. Спорят – как нужно было поступать Керенскому. Один говорит, надо было уйти, другой говорит, что уйти было невозможно.
– А кто у нас не Манилов?
Бурные волны разогнали с утеса царственных птиц, разбегаются, прыгают и скатываются пеной. Придет время, конечно, размоют волны утес, но эта буря пройдет так, утес останется, разлетевшиеся в бурю хищные птицы скоро опять сядут на вершину, а мягкие волны опять будут лизать и подмывать.
Разбежались бушующие волны океана, ударили о гранит, смыли царственных птиц, и неведомо куда разлетелись хищные орлы.
Бушуют, бьют волны, не дают садиться никому на утес. Но скоро они утихнут, и птицы опять полетят на утес.
Скоро опять будет утро и на утесе орел, а внизу мягкие волны будут по-прежнему лизать гранитную скалу, и не зная, что так размывая гранит – подножие власти, они ближе к цели, чем в бурное время.
Говорили раньше: «У нас в России». Теперь так не скажешь: где это у нас, какое это наше такое пространство и кто эти мы, русские, пожирающие друг друга чудовища.
Мы теперь находимся в антракте перед новым действием, в котором будут принимать участие иностранцы.
Родина стала насквозь духовной, мы знаем, что это никто не может отнять у нас и разделить, но не ведаем, как воплотится вновь этот дух.
Гость сказал: – Россию погубил не Совет с. р-ов и с. д., а погубила самочинная шайка Исполнительного Комитета: выступления Бабушки и «Марсельеза» – все это красные флаги, которые дразнили быка.
Ходишь:
– Чай! Чай!
Кончился, говорят, чай, а в лавочке нету.
– Ну ладно, давайте кашу.
– Крупы нет, вот сало и больше ничего.
Поел сала и опять махать крюком. И вот есть же, значит, в земле не одна война и разделение, есть в ней и союз: как ни худо, а мечта <остается> о каком-то настоящем покосе. (Военная организация и школы прапорщиков сельского хозяйства.)
Обобществление: помещик думал, что это на него валится, а оно на всех. Черный передел.
21 Декабря. Не уехал в деревню – тут остался, в аду.
Посещение Тат. Вас. Майской: догорает закат.
Настоящая буржуазия и что под этим словом теперь.
А мои спутники по «Воле Народа» – истинные мещане.
Я отвечал: – Тем хуже мещанство, но Адам, который занял землю и устроился благополучно, – мещанин настоящий. И второй Адам пришел, когда земля занята, – кто из них лучше?
Разрешение – страдал второй Адам – вопрос насыщения его, а не духа.
«Вопрос о мерах к ослаблению роста революционного движения дошел даже до палаты лордов и вызвал здесь чрезвычайно любопытные дебаты» («Новая Жизнь», № 207).
На улице метель. После двенадцати, когда потухло электричество, мы зажгли купленную в монастырском подворье восковую свечу и продолжали беседу.
Упрекали меня, что я написал: «Русский народ погубил цвет свой, бросил крест свой и присягнул князю тьмы Аваддону».
– Аваддон, – говорили, – это дух мещанства, корысти, а русский народ глубоко страдает, лица рабочих и солдат – это лица больных, тут убийство, и покаяние, и всё – только не лоснящееся благополучие духа тьмы. Черту русский человек не переходил.
Начался длинный спор. Большинство было против меня, и посетитель, самый прямой человек, сказал:
– Да, я думаю тоже, что черты русский человек не переходил и во всех своих гадостях он может покаяться. Найдется выход.
Вздохнув, кто-то сказал:
– Да, тяжело быть палачом в стране, где многие святыни созданы разбойниками.
На это простой человек из чайной сказал:
– Русскому человеку нужно пуп от Бога отрезать [316]316
Русскому человеку нужно пуп от Бога отрезать… – эти слова принадлежат сектанту П. А. Легкобытову.
[Закрыть], тогда все и определится: на одной стороне будет добро, на другой зло. А пока будет Бог, все будет путаться. – Подумав, он прибавил: – Когда пуп отрежете от Бога, то человек будет заключен в себе и разбойнику тогда выхода не будет к нам через «тот свет»: тогда разбойнику голову отрубить будет очень просто.
Мы спросили, каким же способом русскому человеку можно пуп от Бога отрезать.
И раздумчивый человек на это нам так ответил:
– Тут не нужно стараться: когда наперекор идешь, то еще больше в божественном вязнешь. Способ дан: пойдут от немцев дешевые ситцы, и всякая штука, и ученье для выгоды, и расчет жизни – так само собой и отрежется пуп, и человек будет заключен, выхода ему не будет.
– А что Керенский, что большевики, – говорил он еще, это, по-моему, все равно, они все наперекор божественному идут, но мыслимо ли долгое время все наперекор, придет час – умирятся, и цап! их и покрыло божественным покрывалом голубым. Хулиганчики разные хулиганят по винному делу, пукают из винтовок, топят в Фонтанке людей, в тюрьмы сажают буржуев праведных и благоразумных. А придет час, и покаются, какие хорошие станут. Выйдут из тюрьмы тогда буржуи праведные и скажут в умилении: хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас было божественного! [317]317
…сколько в вас было божественного! – Слова, услышанные Пришвиным в 1908 г. от сектанта-хлыста Рябова. Ср.: Астраль, Голубое знамя // Собр. соч. 1982–1986. Т. 2.
[Закрыть]
– Только, – продолжал, раздумывая, человек, – теперь это не будет, немцы не дадут, отрежут, потому что правильно вы сказали…
Он обратился ко мне:
– Русский человек перешел черту, и к прежнему возвратиться ему невозможно.
Мы хотели еще поговорить об этой черте, но вдруг погасло электричество. Ощупью мы выбрались из темного дома на улицу и в разные стороны разошлись.
На улице была метель [318]318
На улице была метель… – запись является черновым наброском к будущему рассказу «Голубое знамя». // Там же.
[Закрыть] и ни одного человека, все равно как в самой глухой пустыне. Внезапно охватил меня страх, и я бросился бежать к Большому проспекту в надежде, что там увижу людей и трамваи. Но и на Большом никого не было – стало еще страшнее, и еще быстрее бежал по Большому к своей линии. Завернув на свою линию и уже недалеко от своего дома увидел я: в метели мчалось на меня что-то огромное, черное.
Поморозило меня и пробежало в голове:
– Ужо тебе!
И вдруг это огромное, черное стало маленькой черной собачкой.
Так из метели вышел пудель, а когда я в своей квартире вспомнил разговор наш, то из пуделя вышел какой-то русский Мефистофель и все говорил мне:
– Русскому человеку нужно пуп от Бога отрезать.
Общее положение.
На вопрос мой одному крестьянину: «Кому теперь на Руси жить хорошо?» – он ответил: «У кого нет никакого дела с землей». Солдат ответил: «У кого нет дела с войной», купец – с торговлей. Словом, всем плохо выходит.
Значит, если есть какой-нибудь смысл в событиях, то смысл этот заключается в сознании людей в жертве своим настоящим для будущего.
Тогда я опять спросил крестьянина, чем он теперь жертвует. Он ответил, что ему плохо, но жертвы он не приносит.
Солдат сказал: «Довольно жертв!» Купец: «Мы сами жертвы, а какому Богу – неведомо».
Так, расспросив разных людей, я не нашел в них смысла текущих событий по их ответам и понял одно: все эти люди ждут или чают чего-то лучшего – огромная масса людей только чающие, как те калеки, которые ожидали движения воды в Силоамской купели [319]319
…как те калеки, которые ожидали движения воды в Силоамской купели. – Неточность. Имеется в виду Овчая купель (Вифезда). Ин. 5,2–4.
[Закрыть].
Другая сторона – те, кто обещает спасение, кто жертвует собой, чтобы сдержать обещание, – кто же эти люди, оценкой действий которых историк по старым приемам осветит время, потерявшее <всякий> смысл?
В России не вижу еще таких людей, но слуг их знаю, они работают на каких-то хозяев мирового дела. Кто же эти хозяева? Вхожу в интерес мировой истории – очень интересно, вот сегодня делаю вырезку из газеты: но как, как это жить повседневно, не могу: вот, например, по-прежнему называют русских свиньями и иначе не называли <как> свинья, так французы тоже нас так называют.
И перехожу к Вильгельму, Ллойд-Джорджу, к организованным рабочим всех стран, выписываю из газет – любопытные дебаты. И так приближаюсь к какому-то мировому смыслу – очень интересно, и я решаю: значит, все дело там, и предаюсь этому делу.
Конечно, европейцы: там ключ всему. На одной стороне Вильгельм со своим народом, на другой стороне Англия. Просвещенная часть русского общества стояла за Англию, ожидая от нее устройства такой жизни, в которой будет обеспечено существование личности с европейски организованными способностями. Простой народ воевал за царя, образованные, чтобы свергнуть царя. Немцы во всех отношениях ближе к русскому народу, чем англичане, и потому, когда царь был свергнут, то воевать за англичан стало ненужно. Тогда образованная часть русского общества <отвернулась> от народа, царь свергнут, но то, из-за чего он свергался, не пришло.
В настоящее время весь народ русский находится во власти сил мировой истории человечества и покорно предался их воздействию на себя. Теперь все русские люди спешат занять удобные места в зрелище, за которое заплатили так дорого.
30 Декабря. Когда стучусь к Ремизову и прислуга спрашивает: «Кто там?» – я отвечаю, как условились с Ремизовым, по-киргизски.
– Хабар бар? – Значит, есть новости. Девушка мне отвечает со смехом:
– Бар!
И я слышу через дверь, как она говорит Ремизову:
– Грач пришел!
Киргизские мои слова почему-то вызывают в ней образ грача, и всегда неизменно. Сама же Настя белая, в белом платочке, и притом белоруска. Кто-то сказал ей, что Россия погибает. Сегодня она и передает нам эту новость: Россия погибает. И на вопрос мой киргизский: «Хабар бар?»
– Есть, – отвечает, – Россия погибает.
– Неправда, – говорим мы ей, – пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет.
– Как, – спрашивает, – Леу?
– Толстой.
– Леу Толстой.
Пушкина тоже заучила с трудом, а Достоевский легко дался: Пушкин, Лев Толстой и Достоевский стали для Насти какой-то мистической троицей.
– Значит, они нами правят?
– Ах, Настя, вот в этом-то и дело, что им не дают власть, вся беда, что не они. Только все-таки они с нами.
Как-то пришел к нам поэт Кузмин, читал стихи, Настя подслушивала, потом спрашивает:
– Это Леу Толстой?
Потом пришел Сологуб, она опять:
– Это Леу Толстой?
Ей очень нравятся стихи, очень!
Как-то на улице против нашего дома собрался народ и оратор говорил народу, что Россия погибнет и будет скоро германской колонией. Тогда Настя в своем белом платочке пробилась через толпу к оратору и остановила его, говоря толпе:
– Не верьте ему, товарищи, пока с нами Леу Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет.
31 Декабря. Есть люди, которые живут на ходу, – остановился и стал бессмысленным. И есть читатели, которые массу читают, но после прочтения ничего не помнят. Так теперь, похоже, и мы все в государстве Российском в заключение Нового года: испытав такую жизнь, никто не знает, что будет дальше и что нужно делать.
Я вам скажу, что нужно делать: нужно учиться, граждане Российской республики, учиться нужно, как маленькие дети. Учиться!
Комментарии
Настоящий том представляет собой второе издание книги М. М Пришвина «Дневники 1914–1917», изданной в 1991 г. Входе подготовки тома к переизданию в архиве Пришвина (РГАЛИ) была обнаружена папка под названием «Отдельные листы 1914–1916», которая находилась внутри материалов, относящихся к «Раннему дневнику» (1905–1913). До сих пор считалось, что дневник 1916 года, за исключением нескольких записей, включенных в первое издание, утрачен. Анализ обнаруженных архивных материалов позволил восполнить в настоящем издании этот существенный пробел. Несколько записей 1914 и 1915 гг. также были включены в дневник.
При подготовке текстов слова, которые не удалось прочесть по рукописи, обозначаются в тексте угловыми скобками о либо даются предполагаемые составителем слова в квадратных скобках <>.
Комментарии и алфавитый указатель в данном издании переработаны.
В алфавитный указатель не включаются имена неизвестных по биографическим материалам Пришвина крестьян, людей, которых он встречает во время поездок на фронт в годы Первой мировой войны или в Петербурге в течение 1917 года.
Дневник Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) представляет собой уникальный документ, хронологически охватывающий пятьдесят лет (1905–1954) – годы катастрофической ломки всех форм жизни.
Первые сохранившиеся страницы дневника относятся к 1905 г., обозначившему начало новой политической ситуации в России, а последние записи сделаны в январе 1954 г. – дата, позволяющая говорить о начале кризиса сложившейся политической системы.
Таким образом, текст дневника воссоздает подлинное лицо целой эпохи, связанной с процессом насильственного переустройства мира, в котором существование и творческая деятельность личности неминуемо сопряжены с трагедией. Пришвин ощущает себя выразителем этого, в его понимании, главного содержания эпохи: «Хочется и надо – это у меня с первого сознания, между этими скалами протекла вся моя жизнь».
Текст дневника представляет собой некое двуединство, в основе которого лежит интуиция коллективной души народа и творческой личности. При этом очень существенно, что путь Пришвина как писателя определяется стремлением не сочинять, а воплощать коллективную душу народа в форме сказки или мифа («Не сочинительство, а бессознательное поэтическое описательство»).
С одной стороны, дневник как особый жанр, свидетельствующий о стремлении художника выйти за границу искусства, раскрывает присущую искусству тайну, делает возможным прямые идеологические высказывания и логические обобщения. Дневник Пришвина содержит огромный пласт исторических и жизненных реалий – эклектичный, хаотичный мир дневника соответствует действительности. С другой стороны, своеобразие дневника заключается в том, что даже в этом жанре Пришвин сохраняет художественный способ познания мира. Важной частью дневника Пришвина является связь с его художественным творчеством: в дневнике часто впервые появляются художественный образ – исток будущего произведения, синтезирующий смысл того или иного события, черновые варианты рассказов или очерков, которые часто без всякой обработки переносятся в художественное произведение или становятся им. Важной особенностью дневника оказывается рефлексия писателя на собственный художественный мир, свой творческий путь.
Отличительной чертой художественного стиля Пришвина, присущей ему с первых произведений, является антиномичность субъективного и объективного, исповедального и очеркового, экспрессии художника и материала. В дневнике эта антиномичность приобретает особенную силу: факты реальной жизни, сохраняя на первый взгляд абсолютную случайность, предстают перед нами, овеянные потоком поэтического сознания, который выявляет их лицо, их смысл. Это так существенно, что без натяжки можно сказать: дневник Пришвина представляет собой единый художественный текст, в котором текст дневника каждого года часто организуется вокруг одной, главной темы, выступает как бы завершенным фрагментом целого.
Если для обыденного сознания хронология – в значительной степени условный ритм жизни (календарь), то в художественном сознании Пришвина это факт художественного мышления, выражающий единство природного, исторического и человеческого времени.
В дневнике 1914 г. главной темой становится женское движение, которое рассматривается писателем в широком контексте русской и мировой культуры (Венера, образы Гёте и Гоголя, идеи Розанова). В свете женского движения получают интерпретацию вопросы истории (памятник Екатерине, образы женщин-революционерок), общественное движение (диспут по женскому вопросу, «передовая» женщина), проблемы семьи, брака, материнства, любовь, христианская проблема девства, проблема личности, идеи женственности коллективной русской души и женского начала в творчестве.
В пришвинской метафизике мужского и женского обращает на себя внимание следующее соотношение: женственность русской души – творчество легенды – женственность самой личности художника.
С августа 1914 г. ведущей темой в дневнике становится война. Но предметом внимания писателя являются не военные события сами по себе. Война становится своеобразной призмой, сквозь которую воспринимается теперь образ России: возникает оппозиция «Россия – Германия», встает вопрос о русском национальном характере, об исторической судьбе России. Война в дневнике существует как событие, нарушившее историческое течение времени и обнажившее в жизни ее архаическое, реликтовое основание («По образу жизни люди возвращаются к народам кочующим», «дух наш возвратился к вопросам первобытных времен»). Это возвращение чревато возможностью социального срыва в обществе, что Пришвин пророчески предвидит уже в августе 1914 г. («если разобьют, то революция ужасающая»): победа представляется ему в это время единственной возможностью сохранить преемственность истории.
Однако в 1915 г. катастрофический ход событий становится очевидным («это страшный суд начинается»), и на этом фоне возникают две важные темы, которые впоследствии получают развитие в дневнике революционных лет: тема отцеубийства («интеллигенция… убивает отчее, быт») и тема движения русской религиозной души в сторону мифа о земном рае («Последствием этой войны, может быть, явится какая-нибудь земная религия»).
Война в дневнике Пришвина предстает символом мужского дела («настоящей женщины нет на войне… все сопротивляется ей»), но в то же время в сознании писателя происходит сложное сопряжение мужского и женского: война сравнивается с родами – то и другое связано с творчеством новой, неизвестной жизни.
Очень важно отметить, что в творческой судьбе Пришвина-писателя война сыграла особенную роль. На фронте, куда он попадает в качестве корреспондента, к нему приходит постижение природы, как части космоса, то есть мира упорядоченного, осмысленного человеком, внутри же хаоса, который приносит война, места природе не находится («почему на войне исчезает природа?»). На войне он обнаруживает связь природы с творческой природой человека и поднимает вопрос о соизмеримости природного и человеческого ритма, о природе сопереживающей, сочувствующей или «равнодушной». Кроме того, война предельно обострила восприятие – так или иначе в 1915 г. впервые отдельные картины природы сложились в дневнике в мощную общую картину весны. Природа осознается Пришвиным как та сфера, в которой он с определенностью чувствует себя художником.
Дневник 1916 г. зафиксировал уникальную точку зрения писателя – из глубины провинциальной русской народной жизни, в которой он ничего не изучает, а живет как все: писатель-пахарь, собственник земли. И это положение открывает ему новый угол зрения на войну: оппозиция «Россия – Германия» превращается в оппозицию «русские – немцы» («В этой войне мерятся между собой две силы: сила сознательности человека и сила бессознательного. Мы русские – сила бессознательная, и вещи наши на место не расставлены») и постепенно вообще перестает быть оппозицией («В конце концов: мы заслужим порядок, закон, мы поставим вещи на свое место, а немцы потеряют это, но зато получат вкус и радость глубины»), а становится способом культурного диалога. С этой точки зрения крайне интересным оказывается появление пленных австрийцев в качестве работников, которые становятся носителями европейской культуры в русской провинции. В то же время во всей глубине раскрывается перед писателем двойственность русского национального сознания, эта загадка русской души, предстоящая всему миру («почему русский человек, каждый в отдельности – жулик, вор, пьяница, вместе взятый становится героем», «Кто-то из иностранцев сказал, что Россия не управляется, а держится глыбой»). Так или иначе, Пришвин понимает, что война до последних основ потрясла мир («Как завеса спало с мира все человеческое, и обнажился неумолимый механизм мира»), обнаружив предел возможностей культуры («как мало живут по книгам, а оттого, что нас с детства учили, кажется нам, будто книга – самое главное»).
В первой записи дневника 1917 г. появляется мотив двойственности, которая в русской культуре традиционно связывалась с Петербургом. Пришвин воспроизводит ситуацию, в которой оппозиция реального и нереального, жизни и идеи теряет четкие очертания. Двойственность пронизывает человеческое существование, деятельность петербургских министерств, трагически обнаруживается в положении императора, а затем и в процессе формирования новой власти. Изменяется и положение самого Пришвина: был писатель, а теперь писатель-пахарь, собственник земли. Наконец, эта двойственность проникает в само слово («О мире всего мира!» – возглашают в церкви, а в душе уродливо отвечает: «О мире без аннексий и контрибуций»). В течение всех последующих лет Пришвин отмечает проблему языковой трансформации реальности под воздействием навязанных языку идеологических стереотипов («И как сопоставишь это в церкви и то, что совершается у людей, то нет соответствия»).
Революция обнаруживает свою подлинную природу, несущую умаление, уничтожение бытия. Это, по сути, оказывается продолжением движения к примитивным формам жизни, и смысл ответа на исконно русский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» заключается в отказе от настоящего, реального – теряется связь с бытом, домом («хорошо бродячему, плохо оседлому»).
В дневнике 1917 г. идея отцеубийства соотносится с библейской притчей о блудном сыне, получая одновременно историческое и религиозное измерение («социализм говорит «нет» отцу своему и отправляет блудного сына все дальше и дальше»).
В 1917 г. Пришвин необычайно чуток к самопроявлению народной стихии. Народная жизнь приходит в движение и обретает голос, и народное сознание мгновенно персонализирует этот голос. «Митинга видел», – записывает Пришвин чьи-то слова. Не столько в идеях, сколько в движении стихии с ее душой, живущей по законам мифа, утопии, Пришвин пытается искать смысл исторических событий. Он расширяет историческое пространство революции до времени Петра I и Великой французской революции, то есть включает ее в контекст русской и мировой истории, а в современном политическом пространстве представляет революцию ареной действия «сил мировой истории человечества».
Историософская оценка происходящего выявляет патриотизм Пришвина, в котором чувство вины перед родиной соседствует с верой в нее: «Мы теперь дальше и дальше убегаем от нашей России для того, чтобы рано или поздно оглянуться и увидеть ее. Она слишком близка нам была, и мы годами ее не видели, теперь, когда убежим, то вернемся к ней с небывалой любовью».
Религиозный смысл русской истории, который традиционно определялся чаянием Царства Божия, теперь осмысляется Пришвиным через слова Христа: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы», в которых отвергнутый людьми Христос обещает уже не Царство, а покой, помощь людям, способным обратиться к Нему…
Однако понимание апокалиптического характера истории не уничтожило в Пришвине здоровую натуру художника. В последней, предновогодней записи дневника с изрядной долей иронии и самоиронии над растерянностью перед лицом неизвестной и еще непонятной жизни Пришвин советует гражданам нового государства учиться, учиться, учиться – слова, которым по иронии судьбы было суждено стать крылатыми.
Я. Гришина, В. Гришин