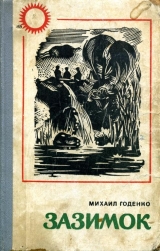
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1Двадцать лет я не был дома. Думал, все тут разрушено, сожжено и прах по ветру развеян. Оказалось, нет. Слобода стоит, и обрыв на месте – тот обрыв, под которым чудна́я криница играет.
Мне повезло, приехал, когда цвели сады. Давно не видел такого буйства. Гудят пчелы, щелкают птицы, грохот стоит – оглохнуть можно! Все в цвету. Над головой розовые ветви абрикоса. У ног горят тюльпаны, пламенеют петушки. Заполонили садок – ступить некуда.
А еще пьянею оттого, что рядом мать. Водит меня по участку. Даже за руку берет, как бывало. Говорит, говорит без умолку. Не верит пока в свое счастье. Считает, остановись, утихни – все пропадет, развеется дымом. Ни сына, ни сада, ни пахучего половодья. Опять одна, опять пусто – хоть руки на себя наложи. Гляжу на нее и не слышу, что говорит. Да разве важны слова? Я вижу ее, держу за руку – чего же больше! Низенькая, худощавая, чуть сутулая. Лицо сплошь в морщинах, оттого темное. Она тащит меня дальше, дальше, от дерева к дереву. Глаза живые, чуть растерянные, как у девчонки. Седая прядка выбивается из-под белого платка. Заправляет ее свободной рукой. Заправит, потом рот вытрет. Привычка. То и дело затягивает потуже концы платка на подбородке. Один конец в руку, другой придержит зубами – затянет. Когда это делает, меня что-то больно толкает под сердце. В юности такая малость не трогала. А сейчас… Видимо, старею.
Мать, сама того не понимая, торопит меня, будто на пожар. Хочет показать все вдруг. Не понимает, что я приехал навсегда. Пока не может в это поверить. Ждет: опять что-то стрясется и я, наскоро простившись, уеду, кто знает куда и насколько.
Никогда мать не была такой торопливой, такой тараторкой. Раньше казалась высокой, степенной. Слова находила весомые, чуть загадочные. Набожной считалась. Теперь даже не перекрестится. Изменилась, постарела. Когда долго и внимательно вглядываешься – старость как будто отступает. И мне легче дышится. Но отвлечешься на малое время, затем опять посмотришь на мать – холодом тебя окатит: старая до неузнаваемости. Сознание мое бунтует, не хочет мириться. Но что поделать! Двадцать лет…
Мать хвалится деревьями. Они для нее словно дети. Разговаривает с ними, оглаживает стволы, трогает ветви.
– Эти вишенки из косточек подняла. Видишь, молодь вокруг? Не рублю, пусть растут. Вишня густоту любит.
Ветки плотно облеплены крохотными пятилепестковыми цветочками. Отойди чуть в сторону, покажется: перед тобой не вишенник, а широкий курган белого снега.
Она кладет руку на развилку груши.
– Батько Тимофей сажал. Поздний сорт, в ноябре доходят. А солодкие – нельзя передать. Поставишь в печь – так медом и обливаются!
Огромное дерево гудит пчелами, розовеет крупными лепестками, млеет от солнца. Ясно так светится. От одного дерева к другому.
– Батько Тимофей сажал…
От одного к другому:
– Батько вырастил…
Каждое упоминание об отце отдается болью.
«Ма, зачем вы так часто о нем?..» – думаю я. Но сказать не смею. Разве можно запретить ей говорить о погибшем муже? О чем же ей тогда говорить?
– Гляди, весь участок абрикосами обсадил. Ой, яки ж гарни, яки добри! Прищепы называются. Да ты знаешь. Крупные, в руку не вмещаются.
– А белых нет?
– Ходим сюда, – потянула за полу. – Вот, смотри! Говорю ему: «Зачем ты, Тимофей? Стоит лиха година. Немцы к слободе подходят, а ты дерево сажаешь?» – «Как же, отвечает, помнишь, Дёнка сильно уважал!»
Ни дохнуть. Ни слова вымолвить. Смотрю на коричневые сучья, густо покрытые белыми веснушками. Отдираю натекшие капли янтарного клея, кладу в рот, жую. Когда-то, помню, тетрадные листки им подклеивал, книжки растрепанные приводил в божеский вид. И еще помню: редкие письма из дому были заклеены тоже этим клеем. Узнавал по запаху. Бывало, даже лизнуть пытался.
– А Сухомлинов хутор стоит?
– Нет… Садок есть, только весь новый, молодой. Еще и урожая не собирали. Может, в этом году даст.
– Прежний сгорел?
– Выкинули его. Затрухлявел.
– Неужели? Его вроде на моей памяти сажали.
– Ой, сынку-сынку… Сколько ж годов минуло! Состарился. Да и ты уже не дытына. Вон голова побелела.
Упираюсь палкой в мягкую землю. Протез попискивает металлическими суставами. Натер мне культю, огнем горит. Не подаю виду, спешу за матерью. Она проворна, нелегко за ней угнаться. Останавливаю ее.
– Ма, ну а как вы живете?
Затянула платок, вытерла рот.
– Нынче, слава богу, хлеб уродился. А то, бывало, совсем нет муки – даже очи нечем запорошить.
– А работа?
– Что работа? Известно дело. Схватишься ни свет ни заря и летишь. Разное испробовала: и дояркой ходила, и возле овец крутилась. Всяко, бывало. – Улыбается, видимо, смешное вспомнила. – Живу, как пчелка: откуда ни лечу – все домой тащу. С огорода – кошелку помидоров, с виноградника – корзину винограда. В садку побываю – черешню несу, а то слив ведерко. Я одна, мне много не надо.
Я не верю своим ушам. Неужели это моя мать? Что ее так изгорбатило? Бывало, без спросу кружки воды не выпьет.
– Ма, зачем же вы так? Что бы сказал отец?
– Что ж остается, сынок? Неужели с голоду пухнуть? Бригадир сам, бывало, напоминает: «Берите, девчата, на трудодень не надейтесь. Что унесли – то и ваше!»
– Помните, раньше никто и в мыслях такого не держал.
– Бывало, дытыно моя. На трудодень до десяти кило давали. Ссыпать некуда. Все чердаки зерном загружали. Ты ж знаешь, за хлеб и лисапеты брали, и патехвоны. Моя кума пианину выменяла. А потом!.. – Махнула рукой. – Чи война так расшатала людей, чи нужда?
– Видно, и то и другое.
– Может, оно на поправку пойдет?
– Должно повернуться…
– Надоело жить по-цыгански! Еще, чего доброго, в тюрьму вскочишь. Не приведи и помилуй!.. Я тут недавно страху натерпелась – и вспоминать не хочется.
Возле моего лица заныла оса. Я стал отмахиваться. Мать удержала:
– Не трогай – ужалит! Перед твоим приездом двоих гусенят зажалили до смерти. Не гляди, что маленькая, – кусает ой как!
Оса зудит у меня перед носом.
– Работала в старом садку, на Сухомлиновом хуторе, яблоки сушили. На заходе солнца спешу ко двору. Гляжу, из конторы выходит Оверьян. Стой, говорит. Стала – ни живая ни мертвая. Покажи, что в сумке, просит. Как показать, если там сушка? И кто донес – в толк не возьму. Может, из бригады донесли по телефону? Наверно. Не ясновидец же он. Взял мою сумку с яблоками сушеными. «Пойдешь, говорит, Лукерья, к прокурору». – «Ой не пойду, Оверьян! – Упала перед ним, как перед господом богом. – Не губи!» Он и вправду похож на бога: голова лысая, борода веником. Только что не босой. Стукнул чеботом по земле. «Встань, говорит, Лукерья, не срамись! Что ж вы, ироды, робите! Вы ж и меня скоро украдете. Вам, иродам, аванс дали, овощей подкинули. Судить, и все!» – «Ради Тимофея прошу, пощади. И сын у меня в Москве, у людей на виду. Сжалься!» А он: «Что ж ты, неразумная, унижаешь их?»
Я перебиваю:
– Оверьян до сих пор в председателях?
– Вытертый, как локоть. Но ничего, бегал. До прошлого году держался… Простил все-таки. «Иди, говорит, чертова баба, в кладовку, сдай сухофрукту. Да не попадайся больше!..»
– Ма, зачем так низко себя выставляете?
Мне показалось, что мать говорит – словно болячку расчесывает.
– Вроде каюсь, сынок. При тебе таскать перестану. Ты ж насовсем? – Прижмурилась от страха: «А ну как скажет – нет!»
– Насовсем…
Вздохнула облегченно, даже краска к лицу прихлынула. Наконец-то поверила: не сон.
2Велосипед взял у соседей. Пищит, немазаный. Рама ржавая, ободья потемнели. Горе – не машина. Видать, еще довоенного выпуска. Может, на чердаке пылился, куры его в сарае обсиживали. Но и за то спасибо – еду! Дышу часто, запарка получается: протезом же крутить не будешь. Вот и приходится одной правой нажимать. Занемеет – встаю, тащусь пешком. Машину веду за рога. Палка висит на руле, справа. Откровенно сказать, не езда, а морока. Но все-таки. Я же двинулся в большой путь: еду на Во́дяную балку, а туда, считают восемь верст. Жители слободы все расстояния меряют, конечно, по-новому: на километры. Но до Водяной почему-то считают версты. Славится Водяная тем, что в ней когда-то коней потопило. Была дружная весна, снега таяли споро. А тут еще теплые дожди. Ну и пошло́. Смотреть страшно, не то чтобы переехать. И все-таки выискался смельчак. Решил форсировать. Арбу перевернуло, солома пошла поверху, кони – вниз. Не выплыли: в сбруе запутались. С тех пор и славится Водяная. Если кто, бывало, спросит: «Что за Водяна́я?» – ему ответят: «Не Водяная, а Во́дяная. Во-вторых, в ней кони потонули. Слыхали, может? Она самая».
Я даже не помню, когда там бывал. Знаю, что это обыкновенная балка, каких в степи много. По весне там растет добрый щавель и кашка. В нижней части балки – гать. Ее навозили, сдается, на моей памяти. Вбили вербные и тополевые колья, которые вскоре выкинули желтые веточки. У гати заплескался неширокий ставок… Смутно помнится. Может, я видел это в другом месте. Может, и вовсе только во сне снилось.
Тороплюсь на Водяную, потому что где-то там Микита. Век не виделись. Боюсь, не узнаю друга. Его мать сказала:
– Подался, еле рассвело, рыбу шукать. И на шо она, та рыба? Чи нам своих харчей мало!
Кручу педаль. Пока крутил по грейдеру, дело шло. Но свернул влево, на колею – запрыгали колеса. Не езда – каторга. И комья и ветки, и травостой, – духу не хватает гнать. У бригадного стана пошло веселее. Тут перевал. Теперь вниз. Ну, а вниз и дурак покатится. Теперь только держись. Если тормоза откажут – суй в спицы протез: один шут пропадать. Ух, и понесло – щеки трясутся. А кочек, мать честная, понарыло! Видать, не знали, кроты слепые, что всадник безногий тут покатится. Хоть зубы сцепить покрепче, а то язык откусишь.
– Рули в ставок. Неглубоко: сажня три, не больше! – измывается надо мной кто-то. Хохочет.
Крутым слаломом разворачиваюсь, колеса оскальзываются. «Вело» (слободское словечко) падает на правый бок. Успеваю ступить на здоровую ногу.
– О, Найдён? А я дивлюсь, кто такой? Может, Вася-француз? У него тоже такая кляча. Из плену привел и до сих пор на ней восьмерки пишет.
– Какой Вася?
– Когда-то «Самураем» величали. В домино хорошо стучал. Помнишь?
– Ну?
– «Французом» стал. В войну во Франции был… Думал, Вася, а оно вон кто!..
Микита притих. Поставил ногу на камень. Вынул жестяную табакерку – коробку из-под леденцов, лепит цигарку, присматривается ко мне.
– Долго воевал, долго. Все живые давно вернулись, а ты все воюешь…
Гляжу на Микиту и не знаю, что сказать. Пока ехал, все слова растрясло. А что тут говорить? Каких-то двадцать зим не виделись, подумаешь! Вижу: целый он, здоровый. Остальное приложится. Разглядываю в упор: морщинами побитый, особенно шея.
– Клюе, – спрашиваю, – чи не дюже?
– Клюе помаленьку.
Цигарка у него потухла. Пытается раскурить – ничего не выходит. Табак просыпается. Руки подрагивают. Э, думаю, ты тоже не такой веселый, как показался вначале.
– Закинешь? – предлагает.
– Попробую!
– Вот тебе лучшая удочка.
– Да мне абы в воду макать. Я рыбак такой… Дай кнутовище, привяжу бечевку с крючком. Без червя сазан подцепится.
Микита улыбается:
– Брось арапа запускать! – Поднял трехсуставчатое удилище чистого бамбука, поймал крючок, передает мне в обе руки: в одну удилище, в другую – леску с крючком. – Держи! Вот червячки. Облепи их землей, заверни лопушок, а то повянут. Видишь камень? – показал рукой на противоположный берег. – Сядь и сиди, пока не посинеешь. У тебя легкая рука?
– Как когда.
– Ну, ступай!
Высоко подняв удилище, иду. Поглядеть – вроде близко, но обходить приходится.
Валун широкий. С одной стороны к земле прикипел, с другой – водою обмывается. Сажусь на него. Чувствую теплый. Правая моя нога босая, ветерок ее обдувает. Левая, в ботинке – ветер ей без надобности.
Сидим друг против друга. Если посильнее закинуть удочку, можно спутать лески. Тишина. До того тихо, что даже не верится. Неужели бывает так на свете! Иногда кинется с горки выхорок, кувырнется, зарябит поверхность – заклюют поплавки, – и опять вода, словно лед, спокойная.
Вижу, Микита вскакивает. Подсек рыбу. Возится с ней точно игру какую затеял.
– Сазан?
– А то кто же? Гляди, упирается – вот-вот леска лопнет! – прерывающимся от радости голосом балагурит Микита. – Крути-верти, соловьем свисти! Ага, не хочешь? – ведет он уду влево. Леска режет воду, вода шипит, взлетает прозрачной пленкой.
У меня сердце прыгает. Ух ты, в самом деле, что так долго возится?
– Выкидывай его на сушу!
– Не спеши поперед батьки в пекло! – Микита до предела натягивает леску, подводит сачок. – Хоп, и в дамках!
Сазан в подсадке. Лежит, как поросенок. И хотя бы плавничком повел. Мертвым прикинулся. Рыба, а тоже с хитростью! Микита заводит его в мелкоячейчатую авоську, топит в пруду. Тут сазан разбушевался – вода закипела.
Кричу Миките:
– Пристукни шельмеца, не то всю рыбу распугает.
Микита благодушно:
– Нехай трошки повоюет!
Везет же людям!
Поплавок мертвый, не шелохнется. Начинаю беспокоиться:
– В чем дело?
– Пусти поглубже, – советует Микита. – Они по дну ходят, носом ил копают, как поросята картошку. Дай червя потолще – схватят!
Передвигаю поплавок вверх по леске. Теперь не заныривает, перышком лежит на поверхности. Задергался: раз-два-три – аж круги пошли. Хватаю из-под себя удилище.
– Рано. Не суетись. Дай заглотнуть как следует.
Бери, бери, голубчик, я тебя сейчас так подсеку, что рот разинешь! Чувствую: мой будет.
Как на грех, за спиной хрипло заблеяли бараны. Лохматой тучей спускаются с пригорка к воде. Стучат копытцами о камушки, сипло дышат, гремят жестяными колотушками. Вот наказание! Ну, какая тут рыба? Овцы, того и гляди, снесут меня. Высоко задирая курдючные зады, припадают к воде, пьют жадно, затяжными глотками. Чмокают. Насытившись, резко отпрыгивают в сторону, словно понимая, что другие ждут.
Поднимаюсь с камня. Овцы обтекают меня мутным потоком. Не боятся. Совсем ручные. Протягиваю ладонь – нюхают. Запускаю обе руки в густую овчину – мягко струится между пальцев, знакомо пахнет кожухом. Попытался поднять овцу за шерсть – взбрыкнула, чекнула, отпрянула, как ужаленная. На пригорке рычат на меня овечьи сторожа – пятнистые волкодавы.
Чабан успокаивает их, похлопывая по ушам.
Страсть мою рыболовную точно рукой сняло.
Стаскиваю брюки, отстегиваю протезные ремешки, кладу неживую ногу на камень, сверху бросаю рубаху, майку. Бултых вниз головой. И пошел саженки отмеривать.
Микита тоже недолго раздумывал. Осторожно вошел в воду, плеснул под мышки, приложил мокрую руку ко лбу. Нырнул бесшумно, даже кругов на воде не оставил. Вдруг слышу, что-то заворочалось подо мной, толкнуло струями. Микита выскочил наверх, дыхнул – вода из ноздрей, мотнул головой, откинув чуб с лица, предлагает, как много-много лет назад:
– Давай в кит-рыбу? – Тут же зачурался: – Я не рыба, я не кит!.. Лови! Ху-у-уп! – Вода над ним сомкнулась.
Нет, далеко не уйдешь, думаю. Это тебе не на суше. У меня, брат, руки железные. И ныряю не хуже твоего. Вспомнил, как, бывало, в детстве, выслеживая уходящего, открывал в воде глаза. И теперь решился. Разомкнул веки – непривычно: давит, пощипывает. Но терпеть можно. Замечаю в желтоватом тумане Микиту – ворочается, точно белый сом. Подкрался, стукнул по пятке и давай удирать. На воде я не инвалид. Тут он у меня пить запросит.
– Сдаю-у-усь!..
Я возвращаюсь к другу. Ложимся на спину, руки-ноги навытяжку, мелко дышим: отдыхаем. Теплая вода поддерживает тела, словно они пробковые. Славно так лежится! Вот кобчик в синеве кугикает. Расставил крылья, плавает. Тоже в своей воде.
Говорю Миките:
– Чувствую, вроде омылся в Иордани.
Произношу, конечно, высокое слово. Вроде бы и не место ему тут. Но ничего, не режет слух. Видимо, дух наш пока в приподнятом состоянии. Встреча еще свежо переживается. Потому и слово такое впору. До этого мы добросовестно старались сбить волнение, но, видимо, остудить его окончательно не удалось. Это сделает время. И уже тогда «Иордань» прозвучит неуместно. Если вздумаю его произнести, то только в шутку. Надеюсь, так же в шутку Микита ответит:
– Не дюже хвастай ученостью. И мы не темнее сапога. Зубрили всякие мифологии-морфологии.
Сейчас он молчит. Не иначе, вспоминает свое первое послевоенное омовение в родных водах. Видно, и он испытал что-то похожее – понял меня сразу.
– Чудеса: на воде воды захотелось!
Микита советует:
– Нырни поглубже.
– Головастиков наглотаешься.
– Что ты. Поверху, ясно, не та водичка. А на глубине родниковая. Попробуй.
Я пошел вниз головой. Когда захолодило уши, открыл рот, глотнул, удивился: Микита не брешет, пьешь – и пить хочется.
3Они тоже тут пили, чужие люди, с чужой земли. Пили ту, что идет поверху: наносную. О другой воде не знали, а никто не подсказал.
Микита лежал вон там, за бурым валуном. Ни живой, ни мертвый. Ждал: вот сейчас напьются и пойдут не к бригаде, не к грейдеру, что ведет на восток, а прямо на него. Без всякого разбору, без всякой проволочки вскинутся автоматы, горячо задергаются – и не станет ни Водяной, ни ставка, ни валуна.
Как ни страшно было глядеть на чужаков, но голова сама высовывалась из-за камня. Смотрел, точно кролик на удава. Сам серый, и повадка кроличья. А они – зеленые. Брюки, куртки, ботинки, запыленные пыльцой лебеды, – все зеленое. Каски темноватые – куцые рожки на них виднеются… Столько лет прошло, а все как живые встают перед глазами. И тянет Микиту сюда, в эту балку, тянет – спасу нет. Другие ловят рыбу на Гусарке или у каменного обрыва, в Красный Кут ездят. А Микита – сюда, на Водяную. Точно привороженный. За каждым разом видится одно и то же: бегут, разморенные жарой, падают, будто от пули, вниз лицом, сосут воду. Иной сдернет каску, окунет голову, крякнет от удовольствия, бежит дальше. Кого преследуют, за кем гонятся? Наши тут не проходили. Они вон куда подались, за бугор. Да и то не войско – горстка людей. Войска прошли слободой дня два назад. Правда, заслон остался. Только его в пух и прах развеяли. Так что догонять некого.
Заслону досталось трудно. Когда части отступали, немец особо не наседал. Вернее, наседал, но только артиллерией да самолетами. А живую силу в дело не кидал, почему-то решил повременить. Может, потому, что знал: все равно никуда не уйдут. На востоке кольцо уже смыкается.
На бугре, где когда-то полыхал школьный костер, немцы установили орудия. Вкатили их в молодую лесополосу. И все. Не окопались, не укрепились. Зачем окапываться, от кого маскироваться? Это было их время. Удобную позицию высмотрели, слобода как на ладони. С высоты каждая улица, каждый двор просматриваются. Через слободу Гуляйпольский тракт проходит. По тракту войска идут, видимо-невидимо. Бей – не хочу!
Ударили. Над лесополосой дымки стелются, вдоль тракта столбы огневые вырастают. И поломалась колонна, кинулась в боковые улицы. По садам потекла, по огородам. По кукурузе полезла, в подсолнухах затрещала. Пешим полбеды. Но с подводами как, с машинами? Немец, сукин сын, бьет и плакать не дает. Издевается, рогатый. Силу показывает. Ну, погоди же ты, погоди: настанет час!
Когда основные части прошли, мост рухнул. Заслон окопался вдоль Салкуцы. Думала ли когда наша речка, что такое увидит? Довелось! С бугра хлынули автоматчики. Орудия ударили по берегу. Задымились вербы, закипела вода от осколков. Заслон дрогнул. Кинулся в воду. Больше некуда было кидаться. Где вплавь, где вброд форсировали. Дальше случилось непредвиденное.
Месяца полтора назад вся слобода взяла в руки лопаты, вышла на берег. И не только слобода. Подошли и другие села. У каждого села свой табор, свой костер, свой котел. У каждого в руках то ли заступ, то ли носилки, то ли тачка. Казалось, не противотанковый ров копают, а углубление под фундамент невиданной мощи. И, конечно, никто не предполагал, что для себя яму роют.
Неприятельские танки прошли стороной. Даже шума их не слышали. Зато когда чужие автоматчики наш заслон подперли, ему некуда было деваться, как только в эту траншею прыгать. А из нее нигде никакого лаза, нигде никакого выхода. Противоположная стена крутая, высокая, на совесть сделанная. Набилось наших в ловушку порядочно. Подходи и в упор расстреливай. Из соседних дворов подтаскивали лестницы, торчмя ставили все, что можно было поставить. Некоторые дядьки опускали вниз концы вожжей или просто веревок, вытаскивали ими изо рва обреченных. Автоматчики, словно потешаясь, кидали небрежные строчки сперва в тех, кто выручал, потом в тех, кто в беде очутился. Много полегло народу.
Микита в этот час лежал за валуном, на Водяной. Почему прятался именно в этой балке, сам ответить не может.
Мать растолкала на зорьке.
– Чуешь, немцы Салкуцу переходят. Ховайся куда знаешь. Хочешь, беги в поле, заройся в скирду. Хочешь, в балку. Она от грейдера далеко. Может, и пронесет.
Хорошо, не полез в скирду. Поджарили бы, как поросенка. Они окружали скирды, словно то была не солома, а вооруженная крепость. Обшаривали автоматными очередями от пяты до гребня. Затем поджигали.
И удочки успел прихватить. Зачем ему те удочки? Умом сразу не уловил, но чувством понял: пригодятся. Поверят, действительно цивильный мужик, а не переодетый красноармеец. Не прятаться пришел, а наловить рыбки. Удочки могли пригодиться и на тот случай, если бы, скажем, пришлось сидеть тут денька два-три, пока в слободе все уляжется. Подопрет голод – закидывай снасти. А испечь рыбу можно и на углях, и на раскаленных камнях. Дело привычное.
Микита на втором году учебы остался без напарника. Костя заявил:
– Что мы тут штаны протираем? Айда в летную школу! Крымское училище набор объявило. Махнем?
– Ни, я трошки побуду.
– Нудись, учитель несчастный. Я полетел. По крайней мере – дело.
Просидел Микита в педагогическом еще года полтора, а затем в бега подался. Институт рассыпался. Кто на восток уехал, за Дон, кого под ружье поставили, на запад кинули. Микиту закружило, как соломинку в мутной круговерти, вроде бы и движется, но все на месте. С первых дней не взяли в строй: в сердце шумы обнаружили. Оставили пока. Ладно, мол, дойдет и до тебя очередь. Затем горе явилось в хату.
Слободской листоноша, Павло Перехват, сдавать начал. Уже не бегал по дворам, не разносил вести, а стонал на лавке. Хворь его скрутила. Животом, как у нас говорят, маялся. Но не простая боль его допекала, а такая, что с каждым часом точит и точит человека, словно червяк ненасытный. Возили на операцию. Вроде бы повеселел листоноша. Да ненадолго. Когда опять взяло – выкарабкаться уже не смог.
Хоронили Павла Перехвата честь по чести. И музыка играла, и речи говорили. Не поглядели, что военное время. Война, понятно, наложила свою тень на слободу. Все теперь делалось торопливей и проще. Но умер же не кто-нибудь, а сам Павло Перехват, слободской глашатай, известный всему миру человек. Потому и хоронили всем миром.
Микита марши не играл. Потому что слезами бы музыка захлебнулась. Он шел в паре с матерью, держась у отцовского изголовья. Странное, еще не изведанное чувство охватило его. Казалось, все летит в пропасть. И нет силы сопротивляться. Ничего невозможно сделать. Отца не воскресить, войну не остановить. Будущего не будет, прошлое пропало. Закрой глаза и лети вниз, пока сердце не разорвется.
Так и жил Микита, словно телок, отбившийся от стада. Тыкался носом то в одну, то в другую изгородь: все чужие изгороди. Не знал, куда себя девать, куда податься. Тишина, безвременье. Будто все вымерло вокруг. Ни в колхозе, ни в сельсовете, ни в школе, ни в клубе – нигде никого.
Похожее испытывал однажды в детстве; Помнит, уснул как-то среди бела дня… День и в самом деле был белым. Свежий снежок ласково повизгивал под валенками. Люди по-воскресному неторопливы, одеты нарядно. Детвора возбуждена, счастлива по той причине, что голова колхоза пообещал к вечеру покатать на санях. Запрягут лучших лошадей, повезут малый народ по слободским улицам. Может, еще и на гору прокатят… Микита уснул нехотя. Присел на лежанку, где обычно стелет себе мать. Посидел малость. Разморило теплынью. Приложил щеку к подушке. Думал на какую-то секунду, а вышло вон что. В вечерних сумерках бегал по пустой слободе. Где хлопцы, где сани? Выскочил на берег Салкуцы. Поймал в морозной сутеми еле слышное позвякивание погремушек на сбруе лошадей. Вон аж где они: на бугре, за ске́лей. Показалось, навсегда его одиноким оставили.
Так и теперь…
Накинул на плечи фуфайку. На голову – не картуз, а шапку: кто знает, сколько сидеть придется. Подался ка Водяную.
Микита никогда не думал, что бывает такой страх. Кажется, вот-вот задохнешься от холодной судороги. Когда судорога отпускает, тебя обдает теплом, в глазах темнеет до полного затмения. Вначале закинул было удочку. Удочку в воду, глаза по яру, вниз: не бегут ли? Ага, вон, слышится, стреляют. Хотя нет, то ветер зашелестел по сухостою. Свистнули, завозился кто-то, захрипел. Может, кого штыком прикололи в пустом курене, возле бывшего телятника? Опять нет: суслик, словно межевой столбик, стоит на кочке, посвистывает. Ему и горя мало, что вокруг такое творится. А что ему? Чуть опасность – юркнул в нору: попробуй достань! Позавидуешь. Вроде бы рос не боязливым. Ни дождь, ни град не пугали. И в драках не пятился. И на скользком не падал. Не гнулся, не ломался. А тут хоть в землю заройся. Может, потому, что один? Может, потому, что от своих отбился? Раздавят тебя, словно червя, кованым ботинком. И никто доброго слова не скажет. Может, на миру действительно смерть красна? Но здесь, в балке, – до чего же она омерзительна!
Что ж сидеть с завязанными глазами? Смотал как попало леску. Подался на бугор. Оттуда виднее. Может, удастся что разглядеть. Может, удастся что придумать. Может, их и след простыл. Прошли стороной, про Микиту забыли. До него ли? Забот у них и так по горло. Не хватало им еще по ярам шугать, за цивильными гоняться. Они армию ловят, Микита для них невелика пожива. К вечеру вернется домой. Мать кинется со слезами. Вместо того чтобы обнять, утешить, он протянет ей рыбу:
– Подсек трошки!
Она. враз успокоится. А дальше – посмотрим.
Переждать бы лихую годину, продержаться. Придут свои – подскажут, что надо делать.
Он заметил немцев. И страху вроде бы убавилось. Видимая опасность не так пугает, как скрытая. Потому что, когда видишь, уже пытаешься кое-что предпринять. И это отвлекает.
Лег на живот, пополз, как ящерица, к валуну.








