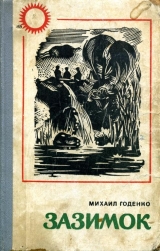
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1Костя нарвал помидоров, несет, улыбается. Подает мне один с розоватыми прожилками:
– Понюхай!
Нюхаю то место, откуда откинут хвостик.
– Уловил?
– Ага?
Как знакомо пахнет! Чем пахнет, даже не берусь объяснить. Тот, кто не знает этого запаха, все равно меня не поймет, тот, кому доводилось его слышать, сам вспомнит. Разламываю на две половинки. Мясистый, Мясо алой бледности, с сахаристыми блестками. Наш, таврический, не чета северным сородичам. У тех – кожа да семечки. Остальное – вода. Наш другой. Ешь его, ешь – и еще хочется. Вкус особый, аромат особый.
Костя впивается белыми зубами в розовый помидор. Помахивает тем, что в руке осталось.
– Скажи, штука! Помнишь, таскали у болгарина? Горячие от солнца. В речку их! Поплавают чуток в холодке под вербой, остынут – в рот.
– Угу! – согласно киваю. Рот полон теплого сока. Как же, я все помню. Вижу всех четверых, возбужденных после удачного рейда. У Юхима даже уши ходят…
Вспомнил о Юхиме и забыл обо всем. Где он? Почему не показывается в слободе? Я видел Микиту. Вижу Костю. А где Юхим? Что за работа такая? Что за печи, от которых нельзя оторваться? Может, прослышал о моем приезде и показываться не желает? Может, мне самому заглянуть на его производство? И загляну!
Как можно тише, как можно спокойнее спрашиваю:
– Где Юхим?
– Видел как-то… Подвозил.
– Подвозил? – переспрашиваю резко.
Костя даже брови вскинул. Ну, что такого – подвез. Он же до этого не раз виделся с Юхимом. Сказал ему все, что надо было сказать. Выяснил все, что надо было выяснить. А я все ношу в себе. У меня оно вон куда подпирает. Потому и срываюсь. Микита совсем спокойно говорит о Юхиме. Может, и не осуждает? Как-то на мои слова заметил:
– Что поделаешь, так случилось. Время было дурное: оккупация.
– Неужели все так просто?
– Что ж, теперь ему и в гору нельзя глянуть?
– Тавро на нем, понимаешь? Ничем его не вывести!..
– Еду как-то, – это уже Костин голос, – вижу: дядько идет. Дай, думаю, посажу: машина пустая.
– Ну!
– Открываю дверцу: Юхим.
– Простил!
– Открыл дверцу!.. Машина ж пустая.
– Сказал ему хоть слово?
– Он сел сзади, за моей спиной. Приткнулся в уголок. Втянул голову в плечи. На лежачего рука не поднялась. И шофер рядом. Неудобно было замахиваться… Признаться, смалодушничал. Думал, в другой раз встречу. Да все недосуг.
– Беда-а-а! – У меня все подрагивает внутри. – Не сказал нужного слова. Промолчал: считай – простил! Как можно? Он должен гореть от наших взглядов: от Микитиного, от Костиного, от моего. Друзья, называется, Кто же, как не они, должны судить? Перед кем он тяжелее всего виновен? Перед ними! Может быть, им не больно? Личного зла не причинил – они и молчат. А может быть, не прав я? Может, он свое получил сполна?.. Не-е-ет, я еще с ним встречусь.
Кое-что я успел о нем услышать. В хате побывал, жинку повидал. Микита многое мне порассказал. Микита все знает. На его же глазах творилось. Здесь, в слободе, творилось, когда она была иным миром, с иными порядками и заботами. Даже солнце вставало здесь по-иному!.. Не могу об этом спокойно думать. Скажите, что же сейчас негодовать, чего сушить себя? Да, понимаю, поздновато. Но и меня поймите. Я только что вернулся в слободу. То, что другими пережито и забыто, для меня свежо.
Юхим Гавва ходил в румынской куртке, таскал за плечом фашистский карабин. Юхим Гавва, с которым мы дрались за земляные орешки. Юхим!..
Он всегда обижался, что не в его руках орешек. Обижался и молчал. Он, оказывается, всегда нам завидовал, считал нас удачливее, считал: мы родились в сорочке, а он голым на свет появился. И нет ему везения. Чин финансового агента недолго грел. Наскучила ему эта канитель. Еще бы! Микита на учителя учится. Костя в летчики пошел. Я в самую Москву подался. А он стоит, как стоял, в воротах базара. Плюнул на базарные дела. Поехал в город к военкому. Определили в пехотное училище. Командиром будет Юхим. Верховодить будет Гавва, а не пресмыкаться у кого-то под началом.
Старый Гавва держал свою думку: «Приедет Юхим с кубарями в петлицах, расквитаюсь тогда с Оверьяном!» Почему-то вбил себе в голову, что все беды от Оверьяна. Юхим же считал, что его личное невезение происходит от Котьки, Микиты и Дёнки, то есть от друзей.
В начале войны командовал взводом. Под Лозовой остался один-одинешенек. Увязался как-то в паровозную бригаду. Сорвал с себя защитное, натянул мазутное, взял лопату в руки и ну кидать уголь в огонь.
Недолго грелся у топки. Нашлись языки – выдали. Забрали Юхима немцы с паровоза, погнали в мариупольский лагерь. Бежать и не пытался. Даже мысли не держал. Со всем согласился: что будет, то будет. В груди холодок поселился. Паскудный холодок, липкий, неотступный. Который человека в скота превращает. Бьют тебя, гоняют тебя куда хотят, а тебе все равно. Бежишь, подчиняешься беспрекословно. Не хватает силы даже на то, чтобы посмотреть на ката осуждающим глазом. Хлопцы что-то замышляли, шушукались, когда и в полный голос говорили. Но Юхим нет: глухой и немой. Ни ушей, ни языка у Юхима.
Случается же: не ждал, не гадал и вдруг – освободился. Шел последнем. Не шел, еле волочил ноги по пути от порта до лагеря. Позади конвойного оказался. Споткнулся, упал на грейдер, лежит. Конвойный и ухом не повел. Внизу над насыпью цементная труба для водостока. Скалочкой покатился вниз, юркнул в трубу. Тишина. На дне ил засохший. Корочка потрескалась, облупилась. Куча бурьяна, принесенного водой. Положил голову на бурьян, почувствовал, словно сквозь землю провалился.
Шел ночами. При белом свете укрывался в зарослях ветроупорок. Ел что бог пошлет. В лесополосах яблони-дички плодоносят, груши-дули. Кое-где на абрикосовых деревьях плоды ссохшиеся чернеют. Но маслинки, пожалуй, больше всего – серебристая суховатая ягодка на сизых кустах. Ею и жил.
Утром поскребся в окно, что со стороны огорода. Даже не в окно – в маленькое стекольце, вмазанное в стену. Поскребся так знакомо, что у матери сердце захолонуло. Выскочила той дверью, что ведет в сарай, откинула кованый крючок да так на шее у сына и замерла. Отец пристучал на деревяшке, младшие братья-сестры повылетели. Старший Гавва потащил Юхима на чердак.
В правом углу чердака – курган темной пшеницы. Пшеница укрыла Юхима от постороннего глаза. Отец закопал сына в зерно, дал в рот камышовую трубочку: дыши! (Знакомое дело, мы когда-то так речку по дну переходили). Много дней подряд Гавва то откапывал, то снова живьем хоронил сына. Покормит, попоит – и в могилу.
Тревога прошла мимо. Успокоился старший Гавва, и Юхим осмелел, начал спускаться вниз по лестнице, начал показываться в светлице. Правду говорят, беда приходит негаданно, нежданно. И не знаешь, с какого боку она к тебе подступится. Ждал Гавва кары за сына, но расплатился совсем за другое.
Давно не ходил старик на базар, давно не свежевал бараньих туш, не рубил говяжьих ребер. Из мясника превратился в плотника. По времени и ремесло. То полку смастерит, то ступку выдолбит, то гроб кому сколотит. В последнее время Гавва в амбарах молотком постукивает: закрома ладит, перегородки поправляет. Ходит туда с кирзовой сумкой, инструмент в ней носит – рубанок, молоток, стамеску. Стоят амбары на выгоне, где когда-то карусели крутились, ярмарки клокотали. Построены амбары из серого камня-дикаря, что из церковного фундамента наковыряли. Кирпичины ни одной не добыли: на крепком растворе кладены. Ни ломом, ни зубилом не оторвать. Кирпич крошится, а связка, что железо, держится. В амбарах зерно водится. Потому и охрана выставлена. Но что Гавве охрана? Он делает дело. А между делом пшеницу за голенище зачерпывает, в сумку насыпает. По толике носит, самую малость берет, а, гляди, курганчик на чердаке рос – человека закопать можно.
Или донес какой завистник, или само собой так получилось? Явился румынский офицер с двумя солдатами к амбару. Остановили Гавву на пороге. Трусанули сумку, сняли сапог. Вывернули карманы, куда тоже кое-что понабилось. Повели плотника ни живым ни мертвым к дому. Выскочила жена, обомлела, хотела кинуться в светлицу, спрятать сына, ноги отказали. И Юхим растерялся. Видит в окно: батька ведут, а что делать – не знает.
Офицер со старшим Гаввой полез на чердак. Долго там топтался, тяжело топал сапогами. Даже штукатурка с потолка кое-где упала. Увели отца и проститься с детьми не дали. Юхима не тронули. Даже не заметили. Словно бы его и в живых нет.
Через три дня с глухой стороны амбаров, у стены, сложенной из синего церковного камня, казнили Гавву. Казнили принародно. Другим в назидание. Когда завязывали глаза, он лихорадочно целовал чужие руки, молил, о пощаде. Но не вымолил. Коротко задергались два автомата. Накормили Гавву немецким хлебом. До отвала накормили.
За Юхимом пришли через сутки. Увели в комендатуру. Там он поторопился заявить, что из Красной Армии дезертировал по собственному желанию. Ни о чем больше не спрашивали, ни разу не ударили. Только показали: сюда или туда? То есть будешь служить нам или в землю хочешь? Юхим выбрал «сюда». Дали нарукавную повязку, карабин вручили. Думаю, ни с того ни с сего оружия бы не доверили. Видно, кто-то им описал Юхима. Разъяснил, что за птица.
2Не выходит Юхим из головы.
Садимся с Костей у толстого ствола груши, спинами к стволу.
– «Столичной» бы, а? – Друг мой хлопает в ладони, потирает их.
– Угу! – соглашаюсь. Мы впервые встретились. – Почему не сбегать.
– Лавка закрыта.
– К Поле, в «гадюшник»!
– Нету Поли, в город подалась.
– Микита повез?
– На автобусе покатила.
– Беда!..
Поля торгует спиртным в маленьком магазинчике, что вблизи рынка. Ее заведение называют по-разному: кто «гадюшником», кто «синим уголком». Там всегда сине от табачного дыму. В углу – стол с горкой желтой соли, с рыбьими ошкурками. Больше никакой мебели.
«Рачная» считает «гадюшник» своим конкурентом. Почему-то многие сюда тянутся. Проще, что ли? В «рачной» строго: белые холодильники, мраморные столики, стеклянные двери. Совсем по-городскому. И народ все больше приезжий, с автобуса. А в «синем уголке» свои.
Я тянусь к ботве, срываю шершавый огурец с закорюченным носом, смакую. Огуречный сок подсыхает на губах – стягивает губы. Между стволами дальних яблонь просвет. Видны вербы на том берегу Салкуцы. За вербами обширная площадь поливного огорода – бывшая грядина болгарина. Костя прославил эту грядину. И люди теперь называют ее не «болгарской», а «Говязовой». Костя из огорода сделал аэродром. Под самым носом у оккупантов прилетал в слободу на штурмовике-«кукурузнике».
– Как ты отважился?
– Дурной был, считал: все на свете «але-гоп и не ходи босый»! Мог и голову оставить, и машину.
– Попало тебе на орехи?
– Полковник чуть было не расстрелял на месте. Отца пожалел. Подошел тяжелый, словно туча с градом. Сорвал погоны, сорвал награды. «В штрафной батальон».
– И что?
– Повели в пустой погреб. Там «губа» наша домашняя находилась. Померз сутки, и все.
– Отошел командир?
– Нужда заставила. Подняли полк по тревоге. Пошли на перехват немецкого каравана. Ну, а потом операция за операцией. Десант за десантом. И морпехоту поддержать, и катера прикрыть. С эскадрой ходили. Лодки топили. В конце концов не один ли шут: в штрафной или не в штрафной. И там огонь, и здесь огонь. И там смерть, и тут смерть. Вернул «батя» все регалии. Говорит: «Скажи спасибо, что я такой добрый!». Спасибо, говорю.
Отчаянный мужик Костя! Не зря он с малых лет ходил в атаманах. Это же надо было такое удумать: слобода лежит в немецком тылу, а он решил дома побывать. Знал, что из родни только отец остался. Дай, думает, попробую вызволить отца из неволи. Как раз в то время на «кукурузник» посадили. Полетай, мол, пока пригонят новые бомбардировщики. Над Симферопольским шоссе носился, колонны поджигал, засыпал окопы бомбовой мелочью. Однажды до Мелитополя добрался. А от Мелитополя до слободы пустяк. Ни снарядом не стукнуло, ни «мессеры» не увязались. Ну, а над слободой – тишь, гладь да божья благодать. Припала слобода к земле, лежит – не шелохнется. Поздней осенью было дело. Голым показалось село. Только хатки серые, словно редкие стариковские зубы, стоят вдоль Салкуцы. Не доводилось раньше глядеть с такой высоты на свою слободу, потому чужой показалась. Пошел на посадку. И сторону выбрал правильно: навстречу ветру, пошел. По дымкам, что над хатами, определился. Отстегнул ремни, открыл кабину, спрыгнул на землю. Тихо вокруг, даже не верится, что война. Будто во сне переступает ногами, пропускает между пальцев рук пахучие верхушки высокого одичавшего укропа. Помнит: вон у той вербы есть кладочка. Два ясеня легли могучими стволами поперек Салкуцы. Поверх них тес короткий настелен. Идешь по планочкам, словно по цимбалам ступаешь. Заметил, доски кое-где прогнили, проломились. Чинить некому. Кто теперь станет чинить?..
Бывают на войне такие минуты, когда страх одолевает тебя до дела или после. В самый же момент свершения, на самой вершине опасности, ты абсолютно спокоен. Видимо, тут тоже существует свой барьер, преодолев который находишься как бы по ту сторону страха.
Костя преодолел этот барьер.
Постояв на кладочке, двинулся к своему огороду. Когда вошел в хату, спокойно сказал:
– Собирайтесь, папаша!
Отец забегал по дому. И кошелки тащит, и сумку набивает, и кожух хватает. Сын улыбается.
– Тату, мой летак не полуторка. Куда столько? Шапку на голову, полушубок на плечи – и айда.
– Ой, та я ж ничего не знаю. Нежданно-негаданно, як снег на голову. Куда, зачем?
– Приборы покажут! – пошутил сын. – Готовы?
– Подожди, табаку захвачу на дорогу! – Старый Говяз вышел в сени, поднялся по лестнице на чердак, где сушился табачный лист.
Шли по огороду молча. Вокруг ни души. Раньше, бывало, загудит самолет в небе – все население задирает вверх голову. Теперь не те времена. Приземлилась машина считай под самыми окнами – и никто за порог не выскочил. Только заметно было: в окнах хат белеют платки, сереют бороды. И влепленные в стекла ребячьи носы. На улицу не пустили: нечего соваться куда не следует. А через окно можно – гляди, учись: вот какие хлопцы выросли в нашей слободе!
Когда под ожесточенным напором винта до самой земли прилег суховатый укроп, когда самолет запрыгал по кочкам, в сторону грядины уже бежало с десяток румынских солдат и несколько полицаев. Стреляли на ходу, не целясь, орали всяк по-своему. А Косте и горя мало. Вывел машину на ровное. Поставил против ветра. Опустил подкрылки. Дал газу.
Юхим тоже бежал на грядину вместе с другими. Стрелял в сторону зеленой машины. Но он еще не знал, что стреляет по другу, по своему бывшему предводителю.
Вот и назвали поливной огород Говязовой грядиной.
3Дело к вечеру. По-прежнему сидим под грушей. Беседе, кажется, конца-краю не будет.
– Черноморская вода знаешь какая тяжелая? – Костя придвинул носком ботинка кусок бутылочного стекла – крупный осколок донышка, взял в руки, протянул мне. – Вот, что стекло, тяжеленная. Прозрачности знаешь какой? Нет. Тоже как стекло. Ребята, бывало, возьмут графин с водой опустят за борт… На сколько думаешь? Футов на шестьдесят. И видать! Понял?
– Здоров травить!
Костя толкает меня в плечо:
– Иди ты, салага! – Ставит локти себе на колени, ломает веточку, но смотрит не на нее, а куда-то дальше, говорит со вздохом, еле слышно, словно только для себя говорит: – Тяжелая вода…
– Пришлось хлебнуть?
Смотрю на друга и, конечно, прямого ответа не жду. По глазам понимаю: сейчас скажет что-то неожиданное.
– Кавказский берег видел?
– Ну?
– Горы у воды словно ножом срезаны. Заметил? В Крыму иначе. Холмы опускаются к воде полого. Помнишь Медведь-гору?.. Кавказские срезы светлы. Издалека видно. Над ними белыми крапинками санатории. В синем лесу – белые строения. Здорово. Как сейчас вижу… В одном из них – морской госпиталь. И что ты думаешь, подошел миноносец, начал обстреливать. Крушить стены, проваливать потолки. Братва, рассказывают, кто куда. Кто бегом, кто ползком. А он палит. Я когда-то лежал в этом санатории. Из Севастополя нас, раненых, полный транспорт доставили. Меня как раз перед тем стукнуло. Попал в лазарет. Моя братва улетела на своих крыльях. Кое-какие машины взорвали. Аэродром изуродовали. И айда на Кавказ. Страху натерпелся на транспорте. В воздухе проще. А на воде – муторно. Все тут не свое, не привычное, медленное… – Костя отшвырнул ветку, скосил на меня узкие глаза. – Понимаешь, Дёнка. Госпиталь не военная цель. Под красным же крестом! Но он не посчитался. Сам под черным крестом ходил. О, я его выслеживал! Это была не первая его операция. Ну, думаю, не я буду, накрою. Накрыл.
Слушаю Костю и все вижу по-своему, наверняка не так, как было. То есть, может, в главном и так, но по-своему. Ну, например, о таких подробностях Костя не упоминал. А я вижу: черный бинокль поднимается медленно, словно стволы спаренного орудия. Шарит по берегу, задерживаясь на белых продолговатых зданиях. Дальномер тоже напрягает свои широко расставленные глаза, как бы входя в дымку береговую, раздвигая ее, осматривая каждый поворот, впадину, выступ.
Кто он? Как попал сюда этот миноносец? Босфор – узкое горлышко. Над ним наши самолеты пролетают. В глубинах наши лодки таятся. Эсминцы в дозоре бывают. Далеко им ходить, от Поти. Но ходят. Может, по Дунаю сплавлен? Или все-таки кружным путем добрался? Размышляю: может, он из семейства «ягуаров» будет? Тогда далекий гость. Его дом на Балтике. Ходил у шведских берегов, побывал в Рижском заливе. Сопровождал транспорты с войсками и снаряжением. Может, это тот, который в июле сорок первого схлестнулся с нашими эсминцами? У него на юте вспыхнул пожар. Катера охраны обволокли его дымовой завесой, помогли уйти из-под огня. Чуть обожженный, он, видимо, больше не попадал ни под снаряды, ни под бомбы, ни, того больше, под торпеды. Конвоировал суда по Средиземному морю: в Африку и обратно к Пиренеям. Затем стоял в Пирейском порту. И вот Черное море. Я увидел: судно прошло Босфором. Берега смыкались, смыкались, пока, не закрыли пролив совсем. Как выйти обратно? В то время немец, конечно, считал Черное море своим внутренним водоемом. У него, быть может, и не было таких опасений.
На сером борту черный крест, точь-в-точь как у псов-рыцарей на шлеме. Крестоносец перекладывает руль вправо, выходит к цели левым бортом. Одновременно орудийные башни носа и кормы разворачиваются, поднимают длинные стволы. Катера охраны рыщут вокруг эскортируемого. Просматривают небо, прослушивают глубины. Чуть что – ударят по самолетам, по лодкам. Чуть что – пойдут на перехват торпедных катеров.
Зачем ему понадобилось истреблять калек? Зачем понадобилось кровавить уже окровавленные бинты? Откуда такая жестокость?
Мне вспоминаются слова профессора нашего института, низенького круглого человечка. Поглаживая седой вихорок на головке, повторял нараспев:
– Афуроре норманорум либера нос домине!
Что означает, если я правильно запомнил: «От дикости и зверства нормандцев сохрани нас, господи!» Так, уверяет профессор, молились в древности латиняне, истерзанные набегами норманнов-германцев. Я мысленно повторяю заклинание: «Афуроре норманорум…» И уже вижу долину реки Риона. Вижу взлетное поле. Костя натягивает шлем. Застегнул «молнии», бежит к машине. Несется с выбрыком, как любил бегать в детстве, рывками, высоко подпрыгивая. На самом деле, может, он бежит и не так. Но я его помню таким, потому и вижу таким, где бы он ни был, кем бы ни служил. Котька для меня всегда остается Котькой.
Он шел на север. Держался береговой линии. Мир под ним разделен надвое: темно-голубое и темно-зеленое. Первое – слева. Это море. Второе – справа: лесистые склоны. Словно курс, проложенный по цветной карте белым карандашом, светилась линия прибоя.
Катера, похожие на водяных пауков, скользили по морю, оставляя заметные линии разводов. Они кинулись на перехват самолетов. Решили поставить заградительный огонь подальше от охраняемого судна. «Мы тоже ученые, – подумал Костя, – битые, купаные, стреляные. Нас таким маневром не проведешь. Кидайтесь сюда. А мы перепрыгнем через ваш забор, зайдем с той стороны». Он взял штурвал на себя. Машина круто пошла вверх. Линия горизонта пропала под фюзеляжем. Радист доложил:
– Командир звена прикрытия хочет шугануть катера, пройтись над палубами. Просит «добро»!
– «Добро» не даю! Пусть сидит у меня на хвосте.
Машина упала на правое крыло. И земля и вода повисли где-то сбоку, на уровне, глаз. Чтобы видеть цель, надо косить вправо. Ага, вот он. Застрочили скорострельные зенитки. Появились близкие облачка разрывов. Теперь он резко бросил машину вниз на серую продолговатую цель. Кажется, промедли минуту, и бомбовоз врежется стеклянным носом в широкую трубу миноносца.
После того как оторвутся бомбы, чувствуешь неимоверное облегчение. Просто гиря с души! Они еще не накрыли цель, но ты уверен: накроют. Ты им дал точное направление. Ты метнул их как раз тогда, когда почувствовал: время! Ради этой секунды, собственно, и живешь. Кажется, что и родился именно для этого. Школа, училище, тренировочные полеты, может быть, даже ледяная горка, что у чудно́й криницы – все для этой секунды. Пусть потом собьют, пусть сожгут, пусть утопят – дело сделано!
Откинулся назад, потянул штурвал. Машина с великой натугой начала выбираться из падения. Опасная точка. В это время до тебя рукой подать, идешь медленней обычного. Сейчас ты уязвим не только для снаряда, но даже для винтовочной пули.
Огонь вырвался из-за спины. Вернее, из-за спинки сиденья.
Ни суеты, ни растерянности. Сейчас не до того. Надо знать: дотянет машина или не дотянет? Выбрасываться или не выбрасываться? А ну, выбросишься, подойдут чужие катера, подберут. Нет, надо тянуть. Штурман сбил пламя. Кажется, ничего опасного. Но высоты не набрать. Какая-то мертвая усталость в левом моторе. Предложил ребятам, стрелку и штурману, прыгать. Отказались. Говорят, дождемся берега, там видно будет. И действительно: там все-таки земля. Висеть над водой как-то неуютно. Положил машину на левое крыло. Показалось, лобастые холмы пошли на таран…
Костя разровнял ботинком сухую землю. Нацарапал палочкой что-то вроде черевика. Перечеркнул этот черевик пополам.
– Разворачиваясь, заметил: вот так корма, – ткнул палочкой в верхнюю часть рисунка, – вот так нос, – ткнул в ту часть, что ниже линии. Линия – это, оказывается, поверхность моря. – Я с ним расквитался. Теперь, думаю, не страшно и в бугор врезаться.
Он отбросил палочку, затер рисунок подошвой. Рывками засучивает рукава. Показывает:
– Вот тут и тут! – Задирает обе штанины. – И тут!
– Переломы?
– Даже не слышал, как хрустнули. – Вскинул подбородок. – Я посадил. На чайной плантации, понял? Шасси не вышли, заклинило. На брюхе по кустам скользил. Дальше – ров. Ну и задрал хвост. Ребята только синяков нахватали. А я весь в переломах. Надо же! Один за всех ответил. Но крестатого барбоса напоил!…
Я хотел было выяснить, да так и не успел: что за миноносец, чей? Он представляется мне германским. А заходили германские в Черное море? Может, чей из союзников?
Не успел потому, что подошел старый Говяз. Слышу его хрипловатый дискант:
– Костя, поганый ты хозяин. Хоть бы угостил хлопца грушами.
– Не видел он ваших груш!
– Э, нет, не говори. – Затем ко мне: – Найдён Тимофеевич, поинтересуйтесь. – Подал желто-розовую грушу. Она гирькой легла на ладонь. – Поинтересуйтесь! – подчеркнул он. – В октябре сполнится ровно восемьдесят два лета, как посажен корень. В день моего ангела сажали. До сих пор стоит. Гляжу на него: пока он стоит, и мне стоять!
Улыбаюсь стариковской вере. Но не оспариваю. Может, действительно судьба: сколько дереву, столько и хозяину отпущено. И еще думаю: у каждого свои причуды, каждый что-то загадывает. Может, с загадками жить интересней? Я ведь тоже многое поназагадывал.







