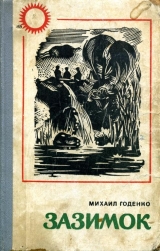
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
1Первым влюбился Котька. Он скор на все. Влюбился по-правдашнему, как парубки в девчат влюбляются. Маялся. Потому что как ей скажешь про свое чувство, если она старше тебя на целых три класса, если она дочь учительницы, если у нее отец не простой человек – аптекой заведует.
Ее зовут Поля. Можно назвать еще Полиной. А то и Полюшкой. Разные люди ее по-разному и называют. Но для нашей четверки она всегда была Полиной Овсеевной. Так мы ее зовем, в мечтах конечно. Отец ее, аптекарь, – грузный дядя. Лицо налито недоброй синевой. Его зовут «Безногий». Правда, ноги у него на месте, но ходить ими не может, в коляске ездит. Колеса высокие, на резиновом ходу. Овсей толкает колеса руками и катит себе в любую сторону. Пацаны даже завидуют: «Катайся сколько влезет!»
Мать Поли, Хавронья Панасовна, – наша учительница. Добрая женщина. Но, если разозлишь, – как даст в лоб костяшками пальцев, да еще и снизу, под подбородок, подстукнет. После такой кары и зубы ноют, и в затылке покалывает.
Есть у Поли младшая сестра Саша. Они одного роста, одинаково одеты. Темные платья, белые гимназические передники. Потому и зовут их «гимназистками». Похожи во всем, словно близнецы. Только Саша смуглая, на гречанку смахивает, Поля – светловолосая. На школьном вечере все ждут, когда «гимназисток» объявят. Выходят сестры не спеша, оглаживают темные платья. Набитый до отказа зал, где происходят все сборы, замирает. Тонкий Полин голосок заходится жалобным плачем:
Чого ж вода каламутна,
Чи не хвиля сбила?
Чого ж дівка смутна тепер,
Чи не мати била?
Поля на какое-то время умолкает. Басовитые струны старого пианино гудят-надрываются, сгущая и без того горькую девичью тоску. Вдруг над басами взлетает отчаянный крик:
Де ти, милий, спаси мене
Від лютої напасті.
За нелюбом коли жити —
То краще пропасти!..
На Котьку лучше не глядеть. Белые губы раздавлены в вареничек. Глаза зажмуренные, слепые…
На большой перемене за дощатым забором нужника курили самосад. Насосались, аж в глазах зелено. Если бы знать, что Хавронья Панасовна поведет на спевку. Если бы знать заранее, что придется стоять у самого носа ее Поленьки и дышать ей в лицо. В общем, если бы знал, где упадешь, так соломки подстелил бы.
Кто повыше, тех поставили во второй ряд. А Костя угодил в самую середину переднего ряда. Поля поморщилась недовольно, спросила строго:
– Это ты, Говяз, так накурился?
– Ни, ей-бо! Хоч карманы потрусите…
Котька не ожидал, что она полезет в карманы. А она взяла да и полезла. Вытряхнув оттуда крошки самосада, завизжала:
– Геть с моих очей, поганый!
Котьку начал душить кашель. Не помня себя, выбежал из класса, пересек школьный двор, забился в угол сарая и дал волю слезам. Плакал долго, взахлеб, пока в груди все не улеглось, пока не зазвенело в ушах от странной тишины.
2Ходит Котька как в воду опущенный. Глядит мимо нас. Слова вялые от взаправдашней печали. Микитка и Юшко подсмеиваются над ним.
Они, глупые, не понимают, что задето неосторожно самое первое, самое хрупкое, самое дорогое чувство. Они и не догадываются, что он сам молит бога послать необходимое несчастье, скажем пожар в школе.
…Поля теряет сознание. Котька хватает ее на руки, выпрыгивает с ней из окна пылающего здания, приносит на аптечное подворье. Не Котька-недоросток, а настоящий парубок! Лежит Поля (Полина Овсеевна!) на его руках светлая, легкая. Очнулась, обняла за шею, оглушительно шепнула на ухо благодарное слово. Из пристройки выбегают Саша и Хавронья Панасовна. Выкатывается на коляске Овсей-аптекарь. Котька передает Полю из рук в руки. Задыхающийся отец просит:
– Нагнись, любый хлопче!
Котька наклоняется. Аптекарь целует его в лоб холодными устами и говорит, всхлипывая по-стариковски:
– Она твоя, добрый молодец, она твоя!..
Не ведают этого хлопцы, потому насмехаются. Котька прощает приятелей, машет на них рукой: мол, что с них взять!
Я догадываюсь о его печали и молчу солидарно. На меня он посматривает добрыми глазами.
Нас потянуло к чудно́й кринице. Что бы в мире ни случилось, она остается прежней. Бурлит синеватой водой, переплескивает ее, горькую, через покатые края каменной ложбинки. Она кажется нам центром земли. От нее разбегаются дороги во все стороны света. И к ней же сходятся.
Поднимаемся по крутому косогору. Из высокого сухостоя шумно выпорхнула кургузая дрофа. В серых крапинках, высоконогая, словно страус, круглая от летнего нагула. Куцевато расставив крылья, подпрыгивает на жестких ногах, бежит резво.
Мы увидели дрофу, и из голов улетели все мысли, из сердец выдуло все печали, кроме одной: как бы поймать! Юхим хватает камень, Котька палку. Я прыгаю с откоса, бегу дрофе наперерез. Микита оказывается умнее всех. Остается на месте, наблюдает, как мы гоняемся за птицей. Когда дрофа наконец оторвалась от земли, проплыла над его головой, он помечтал вслух:
– Вот бы ружжо!.. А знаете, у безногого аптекаря есть ружжо!
– Не слышали…
– Да нет! Что я говорю – ружжо. Не ружжо, а это, как его, пульками тёхкает?
– Пугач?
– Какой пугач! Его еще зовут «мотя-христя».
Я вспомнил. В аптеке под стеклянной крышкой действительно лежит отливающий серебром монтекрист.
– А-а… мантихрист! – говорю.
– Он самый!
– То штука. Таким бахнешь – дрофа твоя.
– «Бахнешь»… Он грошей стоит!
– Давайте попросим взаймы. Добычу – пополам, га?
– Або украсть, – заметил Юшко. – Заговорить зубы аптекарю – «мотя-христя» у меня за пазухой!
Монтекрист растревожил. Наконец решаемся…
Аптека глядит на улицу четырьмя окнами. Чтобы попасть в нее, нужно открыть калитку, пройти по дорожке, выложенной жженым кирпичом, до крылечка. Над входом – жестяная вывеска. На ней красным по белому сказано «Аптека». Под буквами – алая рюмочка. Вокруг ее тонкой ножки обвилась алая гадюка. Она с любопытством заглядывает в рюмку, высунув жальце.
По поводу аптечной гадюки Микиткин батько, листоноша, пустил шутку:
– В хозяина пошла: любит в рюмку заглянуть.
Аптекарь сидит у стойки на белой высокой табуретке. Записывает что-то в журнал. За спиной, поблескивая темным лаком, стоит коляска. Лицо Овсея по цвету напоминает бычью селезенку. Когда он с нами заговорил, ударило запахом больничного спирта.
Мы поснимали картузики. Так научены: куда бы ни зашел – шапку долой! Котька выскакивает наперед.
– Дя, чи не дадите вон то? – показал на монтекрист.
Аптекарь с хрипом втянул воздух, обнажил черные зубы.
– Кого решил убить, мамку или батька?
– Не… может, зайца, может, еще что.
Аптекарь посмотрел на нас, остальных.
– И вам?
– Ага! – ответили дружно.
– Вот разбойники! – раскашлялся, потер шею у кадыка. – Добре. Только чур сперва покатаете меня по слободе. – Видно, захотелось ему подышать на воле. Вишь как гудит у него там внутри.
Соглашаемся:
– О, сколько угодно!
Пальцы босых ног окунаются в осеннюю пыль, как в воду. Пыль даже брызжет из-под ног. Мелькают хаты, заборы, деревья, пустыри. Когда выскочили на Гуляйпольский тракт и поравнялись с пивной, аптекарь схватился пухлыми руками за высокие колеса. Остановил коляску намертво. От неожиданности Микитка с Юшком ткнулись носами в спину седока, а мы с Котькой пронеслись вперед.
Пивную у нас называют «рачной». Но не раки тому причиной. Они бывают здесь редко. Чаще всего дядьки расползаются отсюда по-рачьи. Потому так и названо.
Овсей-аптекарь долго глядел на «рачную», что-то мучительно решая. Облизывая сухие губы, потирал грудь. Затем обвел нас взглядом, остановился на Миките: самый рослый и по виду самый надежный. Поманил к себе, положил на ладонь двухкопеечную монету.
– Бубликов!
Аптекарь, как награду, вручил нам бублики – бледные, шершавые от соли колечки. Сам же остался без бубликов. Видать, не они его занимали. Горько поглядел на «рачную», густо сплюнул и скомандовал:
– Толкай!
Под вечер нам показалось, что безногий уснул. Сбавили ход. Бережно, чтобы не потревожить его покой, подогнали коляску к пристройке аптечного дома. Навстречу вышла худощавая Хавронья Панасовна, наша учительница. Чему-то радовалась, даже первой поздоровалась:
– Добрый вечер, дети!
Сдернули картузы:
– Вечер добрый!
Подошла к мужу, толкнула в плечо.
– Что ж улегся спать, не вечерявши? – Вдруг глаза расширились, лицо вытянулось. Она как всплеснет над головой руками: – Ой, рятуйте, людоньки добрые, он же готовый!..
Ноги наши одеревенели, языки усохли. А она, показалось, все нас пытает, все призывает к ответу:
– Ой, что же с ним сделали? Где же его возили?..
На наше счастье, сбежались соседи. Оттерли нас от коляски, вытолкнули за калитку. Пересекаем улицу, перелезаем через церковную ограду, хоронимся в густой сирени. Сердца тупо стучат в ребра, уши чутко ловят каждое слово, сказанное там, на аптечном подворье.
– Ой, батечку-батечку, куда ушел, на кого покинул своих сиротинок? Ой, да чи мы ж тебя не кохали, чи мы тебя не миловали? За що караешь, за що души разрываешь?!
Странно слышать такое от учителки. Казалось, она больше ничего и не может, как только задавать уроки. Казалось, она ни о чем больше и говорить не может, как только о чистописании да о поведении. И вдруг причитает, точно обыкновенная слободская тетка. Переглядываемся коротко, замираем в ожидании. А ну как заявит:
– Ловите душегубов! Это они его укатали!
Что тогда?
На второй день отец мой говорит матери:
– Овсея натомировали. Показало – сгорел.
Мать удивилась:
– Как сгорел?
– Горилка нутро спалила.
Я становлюсь невесомым. Лечу по вскопанным огородам быстрее голенастой дрофы. Тороплюсь к друзьям со спасительной вестью: «Мы не виноваты. Сам сгорел!»
3На правом берегу Салкуцы, за каменным обрывом, стоит бугор. За тем бугром по вечерам прячется солнце. Весной на бугре пасутся коровы. В разгар лета, когда низкорослая трава становится бурой, туда поднимаются овцы. Коровы же сходят вниз, к самой реке. Вершина бугра плоская, просторная. Именно там мы и зажигаем праздничные костры. В году два раза: майский и октябрьский.
Мы сейчас торопимся на октябрьский. Вернее сказать, на предоктябрьский. Праздник наступит завтра. У сельсовета уже висит красный флаг. С утра на высокое цементное крыльцо поднимутся голова слободы, председатель комитета незаможных селян (короче, «кенесе»), директор школы и двое из района – мужчина в темной суконной гимнастерке и женский представитель в красной косынке. У крыльца, которое станет трибуной, развернутся строем все классы. Под грохот барабана, конечно, с горном и знаменем. За ними толпой хлынет слобода. Взрослые будут напирать на детвору, чтобы стать поближе, чтобы слышать речи.
Все это будет завтра. А сегодня вечером костер. Каждый несет сухую веточку или чурбачок, щепку или, скажем, стружку, вкусно пахнущую столярной мастерской. На самом закате вожатые построят нас большим кругом, крикнут: «Садись!» Сядем по-турецки. На середину выйдут ученики-ударники. По команде «Праздничный костер зажечь!» они чиркнут спичками, сунут их в сухую траву, подбитую под темную шапку костра. Огонь разом охватит сушняк. С треском поднимется торжественное пламя. Лицам станет тепло, спинам холодно. Директор семилетки Сидор Омельянович Сирота скажет:
– Дети, поздравляю вас с надвигающимся праздником щастливой революции!
Загудим весело, захлопаем в ладоши. Начнется смех и потасовка. Сидор Омельянович прикрикнет:
– Тихонько, ребята, вы не на уроке! Тут вся слобода слушает!
Действительно, всей слободе слышно и видно, что творится на бугре.
Когда хлопцы и девчата поочередно расскажут выученные стихи, на кругу появится Поля. Вся в белом, печальная, словно призрак. Мы притихнем на минуту. Особенно Котька. Она легонько стукнет о ладонь рогаткой камертона, поднимет ее к уху, передаст нам то, что сказала ей черная рогатка:
– Ля-а-а!..
Повторим за Полей:
– Ля-а-а!..
По ее взмаху рванем вразнобой:
Мы красная кавалерия.
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ…
Но это пока не самое интересное. Вот начнутся игры, тогда будет дело! Любимая наша игра – «довга лоза». Растягиваемся редкой цепочкой по бугру, упираемся руками в колени, наклоняем головы. Последний в цепочке с разбегу перепрыгивает через каждого и становится первым. И так друг за дружкой.
Юхим решил отомстить мне за свой картуз, который я метнул вверх, а он взял да и упал в костер, подсмолился малость.
Когда я подбежал, чтобы перепрыгнуть через Юхима, он резко выпрямился. Я ткнулся носом в его лопатки – в глазах засветилось. Ладно, думаю, ты через меня тоже прыгнешь! Жду. Слышу, сопит, как бугай, летит, выставив руки вперед. Только коснулся моих плеч, я возьми да и пригнись. Потеряв опору, Юхим перелетел через меня, шлепнулся пузом. Вскакивает на ноги – и в драку. Я в долгу не остался. И пошло. Если бы не Котька, не знаю, чем бы все кончилось. А то Котька.
Три звена выпало из цепи «довгой лозы»: я, Юхим, Котька – и цепь разорвалась. Девчатам тоже надоел их «немой телефон». Подбежали к нашему гурту.
– Давайте в «третий лишний»!
О, памятная игра! Мне показалось, с нее-то я по-настоящему на свет народился.
По кругу заметалась Танька, ученица нашего класса. Она то визжит по-поросячьи, то смеется дробно, заливисто. Будто у нее вместо горла вставлена глиняная свистулька с горошиной. Не зря ее зовут Танька-дурносмех. Покажи палец – упадет со смеху, хоть водой отливай.
Танька мечется, словно полымя. Именно полымя. Кофта на ней ярко-оранжевая. Горит в сумерках. Странно смотреть: ни ног, ни юбки, ни лица. Только кофта мечется по кругу.
Танька с ходу притулилась ко мне. Микитка оказался лишним. Мяукая по-кошачьи, кинулся наутек. Простукали пятки догоняющего. Мою незащищенную спину обдало холодком. Зато груди стало тепло. Кофта горит. Обдает жаром. Танька-дурносмех стоит как вкопанная. Невыносимо хорошо. Волосы ее пахнут чем-то свежим и теплым. Может, тыквенными семечками. Она вечно грызет их, белые, крупные, с подрумяненными на сковороде боками.
Я всегда обижаю Таньку, даю ей тумаков. А сейчас что-то рука не поднимается. Обалдел весь от огня ее бешеной кофты. Да она уже и не Танька-дурносмех. Строга, величественна, неприступна!
Я еще совсем не взрослый. Не притрагивался к девушкам. Вот, может, только на игрищах. Поймает какая-нибудь дебелая девка тебя, пацана, притянет к себе. Брыкаешься, упираясь ладонями в ее подбородок. А она тянется к твоим губам – мурашки по телу. Ну их совсем, этих девчат. Нет, с Таней бы по-иному: бережней…
Смотрю на ребячий круг, на дотлевающий костер, на малые огоньки села и думаю: «Почему я родился именно здесь, а не в другом месте? Как получилось, что появился на свет там, где хотел? И мать и отец такие, каких я хочу, – других не надо. И все вокруг милое: каменный обрыв, Салкуца, слобода. Неужели все вышло случайно?..»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1Салкуца стонала. У бетонного моста льдины перегородили ее. Наконец нашла выход: кинулась через огороды в нижнюю улицу. Улица превратилась в добавочное русло.
Хаты, которые стоят на полосе между Салкуцей и нижней улицей, оказались отрезанными. Но для их обитателей это дело привычное: считай, каждую весну бывают островитянами. Загодя запаслись и солью, и керосином, и спичками. Хаты надежно защищены высокими валами-загатами из глины и пепла. Особенно стоек против воды пепел. Подмокший, он слипается. Становится плотным, как цемент. Случается, уровень воды куда выше пола, а в хате сушь да благодать – валом охвачена. Бывает и по-другому: сады стоят в воде и хаты тоже. Тогда беда! Все живое ищет убежища на чердаке. А в хате плавают ведра, черевики. Печи захлебываются мутным потоком. Дядьки-соседи, высунув головы в слуховые оконца, переговариваются меж собой, шутят невесело.
– Куме, ты где?
– На горищи!
– А жинка?
– Зо мною!
– А куры?
– Тоже тут!
– А поросята?
– И они тут!
– Кум, получается знаешь що?
– Що?
– Ноев ковчег. Всякой твари по паре.
– Хай ему лихая година, такому ковчегу. А ну сядет хата, что тогда?
Саманные стены часто не выдерживают высокой воды и «садятся», хотя от фундамента под самые окна люди поднимают пояс из жженого кирпича. Но бывает, и пояса не помогают.
Опасно жить у самой речки, или, как у нас говорят, «на низу». Но все норовят захватить участок и поставить хату именно там. И вот почему. В половодье дня два-три прокукарекаешь в слуховое окно, зато все лето живешь припеваючи. Никакая засуха не страшна: вода под носом. А с водой и дурак проживет. С водой у тебя и огурцы, и помидоры, и все, что ты захочешь. В слободе говорят: «Возле воды не знаешь беды».
Однако этой весной вода принесла беду немалую. Затопила не одну улицу, «посадила» не одну хату. Вода достигла даже церковного порога. Сколько ни стоит храм Покрова, никакая вода его не касалась.
И вот коснулась.
Церковь наша молодая, ей и ста не будет. Ведь и слобода наша не старая. Деды помнят, как их батьки – беглые люди из северных губерний – ладили тут шалаши из бурьяна, рыли землянки. Помнят, как громада поднимала храм. Рассказывают, ездили за мастерами куда-то чуть ли не в самый Чернигов. Зато и храм подняли – вся степь залюбовалась. Белый, высокий, что облако летнее.
Кто знает, может, и не следовало бы строить храмы. Все это от темноты людской: и вера в несуществующего бога, и обряды, и церкви. Кто знает… Люди всегда думали о душе, о бессмертии. Верили во что-то высокое. В честь высокого ставили высокие храмы. Кроме того (так издревле повелось), если, скажем, родился человек – окрестить надо, то есть отметить час появления на свет нового крестьянина. Подрастет – обвенчать. Окончит путь земной – отпеть, проводить с миром по ту сторону добра и зла.
Как же было без церкви!..
И вот ее порога коснулась высокая вода.
Слободские активисты заперли накрепко церковные ворота, рассыпались вдоль всей железной ограды. Активисты были внутри. Снаружи собирались селянские толпы, прибывая медленно, как вода. И, как вода, были молчаливы. Ярко белели платки женщин, угрюмо темнели стоячие шапки мужчин.
А мы, пацаны, над всеми. Сидим верхом на ограде, между железными прутьями, которые завершаются крохотными крестиками. Перед нами все как на ладони. Чувствуем: произойдет что-то необычное. Но предчувствия только разжигают интерес. Сидим, словно херувимы. Ждем.
Высоко в небо взлетает белая колокольня, увенчанная золотым крестом. Колокольня представляется парусом. Храм – кораблем, держащим путь к закату. На этом корабле, у его колоколов, всегда был виден один матрос – звонарь Мысочка, все его хорошо знают. Поддернув штаны, берется за веревку, раскачивает язык главного колокола, ударяет им в медные бока. Колокол посылает плавный звук, посылает далеко-далеко, перекликаясь с колоколами соседних церквей. Затем Мысочка берет между пальцами поводочки от малых колоколят, наступает на оттяжки, идущие к соседним звонам, и начинает работать руками и ногами. Получается: дилинь-дилинь-дилинь-бо-о-ом, дилинь-дилинь-бо-о-ом. Он пляшет, словно кукла-дергунец, что показывают в балагане на ярмарке.
На площадке звонницы, у молчаливых медных громадин вместо Мысочки появилось несколько человек. Это активисты. Матросы с чужого корабля. Сорочки их вздулись от верхового ветра. В руках змеятся толстые канаты. Канаты перекинуты через перекладины, закреплены концами за большой колокол.
Отец мой тоже наверху. Я нашел его глазами, забеспокоился. Вижу, он проворно взобрался на дубовую перекладину, обнял ее ногами, пытается разводным ключом отвинтить громадные гайки. Не тут-то было. Заржавели, прикипев намертво к болтам. Кто-то побежал за керосином. Плеснули – помогло. Гайки отданы, скобы сняты. Колокол качнулся, подвешенный на канатах. Его спускают медленно, как покойника в яму. Но это так только до пола колокольни. Затем освобождают веревки, подталкивают ломами к сводчатому проему. И вот повис на самом карнизе. Вздохнув тяжело, чиркнул по камням чуткой кромкой и с басовитым рокотом, медленно переворачиваясь, полетел к земле. Его рокот показался предсмертным стоном. Колокол упал на порог храма, ударил как раз в то место, которого коснулась высокая вода, проломил камни, войдя на четверть вглубь.
Все оцепенело. Тетки опустились на колени, застыли в низком поклоне. Белые платки коснулись темной земли. Одна из них вскочила на ноги, воздела руки к небу, завопила потерянно:
– Анцыболоты, люцихверы! Що вы робите! На всевышнего руку занесли!
– Бей активистов! Рубай кенесу под корень! – крикнул кто-то в шапке.
Взбаламутился народ. Через ограду полетели кирпичины, железяки, палки. Селяне пошли на приступ. Тяжелые, словно мешки с зерном, переваливались через ограду, падали на кусты сирени, обламывая их голые ветви. Вокруг поверженного колокола закипела рукопашная. Сыпались пуговицы, трещали пиджаки и рубахи, кровью набухали глаза.
В самый разгар схватки скрипнули железные ворота, перед поповским домом развернулись красные дроги. На дрогах – алая бочка с водой, алый насос-махалка. Пожарники (жаль, без золотых касок – в селе их негде раздобыть) не торопясь сняли с дрожек насос, нарастили шланг и плеснули струей в свалку.
Драку погасили. Но все еще долго наблюдали, как возятся двое, взявшись за грудки. То были: мой отец, Тимофей Будяк, и слободской листоноша Павло Перехват – Микиткин батько.
Сыновьям передалась непримиримость. Минули сутки, а нас с Микиткой все подмывало вцепиться друг в друга. Мы даже не смотрели один на другого.
Все четверо сидим в соломенном кубле. Прошлогодняя скирда надежно укрывает от стылого ветра и ледяной крупы.
Юхимка заметил:
– Опять на зиму повернуло.
Котька уточнил:
– Выметает остатки.
О чем думает Микита, не знаю. Поплотней запахивает шинель. Взял соломинку, ковыряет в зубах. Наверно, про батька своего думает. Батько у него горячий. У, кипяток! Чуть что – сразу: пых, пых! А на вид хворый. Ходят слухи, язва в нем сидит. Сосет, ведьма. Потому лицо у листоноши маленькое, высушенное и цвета нехорошего. Да и сумка почтарская угнетает. А ну-ка потаскай ее, брезентовую, набитую до отказа всякими листами-бумагами! Сутра до ночи, с утра до ночи. И по осенней грязи, и по снежным кучурганам, и по весенним ледяным разводьям. Ног не хватит! Другой бы давно свалился. А он нет. Хворый-хворый, а держится. Всякая улица его знает. Всякая хата привечает. И ни одна собака на него не гавкает. Человек необходимый, уважаемый. При всяких брошюрах ходит, – значит, у него и ума и понятия больше, чем у простого дядька, который газету держит в руках, только когда мастерит самокрутку. Перехват мягкий по натуре, но на язык остер! Затронь – припечет так, что потом долго будешь почесываться. А шутник отчаянный. Бывает, идет улицей, видит, дядьки собрались, болтают попусту. Здоровается весело:
– Бог в помощь! – А сам чему-то ухмыляется.
– Заглянь, Павло, сбреши трошки.
Перехват делает серьезный вид, говорит озабоченно и в рифму:
– Некогда брехать, надо на майдан махать!
– Що случилось?
– Ситец привезли!
Дядьки умолкают. Растерянно переглядываются. Ситец редкий гость в слободе. Когда он появляется, лавка трещит от многолюдья. Переспрашивают недоверчиво:
– Що ты кажешь?
– А то и кажу, что некогда!
И прибавляет шагу для убедительности.
Улица враз пустеет.
В другом месте листоношу спрашивают:
– А скажи, любый человече, що газеты пишут?
В тон вопросу и ответ:
– А то пишут, что Германия просит хлеба.
– А що ж наши отвечают?
– А наши кажут: этого не хочешь? – Листоноша вскидывает на всеобщее обозрение крупную узловатую фигу.
Взрывается хохот – даже акации мелким листом вздрагивают. Дядьки, вытирая рукавом веселую слезу, замечают:
– Скажет так скажет!..
Мой отец другого поля ягода. Говорит мало. Больше руками. Руки у него, надо сказать, на своем месте. По железу чего смастерить, секрет какой в машине разгадать, – будет возиться как проклятый, а своего добьется. Правда, водится за ним грешок (как, впрочем, и за листоношей): иногда хочет себя показать. Выставляется. Скрестит руки на груди, ногу выставит, голову вскинет. Иногда на этом и остановится. В другой раз тряхнет густым чубом, вскинет черные брови, еще и словом добавит:
– Мы рабочий класс, пролетарии!
Мать, когда слышит такое, обязательно заметит:
– Расходилась беднота, аж лохмотья летят!
Отец действительно пролетарий. Когда его батько помер, старшие братья разделили наследство: кому хата, кому сарай, кому кони. А Тимофея – младшего – обидели. И землю ему выделили на косогоре. Если засуха – все горит, если ливень – все сносит. Землей он не дорожил. Сдавал задарма в аренду. А сам – инструмент в сумку и в кузницу. Одно время в черепичной мастерской трудился. Носил песок, размешивал раствор, набивал формы. Каторжная работа. Кашель стал одолевать от пыли цементной. Бросил черепицу, – гори она огнем! – подался в олийницу. Олийница – это где давят олию: масло подсолнечное. Ходит весь пропахший маслом – и руки, и спецовка, и чеботы. В карманах всякие железки: гаечки, шурупы, чеки. На ремне, у правого бедра, ножны из сыромятной кожи. В ножнах – нож. Сам смастерил. Взял кусок пилочки, приладил грушевую колодочку, наточил на точиле, направил на оселке. Бреется этим ножом.
Братья его обделили, и тесть обделил: не дал за дочерью ничего. Мать говорит:
– В чем была, в том и замуж пошла.
Отец называет себя пролетарием. Я верю ему. Пролетарий, по моему детскому пониманию, происходит от слова «пролетать». Он в самом деле всегда пролетал мимо удачи, мимо достатка. Но головы не опускал. Сам о себе в шутку говорит:
– Голый-босый, но гонор имею!
Гонору в нем, правда, хоть отбавляй. Потому и встревает во все. Взять колокола. Добрался до самого верха. Ключом орудовал. Как же: рабочий класс!
Мать зашивала располосованную в потасовке рубашку, всхлипывала:
– Где ты взялся на мою голову, чертяка чубатый!
Он мирно отвечал:
– Не скули по-щенячьи.
– Зачем трогаете несчастную церкву? Зачем обижаете? Вы, что ли, ее ставили, что распоряжаетесь?
Отец ударил себя по коленям:
– Опять сказка про белого бычка! Вас же, паразитов, собирали в сельсовете. Вам, паразитам, доказывали: нужна бронза для индустрии! А вы, паразиты, в драку.
Мать с девичьих лет любила церковь, бегала туда чуть ли не к каждой службе. Она пела в хоре. Стоя на клиросе, чувствовала себя вознесенной. Восторг, вера в чудо. Казалось, расставь руки, как крылья, – и полетишь ангельски легким полетом. Казалось, она близка к тайнам. Глаза впивались в росписи на стенах, на сводах. Она была рядом с ними, чувствовала себя как бы участницей и омовения, и вечери, и успения, и святого воскресения. Глаза Спаса глядели на нее с такой грустью, с таким проникновением, что весь этот вымышленный мир оживал.
Муж запретил ей петь в церкви. Она не могла простить ему такой жестокости. И сейчас она гневалась не из-за рубахи, а из-за той обидной несправедливости, которую творят такие, как ее Тимофей.
– На каждой улице кричите: «Равенство, равенство!» А сами его рушите.
– Это как же? – не понимает отец.
– А так. В церкви стоят рядом и пан и холоп. Стоят, как ровня. Где еще есть такое место?
Он темнеет лицом.
– Не на ту доску ставишь. Гнилая доска!
Умом я, кажется, больше понимаю отца, мне нравится его горячность, вера во что-то новое. Но сердцем я – с матерью. Меня приводят в трепет высокие библейские сюжеты, которые я постигаю в церкви, задирая голову. Холодеет под ложечкой, когда я слышу песнопение, льющееся с клироса.
Взбаламутили людей эти сброшенные колокола. И вчера о них, и сегодня.
В нашем соломенном клубе тоже спор о них. Котька горячится, наступает на Микитку:
– Твой листоноша тоже добрый! Он же читает книжки. Знаешь, как нужны трактора. Нам же Хавронья Панасовна объясняла! Нужен металл, вот этот, як его?..
Микита равнодушно подсказывает:
– Благородный.
– Ага! – соглашается Котька. Затем спохватывается: – Не-е! Цветной! А ты…
– Що я?
– Знаю, что ты за батька!
– А ты?
– Мой понимает: раз надо, значит, надо!
– А мне церкви жалко. Батько говорит: ишь умники. Люди по копейке стянулись, подняли храм, повесили колокола, а они хап готовенькое – и в карман. Це не дело!
Меня бьет нетерпение. Хочу знать, что думает каждый. Спрашиваю Юшка:
– Чего молчишь?
– Хиба воно мени нужно?
Вот так всегда. Батько тоже такой. Да все у них в семье такие! Только бы их не трогали.







