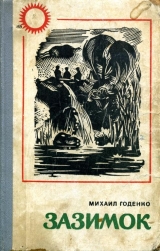
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Котькин отец, старый Говяз, похож на кузнечика. Туловище куцее, зато ноги – во какие махалки, длинные, словно жерди. Он землемер. Занятие как раз по нему. Шаг саженный. Бегом не угнаться. На что листоноша ходок, но и тот пить запросит. Одним словом, не ходит Говяз, а землю меряет. Лет ему, может, не так-то много. Но волосы уже седые, редкие. Усы тоже побелели, точно пылью их припорошило. Головка небольшая, верткая. Все видит, все знает, все замечает. В нагрудном кармане темного френча – блокнот и выглядывающий графитным острием толстый плотничий карандаш.
Слобода говорит о землемере:
– Понимающий человек!
В разговоре то и дело мелькают книжные слова. Если показывает свой участок, обязательно скажет так:
– Здесь райские яблочки произрастают.
Если же увидит непорядок – то ли ветку обломило, то ли плоды побило, – непременно воскликнет:
– Явление!
Зайдите к нему в сад. Встретит радушно, предложит фрукты особого сорта:
– Покушайте, будьте ласковы. Это вас заинтересует.
Менялись власти, менялись порядки. Но землемер Говяз всегда оставался прежним. Сажень на плечо – и в степь. Потому что при любых властях, при любых порядках земля оставалась прежней. Ее не убывало и не прибавлялось. Перекраивать, конечно, приходилось по-новому. Казалось, ничто не сможет его смутить. Ничто не сможет переменить ход его жизни. Но, глянь, как все повернулось!
Думал, думал Говяз, да и надумал: пора покидать насиженное место. Имущество и хату разделил между женатым сыном и замужней дочерью. Участок тоже разбил поровну, никого не обидел. Себе выговорил одну комнату. Так, на всякий случай. Мало ли чего. Вдруг на старости лет негде будет приклонить голову. Кое-какой инвентарь продал. Барахло уложил в окованный сундучок. Поставил его на бричку и айда от дому подальше. Все тихо, скрытно. Сел и уехал. Никто не знал, никто, не подозревал…
Правду сказать, я знал. Но поделиться ни с кем не мог. Клятву дал.
Котька вечером подобрался к моему окну, послюнявил палец, потер им по стеклу. Стекло издало звук, знакомый каждому пацану: иурр… иурр… Условный знак, вызывающий на тайное свидание. Я выскочил на двор. Котька стоял за углом, прижавшись боком к стене. Тихо сказал:
– Еду насовсем…
– Куда?
– Кто знает…
Что случилось с землемером? Что сорвало его с корня? Многие об этом думали, да не знали, что придумать. Сам тоже мучился. Ладно ли. поступил? Не напрасны ли страхи? Может, и не обидели бы землемера, поскольку человек нужный. Может, и не тронули бы его хозяйства, поскольку оно создано собственными руками. Батраков не держал, работников не нанимал. Все своим хребтом нажито.
В слободе собирают колхоз. Из слободы вывозят кулаков. Говорят, далеко везут – на самые Соловки. Так не лучше ли от беды подальше? Честно сказать, он ни делом, ни помыслом не против новых порядков, но как все обернется? Конечно, колхозу тоже нужен землемер. Не грех бы и остаться, если бы знать. Ну, да оторвался – что же теперь делать?
Выехали рано, чуть заалел восток. Сухо скрипела старая бричка. Говяз и Говязиха сидели в передке, лицом к востоку, лицом к той стороне, куда отправились искать свое спокойствие. Котька, полулежа на сене, глядел назад, в сторону, где осталось все его прошлое, вся его надежда. Невыносимо было видеть, как хатки слободские уменьшаются, уменьшаются и вовсе пропадают в росной мути. С высокого места слобода еще долго виднелась пятном, темным, вытянутым вдоль долины. Затем упала за бугор, словно сквозь землю провалилась.
Лохматый пес по имени Дракон бежал за бричкой. Он был для Котьки последней ниточкой, связывающей его с домом. Котька боялся потерять эту ниточку. Следил за псом во все глаза. Если тот отставал, Котька со слезой в голосе молил:
– Дракон, Драко-о-он!..
Пес при дневном свете рыжий, точнее, пламенный. В темноте – серый, на себя непохожий, и если бы не белое пятно на груди, не отличить его от любой собаки. Котьке это белое пятно кажется сейчас теплым.
Когда из-за тумана выглянуло солнце, растянув по дороге уродливые тени, шерсть Дракона вспыхнула красным огнем. Он остановился, помотал головой, чихнул, выбивая из носа прохладную ночную пыль, медленно развернулся и кинулся в обратный путь. Ниточка натянулась до звона и оборвалась. Котька не окликнул Дракона: видел – бесполезно. Сдавив ладонями уши, зарылся в старое сено.
3Мы теперь бродим втроем: Микита, Юхим и я. Без Котьки сиротливо. Все оглядываемся: авось подбежит. Но Котьки нет и не будет.
Я предлагаю:
– Айда в олийницу!
В самом центре слободы, на скрещении Гуляйпольского тракта с поперечной улицей, стоит красно-кирпичное здание. На фасаде – продолговатый четырехугольник жестяной вывески. По желтой грунтовке – синие, с черным оттенком слова: «Олійниця колгоспу «Більшовик». Здесь давят олию. Долго разглядываем вывеску, читаем сто раз читанное. У входа появился мой отец. Скрестил руки на груди, выставил вперед ногу. Из верхнего кармана пиджака выглядывает гаечный ключик. Отец усмехнулся, шевельнул квадратными усами. Глядит по-доброму. Глаза чуть затенены лакированным козырьком рабочей фуражки.
– Как дела, пролетарии? Чего носы поопускали?
Мой батько спрашивает, значит, и отвечать, решаю, мне.
– Так, ничего…
Юхима давно занимало слово «більшовик». Дай, думает, узнаю у дядьки Тимофея.
– Що це таке? – Юхимка показал пальцем в сторону непонятной части вывески.
Отец посерьезнел.
– Большевик, хлопцы, великое дело. Скажу вам, сила! Большевики – это мы, рабочий класс, пролетарии. Нас больше, а их, паразитов, меньше. Значит, они – меньшевики, а мы большевики. И верх, конечно, наш! Поняли? Ну и добре! – Дернул себя за козырек. – А теперь айда на чердак, к рушке. Побалуйтесь зернятками.
Мы обмерли от радости. Подумать только: нас приглашает сам механик в свои владения. Мы пройдем мимо цилиндрического пресса, возле которого стопками сложена теплая макуха; мимо круглых жаровен, в которых ходят – один за другим – по два широких чугунных колеса. Колеса вальцуют очищенные зерна, превращают их в жирное месиво. Поднимемся по деревянной лестнице на чердак, где установлена рушка – машина, похожая на веялку. В рушку по закрытому рукаву текут семечки. Рушка гудит, свистит, тарахтит. Рушка лузгает семечки. Шелуху отвевает в сторону, голые зернышки подает по рукавам вниз, на размол, на зажарку. Возле рушки можно оглохнуть. Я подумал: «Теперь понятно, почему отец после работы, разговаривая с матерью, все время переспрашивает».
Присаживаемся на корточки. Я отодвигаю жестяную заслонку, сую руку, держа ладонью вверх. Зернышки бьют в ладонь, словно дробь, наполняют горсть. Затем руку сует Микита. Даже вскрикивает:
– Ух, гад, як щекотно!
Юхим уже отталкивает его плечом:
– А ну я!..
Отец по-прежнему стоит у входа в олийницу, у всех на виду. Проходящие мимо дядьки относятся к нему по-разному. Одни поглядывают холодно, молчаливо. Другие вовсе не смотрят. Третьи трогают рукой шапку: «Доброго здоровья!» Отец стоит у входа неспроста. Он ожидает подвоза. Если не подойдет бричка с семечками, рушка будет тарахтеть вхолостую. «Где же бесов Гавва запропастился?»
Ага, вот подкатывает. Механик, стараясь сдержать досаду, замечает:
– Тебя только за смертью посылать.
Гавва оправдывается:
– Кладовщик где-то задержался.
– Взял бы его, анафему, за петельки: производство, мол, страдает!
– Та хиба мени больше всех надо?
Нащупав ногой втулку колеса, Гавва спускается с брички, потирает поясницу, горбится. Шапка нахлобучена по самые брови. Вот так и Юхим носит шапку, как отец, – на бровях.
Видим его уже на чердаке. Несет мешок к рушке. Встав на перевернутый вверх дном ящик, удерживает одной рукой мешок на плече, другой дергает завязку. Серые семечки потекли в бункер, словно вода.
Живот у меня набит до отказа. Карманы тоже набиты. Под их тяжестью даже штаны сползают. Приходится то и дело поддергивать. Подхожу к слуховому окну. Оно в липкой паутине. На стеклах столько пыли, что через нее ничего не разглядеть. Делаю пальцем что-то вроде проталины. Приближаюсь глазом. И не верю увиденному. Как в кино, право слово. Там, внизу, на мостовой, стоит Танька-дурносмех. Кофта, заправленная в черную юбку, как всегда, ярко пламенеет. Стоит Танька – руки в боки. Блестит белыми зубами. Глядит на открытую дверь. Отца моего нет на пороге. И она все стоит, чего-то выжидает. Потом метнулась куда-то. Я ее не вижу. Всей ладонью стираю пыль со стекла. Прижимаюсь к окошку лбом. Не видать. Пропала. Вот досада!… Но нет. Вон же она! Вон, вон побежала. Только кофта пузырем.
Я протарахтел по ступенькам лестницы. Догоняю Таньку. Она прижалась спиной к плотному забору складского двора. Прищурила потемневшие глаза, часто дышит.
– Что, жалко сычиков?.. Жалко, да? Батько послал догонять? На, отними!
Поднесла к моему лицу кулак, пахнущий свежим маслом. А в том кулаке зажато теплое жарево. Танька сушит меня ненавидящим взглядом. За что? У меня вон какое сокровище в карманах. Хотел отсыпать ей половину. А она так встретила!..
– Ну что? Что уставился? Давно не видел?
Сам того не желая, признаюсь:
– Давно…
Молчу. И она больше ничего.
Что ж, думаю, так стоять? Поворачиваю оглобли. Пристыженный, двигаюсь в сторону олийницы. Карманы мои, показалось, набиты камнями. А тут еще отец принялся журить:
– Чего дивчинку обижаешь?
Тьфу ты, напасть какая!..
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1Эх, Танька, Танька, дурносмех несчастный. Все прячешься от меня, все убегаешь! А я, если хочешь знать, даже брата твоего люблю – Алексея Петровича Нарошкина. Ну, не то что люблю. Но слушаю его на уроках. Вот он задавал намалевать эту, как ее, пирамиду. Так я знаешь сколько над ней гнулся?.. Алексей Петрович носил мою пирамиду по всему классу, приговаривая:
– Видите, дети, вот как надо!
Значит, вот так, как сделал я, все должны. А потом Алексей Петрович выдернул из лацкана булавку, приколол пирамиду к доске, чтобы всем видно было. И завидно! Микита даже толкнул меня сзади в шею. Предупредил:
– Не дюже задавайся!
Ага, думаю, значит, и Микита позавидовал. Не все ему ходить в любимчиках. Учитель, бывало, им не нахвалится. У Микитки, говорит, рука зрячая. Что значит «зрячая», я так и не понял. Микита, видно, тоже не разобрался. Но учитель разъяснять не стал. Зрячая, и все. Ему, говорит, надо побольше рисовать. А разве Микита мало малюет? У него все тетрадки измалеваны. То коняку густогривую, то чертика твердокопытного сотворит. У него даже на книжных корочках петух поет и собака гавкает. Всякая скотина домашняя у него словно живая!.. Кроме того, Микита еще и рассмешить способен. Бывало, подойдет к нему учитель, погладит по чубчику. А он наклонится к учителю, потрется головкой о полу пиджака и, словно разомлевший котенок, протянет: «Мяу…» Класс со смеху помирает. Учитель тоже смеется. Только странно как-то, беззвучно, нехотя, словно о чем-то сожалеет. Что с ним, Таня? Я только краем уха слышал, что Алексей Петрович хотел стать художником, да не вышло. Говорят, учился в Харькове и бросил. Почему это? Как-то видел его в «рачной». Сидит в углу одиноко. Чуб упал на глаза. Перед ним щербатая кружка. Непонятный он какой-то. Не как все. Вот взять хотя бы тебя. Тебе всегда радостно. Постоянно хохочешь. А он нет. Прошлым годом, может, видела – в клубе пьесу ставили. Хорошая такая постановка была, «Маруся Богуславка» называлась. Меня тоже брали на сцену. Сыном был «ей» и «ему». «Его» играл Алексей Петрович, брат твой. Он глаза подвел синим – стали они крупными, глубокими. Ну точно как у цыгана с ярмарки. Алексей Петрович что-то говорил с ней, с Марусей этой Богуславкой. Так говорил, словно бы взаправду. А Марусей была Саша, сестра Поли, аптекарская дочка. Вообще она тихая и все больше молчит. Но на спектакле, может, заметила, совсем другая… И рыдает в голос, и руки заламывает. Алексей Петрович – тот одинаковый, и там и тут. Говорят, взаправду по ней сохнет, по Саше-то. Не знаешь? Да хоть и знаешь, не скажешь. Что за охота брата выдавать… А Котька Говяз ее сестру, Полю, любил. Ей-бо! Теперь неизвестно, может, и разлюбил. Потому что нет его тут, Котьки. Где скитается?.. А тебе, Таня, обещаю, что буду заступаться за Алексея Петровича. Правду сказать, я уже однажды заступился. Бегали мы как-то по двору на большой перемене. А Юхим как разбежится, как спотыкнется понарошку, выбил чемоданчик из рук учителя. Чемоданчик – об землю, крышка распахнулась. Смотрим, внутри пустая четвертинка, краюшка хлеба, луковица початая и кисточки. Много кисточек разных размеров. Ими он афиши малюет, плакаты пишет для клуба… Алексей Петрович тяжело так посмотрел на нас, щелкнул замками, пошел в школу. А я догнал Юхима. За углом как дам ему – он так и лег на кусты.
Я знаю, за что Юхим обидел учителя. Это он из-за музыки. Шефы из «Сельхозмаша» подарили школе духовую музыку. А кто ж будет играть? Кто учить будет? Сидор Омельянович и говорит Алексею Петровичу:
– Больше некому.
Согласился Алексей Петрович. Кроме уроков черчения ведет теперь еще и духовой кружок. Ноты он знает, в Харькове, в техникуме художественном, на кларнете играл. Микитка называет его капельмейстером, а Юхимка зовет проще – капельдудкой. Учит их Нарошкин так. Микитке дает баритон, Юхимке – бас. Ух и штука! Всем трубам труба! Наденешь ее через голову. Обовьется вокруг тебя, словно удав, поднимет пасть выше твоей головы и гавкает. Оглохнуть можно! У Микитки музыка тоже звучная, но помягче. И трубу он не вешает на себя, а держит, будто лялечку. Я наблюдал, как они учатся. Садятся рядышком. Перед каждым деревянная подставочка для нот, пюпитра называется. И дудят. Конечно, не просто дудят, а вот так: «эс-та-та, эс-та-та, эс-та-та!» Алексей Петрович приговаривает эти такты, носком ботинка пристукивает, рукой примахивает. Потеха! За делом он сердитый, Алексей Петрович. На Юхимку так кричит, что на улице слышно:
– Пойми, тыквенная голова: надо вступать из-за такта, из-за такта! А ты бухаешь, абы бухнуть! Ну-ка, сначала: эс-та-та, эс-та-та!..
Я на музыку не хожу. Слуха, говорят, нет. Правда, слушаю охотно и гармошку и пение. А сам не умею. Интересно, а что делает Котька?..
Да, с чего же я начал этот разговор? Ага, вспомнил. Увидеться бы. Сказать тебе кое-что надо. Непременно увидеться. Потому что писать тебе секретку совсем не собираюсь. Не подходящее это дело. Котька говорил: «Чиркать пером по бумаге – бабское занятие. Если что надо, останови хоть посередь улицы и скажи». Поняла? Так и будет!
2Райисполкомовская тачанка круто развернулась в нашем дворе. Серые рысаки нетерпеливо танцуют на месте, приминая слякотный снежок. На тачанке – двое. Председатель исполкома Горчичный и конюх, коренастый мужчина в черном крашеном кожушке и в рукавицах из овчины, которые похожи на громадные рачьи клешни.
Мой отец вышел на порожек, пиджак внакидку.
– Заходьте в хату!
– Надо бы ехать, – заметил Горчичный.
– Та ничего. Галушек поедим и тронемся.
– Пусть будет по-вашему! – Горчичный спустил ноги с тачанки, ступил на землю. Тачанка качнулась.
Председатель исполкома – мужчина, о котором говорят: бог ростом не обидел. Сам тонкий, лицо худощавое, голова начисто выбрита. Снял треух, чуть было не задел голой макушкой притолоку. А конюх, тот, можно сказать, не вошел в хату, а вкатился. Стряхнул кожух с плеч, затолкал его валенком в угол, кинул сверху рукавицы-клешни.
– Спасибо, что заглянули! – говорит мать гостям. – Сидайте, будь ласка. Я зараз.
Поставила на стол чугунок, окунула в молочное варево деревянный половник.
Горчичный потер розовую голову, прихлопнул в ладоши:
– Галушечка-душечка, ходи-ка сюда! – Подцепил ее ложкой, рассматривает, словно диво какое. – Э, тетенька, это не по-нашему, – обратился он к матери, – у нас на Полтавщине знаете какие галушки? Вот такие! – показывает просторную ладонь. – Как поросячье ухо!
Отец доволен, что председатель охотно вошел в его дом, так просто повел разговор. Тоже пошутил, обращаясь к председателю:
– Хома Хомич, знаете, каждый кулик свое болото хвалит.
– Э, не говори, далеко вашей Катеринославщине до нашей Полтавщины. Ваши галушки помельче наших.
Я сижу у стены на перевернутом бочонке. Сижу и слушаю, боясь пропустить хоть слово. Не диво ли, такой гость в хате: сам товарищ Горчичный, председатель районного Совета! Хохочет, показывает, какими бывают галушки. Потешный, оказывается, дядько. А им людей пугают.
Мне запомнилось: сидим как-то у Микиты за уроками. Мать Микитина кончила шить занавески. Легкие такие, с кружевным рисунком. Подбила края на ручной машинке. Вдела шнурочки и повесила занавески на окна. Радостно стало вокруг, словно бы не в хате сидим, а во дворце каком. Но радоваться пришлось недолго. Вскоре явился дядько Павло, листоноша, кинул сумку на кушетку, снял шапку, уставился на занавески. Потом как напустится на жинку:
– На Соловки захотела! Снимай зараз кружева с окон. Не доведи господь, увидит Горчичный – в момент раскулачит. Вышлет из слободы как классового врата!
– Что ты, старый, плетешь?
– Снимай говорю, а то сам пообрываю. Ишь нашла чем выставляться… – Потом продолжил спокойнее, будто заговорил о другом. Но по сути выходило, о том же самом: – Умные люди не ждали, пока их растребушат. Сели да уехали. Вон Говяз, землемер, мирком-ладком коняку запряг – и прощевайте. Ученый человек. Дальше нашего мужицкого носа видел…
Глядя на Хому Хомича, я подумал: «Зачем только люди наговаривают? Веселый же дядько. И нисколько не страшный!»
Мужчины дружно чавкают, уплетая галушки. Мать отошла к посудному шкафу, постояла молча, потом спрашивает:
– Чего так рано уезжаете?
– Нужно, хозяюшка, заседание назначено.
– И чоловика моего заберете?
– Депутат Тимофей Будяк с нами, конечно.
Вижу, батько приосанился, посмотрел на мать. Взгляд его говорил (знаю точно): «А ты думала? Рабочий класс, передовой пролетарий!» Он спросил у председателя:
– О чем будет речь?
– На повестке – дело не шуточное – первая пятилетка и как мы с ней справляемся. – Вытер ладонью безусый рот. – Да, сказать правду, туговато приходится. Разруха ж, конечно, после гражданской. Вон у нас в городе до сих пор руины. Спалили «зеленые» первую раду – она и стоит черная… Пятилетка – дело непривычное. Колхозы – тоже в новинку. Не так ли?
– Так-то так…
– Вот и говори. То революция, то банды, то нэп, то колхозы, то пятилетка. Непривычно, ясно дело. Одно за другим. Только поворачивайся. Помню, дед рассказывал, как жили раньше. Тихо, мирно вроде. И, главное, никуда не торопились. Бывало, из самой Полтавщины в Крым за солью ездили. Вот как жили. На волах дело двигалось. А теперь, Тимофей батькович…
– Вакулыч, – подсказал отец.
– Тимофей Вакулыч, – поправился Горчичный, – как говорится, «наш паровоз, вперед лети!». А?
– Правда ваша, Хома Хомич. Вся опора на рабочий класс.
– Ясно дело, рук не опустим. Но туговато. Был я недавно на «Сельхозмаше». Хожу по цехам, у вагранки побывал, в столовую зашел. – Он посмотрел в сторону моей матери. – Там галушек, да еще на молоке, нет. Суп – синяя юшка. Сколько ложкой ни болтай, крупы не поймаешь. И знаете, какие частушки складывают?
В рабочей столовке
Сидим на перловке,
Цибулькой погоняем —
Пятилетку выполняем!
Слыхали?
– То неправильно, – решительно заявил мой отец.
– Шо неправильно?
– Так погано себя выставлять.
– Может, с шуткой легче дышится?
– Про пятилетку негоже так, я несогласный.
– И я несогласный. Вот вы, мужики, и подумайте, як накормить рабочих.
– А что, – заключил отец, – после исполкома надо собрать правление артели и поговорить.
Комья сырого снега, летящие из-под копыт, глухо стукают в жестяной козырек тачанки. Ветер забирается в душу, вышибает из глаз радостную слезу. Я сижу впереди, рядом с кучером. Внутри счастливо екает. Повторяю про себя недавно услышанное: «Наш паровоз, вперед лети!»
Но радость была недолгой. Не успели выехать за крайние огороды, как отец решил:
– Хорошего понемножку.
До чего же обидно спускаться с высокой, сверкающей лаком тачанки на слякотную землю!
Дома ждало новое огорчение. И случилось-то все, можно сказать, из-за пустяка.
Проводив гостей и мужа, мать затеяла большую стирку. Словно изготовившись к бою, засучила рукава светло-синей в горошинку кофты. Подоткнула полы темной юбки, отчего, показалось, располнела. Вообще-то она не полная. Скорее, сухонькая. Небольшого роста. Лицо в смуглом загаре – и летом и зимой. Летом, понятно, от солнца, зимой, видно, от мороза. Руки у нее сильные, жилистые. Кому же, как не мне, знать эти руки. Они меня и по головке гладили, они и подзатыльники давали…
Весело запылала плита. На плите ведро, доверху набитое молодым снежком. Начисто отмоется белье в мягкой талой водице! На скрипучую табуретку поставлено оцинкованное корыто. Возле, на полу, курганом навалено все то, что будет густо мылиться, досуха выжиматься. По хате поплыл белый туман, резко потянуло кисловато-приторным запахом мыла.
Покончив с бельем, мать принялась за темную одежду. Не глядя, выхватила из кучи мои серые штанцы, даже обмакнула их в высокой пене, но спохватилась. Всегда, перед тем как намылить, она тщательно исследует карманы и отцовских брюк и моих. Подолгу копается, вытаскивая из одних гаечки и ключики, из других перышки и резинки. На этот раз, вывернув правый карман моих штанов, она так и ахнула. Кармана, собственно, не было – была широкая дыра с темными подпалами.
– О боже! – воскликнула она таким тоном, что я невольно втянул голову в плечи. – Вот как ты бережешь добро! – И двинулась на меня с веником.
Но не веник страшен, а ее тяжелые укоры. Вон какой вымахал, а до сих пор сижу на чужой шее. От обиды не знаю, куда податься. Хорошо бы убежать куда-нибудь. Ну, скажем, в город, на «Сельмаш». Устроиться бы там рабочим. Жить самостоятельно. Сам себе пан. Куда вздумалось, туда и пошел. Получил бы жалованье: бумажки и медяки. Раскладывал бы их на три кучки. Первую кучку передавал бы Тане – Татьяне Петровне Нарошкиной. Пускай купит себе новую кофту, попроще. На эту глядеть больно… Вторую кучку посылал бы Алексею Петровичу, ее брату. Пускай едет в Харьков, учится на художника, станет великим человеком. Третья кучка – для себя. А что? Хватит и этого. Мне много не надо! Буду ходить в рабочую столовку. Буду петь, как все, про паровоз и про пятилетку. Буду скрещивать на груди замасленные трудовые руки, выставлять вперед ногу, говорить с достоинством, как отец: «Мы рабочий класс, сознательные пролетарии!..»







