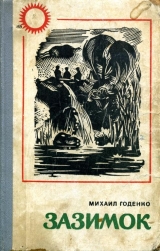
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Поселок расположен в устье реки. С восточной стороны – океан. День и ночь стучится в каменную косу. Огромные валы взлетают высоко, рассыпаясь невидимой пылью. Водяная морось несется над поселком. Оттого здесь всегда, даже в самое солнечное время лета, прохладно и влажно. Река, упираясь в океан, замедляет течение, раздается вширь, разливается озером. Когда дуют восточные ветры, она и вовсе выпирает за берега, растекается по картофельным огородам, по болотистым впадинам. Образует острова, затоны.
На западе видны сопки. Ломаной линией синеют на фоне блеклого неба. За сопками, вдали, поблескивает кристаллической белизной снежная шапка вулкана. Самого вулкана не видать. Его синее тело, как бы растворившись в воздухе, исчезает из виду. И снежная вершина, сдается, плавает самостоятельно. Веришь, будто она удерживается в небе невидимыми нитями. В этой картине есть что-то торжественное. Глядя на нее, хочется верить в чудо.
Но чуда все нет и нет. Который год видит Юхим, как вздувается мутная река. Который год видит, как нерпы показывают над ее поверхностью свои глупые морды. Вынырнут, уставятся на тебя круглыми глазками, глядят-глядят, словно они тебя жалеют. На душе и так муторно, а тут еще эта жалость.
Выше по течению, на сыроватой луговой равнине, расположены деревянные бараки. В бараках – двухъярусные нары. Там и Юхимово место. Привык к нему. И уже ничто не тревожит: ни вышки с часовыми, ни шипастая проволока, ни окрики дежурных. Кажется, всегда так было, всегда так будет. Другие психуют. Режут вены стеклом. Курят чай. Едят какую-то собачью блекоту – траву сушеную, которая ударяет в голову, опьяняет намертво. Только бы забыться, только бы не видеть баржи, которая смердит тухлой рыбой – чавычей. Только бы не тесный трюм, куда сгоняют после работы. Только бы не чувствовать нудного покачивания на медленной зыби.
Баржа ранней ранью отходит от лагерного пирса. Ее медленно разворачивает малый заводской буксир, тащит к стенам рыбного завода. Поздно вечером она возвращается на прежнее место, устало покачивая широкими боками. Ее оставляют здесь на ночь. Буксирчик, словно вырвавшись на волю, резво убегает в порт, разводя шо сторонам широкие усы – буруны.
Юхим – мужик спокойный, медлительный. Не балует себя всякими переживаниями, не тешит надеждами. Однако, когда удается взглянуть на белую шапку вулкана, плавающую в небе, к его горлу подступает что-то давучее. Вспоминается родная хата, угол с иконами, библейские картинки. Видел на тех картинках подобное: белое облако и на нем – святой, легко и свободно парящий над миром….
Судно ошвартовалось у стенки рыбного завода. Юхим спрыгнул с пирса на палубу. Под тяжелыми подошвами заскользили рыбьи тела. Неудобно стоять на зыбком и скользком. Да еще при такой волне. Он схватился за стойку, зарывает ногу, добирается до прочной палубы. Широкой лопатой-совком нагружает улов в кошель.
– Вира помалу!
Кошель медленно поднимается над судном, уплывает в сторону пристани. Повиснув над коробом транспортера, открывает узкое днище. Бело-серебристый обвал грохается в короб. Рыбу подталкивают на планки транспортера. По ленте она поднимается высоко над пристанью. А там, подхваченная новой лентой, движется по деревянному узкому мосту дальше, в цехи.
Юхиму жарко. Поверх фуфайки, поверх ватных брюк – прорезиненный комбинезон. Юхим снимает серую арестантскую шапку. Полой фуфайки вытирает вспотевшую стриженую голову. Снова орудует лопатой. Чем-то доволен. Больше того, улыбается, видно, вспомнил.
Гавва – разнорабочий. Кидают его куда кому вздумается. То на выгрузку, то бочки заколачивать, то холодильные ямы заваливать уловом. Везде соль, соль. Скрипит, под подошвами ботинок, шуршит в складках одежды, горчит на губах. Вчера гонял вагонетки во вторую часть завода, расположенную по ту сторону улицы. Вон за теми металлическими воротами. Гонял в консервный цех. Там – другой свет. У резаков, у автоклавов, на упаковке – везде девчата. Молодые, славные. Вместо прорезиненных роб – белые халаты. Косынки белые. Даже рот раскрыл от удивления. Загляделся, словно попал в мир неведомый.
На пристани, где работает Юхим, тоже есть девчата. Но то люди иного сорта. Они из своих, из заключенных, и цена им, ясно, иная. А у этих жизнь чистая. Кончится рабочий день, поплывут на белом пароходике в поселок, что по ту сторону реки.
Что и говорить, каждому воля снится. Каждый дни по пальцам считает. Некоторые пытаются бежать из заключения.
Юхим не пошел бы на такое. И не потому, что боится расплаты. Нет. Просто не верит в подобное спасение. Набегался: и из плена бегал, и когда свои на слободу наступали, убежал. И после войны в бегах. Думал, уже все про него забыли. Но ошибся. Показался как-то в своем городе на базаре. Опознали. Повели куда следует.
Бегал, скрывался – не помогло. Понял накрепко: все, что отпущено, надо снести, отбыть до последней заклепки. Пусть выпадут зубы, посекутся начисто волосы. Но отбыть. Любой ценою, пусть самой длинной дорогой, но вернуться в слободу. Пусть плюют в очи, кидают в него каменьями, пусть проклинают вслух – все равно вернуться, войти в свою хату, начать жизнь заново.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1С запада, со стороны моря, словно волны, беспрестанно накатываются валы туч. Они нудно моросят, проплывая низко. До того низко, что, кажется, задевают за голые сучья вязов. Я со своим взводом залег у развилки. Лежим в дренажной канаве, которая стрелочкой уходит к югу, упирается в рощу. Удивляюсь, почему в канаве нет воды. Вернее, она есть, но не столько, сколько должно быть в апрельскую пору.
Лежим в канаве, а значит, и вдоль дороги, параллельно бегущей. Канава спасает, дорога прикрывает. Высоко подняла асфальтированную хребтину над болотистым местом, служит нам бруствером. По ту сторону дот. Словно клещ в живое тело, въелся в землю, вошел в нее бетонированным корпусом. Чуткая амбразура неусыпно следит за дорогой, за развилкой дорог. И обе дороги замерли. Получилось нечто похожее на закупорку вены.
За нашей спиной – Кенигсберг, чадящий развалинами, обугленный город. Краснокирпичные стены соборов тянутся к небу.
Если поехать от развилки влево – попадешь в Пиллау. Направишься в противоположную сторону, на север, – доберешься до Раушена, к янтарному побережью, к золотым пескам пляжей. Но попробуй доберись, если дот сыплет крупнокалиберными пулями по асфальту, если вся развилка в его владении.
Майор мне сказал, что вчера морская пехота выскочила на песчаную косу Фриш-Нерунг, вблизи Пиллау. Так что Пиллау, видимо, наш. База флота. Вслед за катерами подтянутся другие корабли. Тут и для эсминцев, и для подводных лодок места хватит. Со временем и транспортеры подойдут. А вот Раушен взяли или нет? И откуда его брать придется, с какой стороны? Отсюда, с суши, со стороны хуторов, или оттуда, с моря? Тяжело будет оттуда. Берег высокий. Тянется валом на десятки километров. По валу лес. Укрепления. Если атаковать с моря, многие холодной водой захлебнутся. Видно, отсюда все-таки удобнее. Раушен, говорят, как Сочи. Половина немецкой столицы сюда на купанье выезжает. Дача Геринга стоит в Раушене. Санатории всякие. Курорт!
Я накрылся плащ-палаткой, посматриваю на часы. Вот-вот заговорят наши орудия. Хорошо, когда за спиной свои пушки. Идешь вслед за огненным валом, словно щитом прикрытый. Идешь и доделываешь то, что не смогли сделать снаряды.
Я стал по-хорошему суеверным. Как же! Без малого четыре года под пулями хожу – и ни одна не задела. Сам себе в шутку говорю:
– В чудно́й кринице купанный-завороженный!
Сейчас заговорят орудия. Чувствую, кровь приливает к голове, стучится в ушах. И чем меньше секунд остается до первого залпа, тем медлительнее становятся секунды. Под плащ-палаткой дышать нечем, высовываю голову, гляжу на взвод, залегший цепью вдоль шоссе. Каждый прикипел к земле, впился в нее ногтями. Никакая сила не способна его поднять. Но нет, неправда! По моему свистку все кинутся на асфальт и – на ту сторону полотна. Я знаю, что все кинутся. И я тоже. Сам себе дам сигнал и рванусь первый, забыв о взводе. Но взвод будет со мной. Внутренним зрением буду видеть каждого моего человека, буду знать, что он делает. И в то же время в мыслях моих застрянет только амбразура. В ней сейчас заключено все. Она средоточие всего. Если заткну – наступит такая радостная тишина, от которой может помутиться рассудок. После этой амбразуры все пойдет словно в сказке. Города начнут сдаваться по щучьему велению. Сам Берлин выйдет навстречу с ключами на шитой золотом подушечке. Только бы заткнуть амбразуру! Она тот последний рубеж, тот замо́к, который не пускает нас в мир новый, спокойный и светлый. И, странное дело, пришло успокоение. Когда все ясно – страх пропадает…
На голову полетели сучья, комья дымящейся земли. Показалось, наши артиллеристы спутали все на свете. Вместо того чтобы изуродовать немецкий бетон, решили вбить нас в землю или развеять по ветру.
Я все точно рассчитал. Поднял людей на приступ. За дымом и пылью дота не было видно. Показалось, его уже вовсе не существует. Разломан, размолот, вдавлен в глубину.
Я почувствовал: мы охватили дот со всех сторон. И тут же убедился, что был прав, опасаясь минированных подходов. Малая площадка от асфальта до бронебетонного колпака оказалась коварной. «Я же говорил майору. Я же столько с ним спорил», – пронеслось в голове. А он мне свое: «Там с птичий нос расстояние. Кто станет закладывать мины? С шоссе на дот перепрыгнуть можно. Неужели не понимаешь?» Я ему: «Вдруг на это рассчитывают?» Он обиделся: «Не может там быть мин, пойми, и не пререкайся, не выводи меня!..»
Мина рванула чуть сзади. И все дальнейшее произошло по инерции. Падая вперед, швырнул связку гранат в сторону щели. Щель угомонилась. Перед ней еще при рождении дота были спилены толстые вязы. Спилены низко, у самой земли, чтобы увеличить сектор обстрела. Перед ней – вставший дыбом асфальт, разворошенный лужок. Перед ней – тела моих товарищей, что успели скосить пулеметы.
Я отлетел влево. Дот своим бугром уберег меня от смерти. Связка моих гранат меня бы тоже не пожалела, как не пожалела она тех, кто укрывался за амбразурой, внутри. Я не видел, что она там натворила, но безмолвие, которого все хотели, пришло.
Снилось мне это или в бреду виделось? Будто сижу на берегу Салкуцы в зарослях лозы, жду подходящей минуты, чтобы кинуться на грядину. Не помню, что хотел там добыть, но знаю: что-то было нужно. Хозяин грядины, болгарин, стоит на самой середине огорода, посвечивает белой бородой. Срывает синие баклажаны, кидает их не в меня, а вверх. Они высоко поднимаются в небо. Блеснув полированными боками на солнце, превращаются в авиабомбы, несутся обратно на землю. И уже метят в мою голову. Нудно воют, угрожающе поблескивают, вот-вот коснутся меня. Но подул сильный ветер – баклажаны-бомбы прошли мимо, упали на середину реки. Как только вода улеглась, на ее поверхности вместо оглушенной рыбы показалось бессчетное множество синих баклажанов.
Болгарин кинул новые баклажаны в зенит. И они, точь-в-точь повторив движение первых, начали падать на меня, но опять-таки были отнесены потоком воздуха. Что за ветер-спаситель? Откуда он? Я вытягиваю руки ему навстречу, поворачиваюсь к нему лицом. Кто-то шепчет:
– Закройте окно.
– Нет, нет, – кричу, – не надо!
Бужу себя своим криком. Открываю глаза. Вижу: мою койку обступило множество таких же коек. На них люди. Все забинтованы, словно коконы. В окно заглядывает робкая тополевая зелень.
Я понял, где я и что со мной. Во рту почувствовал травянисто-пресный привкус баклажанов. Почему это? Я же их не пробовал. Только спасался от них!
Глаза снова закрываются. И уже не бредится мне, а грезится. Поднимаюсь с Таней до чудно́й криницы, но подняться никак не могу. Потому что кусты ожины – ежевики – хватаются шипами, держат, как бы прося присесть, сорвать ягодку. Сажусь, срываю. А Таня стоит, не хочет садиться. Качает головой, смотрит поверх меня куда-то далеко, за грядину, за слободу. Смотрит и вслух вспоминает нашу песенку:
2
Оживи мене, ожина,
Коло ставу, коло млина…
В Раушен я все-таки попал, но через много лет. Он уже был не Раушен, а Светлогорск.
Вижу море. Вот оно! И ощущаю провал во времени. Показалось, после штурма дота ничего не было. Я тотчас же подался сюда, в Раушен, к морю. Ни Москвы, ни института, ни работы, ни поездок по стране – ничего. Сразу после штурма – сюда…
Плащ-палатку где-то потерял, гимнастерка разорвана. Правая нога обута в сапог, левая закутана бинтами. Вместо шин приложены штыки. Они хорошо охлаждают ногу. Весь я в желтых тротиловых подпалах. Кровь сочится из множества ран, которые еще не успели подсохнуть, взяться корочкой. Ничего, держись, Найдён! Ты достиг янтарного берега – это главное. В госпиталь понесут тебя потом. А сейчас – море! От него тебя отделяло мертвое шоссе, по которому чиркали пули. Ударяясь об асфальт, они взлетали вверх, проносились над твоей головой, словно плоские камушки, которые ты умело пускал куда-то по реке: «пек блины». Сейчас – море. Когда лежал в дренажной канаве, оно гнало над тобой низкие тучи, скрывая тебя от самолетов, но поливало тебя дождиком – словно живой водой кропило. Оно дышало где-то за лугом, за темным бором. Дышало холодом и мороком. Было угрюмым и неприветливым. Но ты все равно тянулся к нему, словно заколдованный. И вот ты его достиг!
На ходу снимаю с себя одежду. Закидываю руки за голову, потягиваюсь. Ветер охватывает меня, балует. Широкими прыжками достигаю воды. Падаю с ходу, выбросив руки вперед. Падаю, как когда-то перед дотом на мокрую зелень полуожившей травы. Море холодное до того, что обжигает тело. И это такая неожиданность! Июль на исходе. Солнце печет – нет спасения. А море ледяное. Неужели с тех пор не потеплело?!
Зато песок раскален. Можно лечь на спину. Можно перевернуться на живот. Утопить в песке руки.
Подгортаю к себе теплый песочек, широко захватывая руками. Со стороны, наверное, похоже: пытается человек обнять землю, но никак не обнимет.
И в одну, и в другую сторону, сколько видит глаз, – пляж. И в одну, и в другую сторону – пестрит народ. Полотняные грибки, скамьи, переодевалки. Под крутой горой на высоких металлических столбах покоится широкая и длинная площадка ресторана. Над его кровлей – зеленые потемки леса.
Здесь, внизу, на пляже – благодать. А там, на горе, за лесной кромкой, – свирепствует зной. Светлогорск задыхается от солнца. Уличный асфальт пускает черную слезу. Клены безжизненно опустили изможденные плечи. Выстроившиеся в ряд корпуса санаториев нахлобучили на окна полосатые козырьки.
За озером, за лесом, во все стороны разбежались луга. Утопая по брюхо в сочных травах, медленно бродят пятнистые коровы. Еще дальше – поля. В полях – хутора. Каменные дома с высокими черепичными крышами. Широкие сараи тоже каменные. И куда ни посмотри – аисты, аисты. Деловито расхаживают по лугам на длинных, почти невидимых ногах. Мирно стоят в высоких гнездах. Со свистом пролетают над головой, раскрыв саженные крылья. От их белизны славно становится на душе. Говорят, аисты приносят счастье. Неужели правда?..
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1Упершись руками в деревянный сруб, Микита заглядывает в колодец. Ствол колодца темный, глубокий – ничего не разглядеть. Придется вытаскивать «агрегат». Агрегатом именует собственное сооружение, состоящее из автомобильной камеры, деревянной крестовины и движка-насоса «Кама». Микита крутит ручку, на вал аккуратно ложатся витки тонкого стального троса. Левой рукой выбирает увесистый резиновый шланг.
Сперва показался насос, похожий на зеленоватый пенек, затем желтая крестовина, на которой он установлен. И последней – раздутая камера, к которой привязана крестовина с насосом. Камера служит поплавком. На ее боках играет солнце, с нее падают крупные капли.
Микита ощупывает машину, смотрит на трансформатор, что стоит рядом с погребом на деревянной кадке, перевернутой вверх дном. Трансформатор в порядке. Точно показывает двести двадцать, а вода не подается. Вот дьявольщина! И время сейчас подходящее – позднее утро. Расходу в сети мало. На ферме коров давно подоили. Снимает машину со сруба, ставит на землю. Щелкнул включателем. Мотор замурлыкал с подвыванием. Микита приставил ладонь к срезу заборного шланга. Шипит!
Шланг вроде кто ножом рассек. Ну вот! А тут ломаешь голову столько времени. Достает изоляционную ленту. Ярко-синяя лента плотной спиралью ложится на шланг.
Микита доволен. Сейчас разомнет сигарету, не спеша прикурит. Затянется вовсю. Потом можно будет спускать «Каму» в колодец.
От колодца к самой середине огорода протянута металлическая водопроводная труба. Она идет вдоль межи. Укреплена на столбиках: прихвачена жестяными поясочками. К трубе от насоса тянется шланг. На конце трубы – опять-таки мягкий шланг, ровно такой длины, какая требуется, чтобы охватить весь огород. По огороду проложены продольные и поперечные канавки, куда шланг и подает воду.
Глухо загудела «Кама», дала напор. Микита ступает босыми ногами по теплой стежке огорода. Солнце хорошо припекает широкую голую спину. Штаны засучены до колен. Серая кепочка надвинута козырьком на глаза. Он поднимает конец мягкого водовода, возвращается с ним в начало участка, сюда, к колодцу. Положил шланг на грядку. Покуривает себе потихоньку. А вода идет. Течет вода колодезная, вымывает ямку, пенится у конца кишки. Насытив сухую почву вблизи, неторопливо подалась по канавке дальше. На грядках – кусты помидоров, красного перца, зеленые, как ящерки, длиннотелые огурцы. Ярко-красная морковка высунулась на свет божий, словно ей там тесно, в сухой земле, словно она там задыхается.
Хозяин-барин присаживается на горячем камне. Трет ногу об ногу. Счищает с пальцев прилипший чернозем. И никаких особенных мыслей нет в его голове. Лето. Каникулы. От школы почти свободен. Утром покопается в физкабинете – и домой. Бывает, дежурит по школе. Но это не так часто. Основная забота – здесь. Вот сейчас напоит грядки, перетащит кишку ниже, на картошку. Туда придется подать влаги побольше. Чтобы насытить картошку, полколодца выкачаешь. Соседи собирают не разбери-пойми что. Не то паслен, не то земляные орешки. А тут вывернешь навильник земли – лежат клубни, как розовые поросята. Потому что руки приложены и голова не дремала. С такого крохотного участка и себе хватает, и для базара остается.
Главная забота, конечно, виноградник. Каторжный труд с ним возиться. Ранней весной надо открывать. Помахаешь лопатой – ни рук, ни ног не чувствуешь. Потом, где-то в конце апреля, обреза́ть. Тоже мороки по горло. А пойдет в рост, ставь по обеим сторонам участка высокие колья, натягивай между ними проволоку, поднимай кусты, подвязывай лозы. И опрыскать не раз надо. И подкормку дать требуется. Да и полить раз-другой не мешает. Хлопотное дело виноградник. Зато и взять с него можно. Если с умом, конечно, подойти. Ранний сорт «березку» можно на базар выкинуть, цену добрую поставить – с руками оторвут. И для себя не грех заготовить: засолить в банках гроздьями – пусть стоит до поздней зимы. А то и до самой весны. Захочется чего-нибудь такого, чтобы во рту щипало, солодило и кислило, – доставай банку из погреба, откупоривай и утешайся на здоровье. А главнее всего, ясно, вино. Для того и виноградники держат, для того и силу в них вкладывают. Но ведь и тут надо с понятием подходить. Скажем, надавил бочку-другую, не ставь в погреб, где всякая снедь хранится. Вино втягивает в себя посторонние запахи. Даже вкус перенимает. Переимчивое. Потому надо в чистом подвале или в прохладной хатынке держать. Если уж продавать – так продавать с толком, в тех местах, где дают красную цену. Пусть ни доро́га не пугает, ни расходы. Окупится с лихвою. В марте Поля брала отпуск, возила, на рудники. И где, говорит, у людей столько денег берется. Говорит, дурная я, если бы знала наперед, что так будут брать, пару ведер воды б добавила. А что?
Но Микита таких мыслей не одобряет. У него свое правило: я тебе чистый продукт – ты мне чистые деньги. Труд на труд. Никто никому не должен. Другие на всякие хитрости пускаются. Делают, к примеру, так. Вино кончилось, осталась одна гуща на дне. Выплеснуть бы ее на снег – и дело с концом. Куда там! Кипятят воду, льют в бочку. Бухают туда сахару, добавляют дрожжей. Такая получается «варюха» – лучше не надо! Мужики то и дело бегают в хаты, где «варюхой» торгуют. Пьют да хвалят. Нравится больше вина: дерет сильнее. А если еще табачку добавить – совсем скаженная становится, так с копыт и валит. Некоторые торговки до чего дошли: пока бродит «варюха», кладут возле бочки пачку дуста. «Варюха» перенимает отраву. Перед тем как налить, спрашивают: «Какой, медленной или быстрой?» «Быстрая» та, что зрела рядом с дустом. Пьянит моментально. Потому, если хватишь «быстрой», тебя сразу же выпроводят за ворота. Твори там что хочешь, хоть на голове ходи. И пусть с тобой дружинники возятся, а мне, мол, недосуг.
Микита на хитрости не пускается. Считает, то уже не по совести. Перетащил кишку на виноградник, положил между первым и вторым рядком. Земля всасывает влагу жадно, чмокает трещинами, словно конь тягучими губами:
– Здорово, фермер! – шучу я, пробираясь между грядок.
Микита довольно кхекает, зачем-то мнет родинку, трет шею. Шея у него мало сказать загорелая – запеченная.
– Какой там фермер! Безлошадный, малоземельный бедняк. Участок видишь какой. Стою на одной ноге, другую некуда поставить.
– Долго будешь так стоять?
– Пока не упаду.
– Положим, тебя свалить трудно.
– Нет, Найдён, маломощный я. Вот дай мне землю – увидишь, что из нее можно зробить.
– И технику дать!
– Технику сам куплю. Или в кредит возьму.
– И что?
– Покажу вам, как надо хозяйновать.
– Кому «вам»?
– Да всем, – Микита дурачится, коверкает слова, – партейным и беспартейным.
Продолжаю в шутливом тоне:
– Дай тебе землю – всех батраками сделаешь. И меня, одноногого, заставишь крутиться с утра до ночи.
– Я бы платил! Честно, по труду воздавал бы… Такие поля, такой чернозем!.. – Микита, похоже, загорелся всерьез. – Вот, смотри, куцые грядки, а знаешь, сколько дали?
– Откуда мне знать!
– Одеться-обуться хватит.
– Да ну?
– Ранним щавелем взял. На зорьке нарежу – и на автобус. Выкину в городе на базарную полку – сразу очередь. Три рубля килограмм. Дешевле грибов!
– Бандит!
– И ты вези – цена понизится.
– Экономист!
– А ты думал!.. Микита кинул за межу потухшую сигарету. – Нет, батько правду говорил: гуртове́ – че́ртове. Была бы земля у каждого в руках – из кожи бы лезли, но до ума доводили.
– Один бы разорялся. Другой скупал или брал в аренду. Сказка про белого бычка!
– Политграмоту мне не читай. Пораскинь лучше умом. Землю община делила на едока. Ты получал. Я получал. Только один из нас обрабатывал свое дотошно, другой – спустя рукава. Потому сдавал в аренду. Что ж, правильно. Не хочешь – отдай другому. Лодыри беднели. Работящие богатели.
– Гляди как просто!
– А что? Не умеешь вести хозяйство, нанимайся к тому, кто умеет. Делай, что подсказывают. Получай, сколько заработал. – Микита встряхнул чубом. – Я болел бы за свою землю, а председатель не болеет. Котька болеет? Нужна она ему! Что, он ее покупал? Сегодня он над ней старший, завтра другой.
– Не то говоришь, Микита. Болеет, не болеет… Может, у него руки были связаны?
– Сейчас развязали?
– Ты же не слепой и не глухой. Знаешь о последних событиях. И, думаю, разбираешься в них не хуже меня. Ну, может, не до конца довели. Но ведь дело делается. Повышение заготовительных цен. Денежная оплата труда. – Я втыкаю палку в сырую грядку, поднимаю руки, приглаживаю волосы. Вспомнился мне разговор с матерью: «Как пчелка, откуда ни лечу, все до улья тащу». – Замечаешь, что происходит. Сейчас бригадир не обхаживает дворы, не приглашает на работу. Сами бегут, до восхода солнца поторапливаются. Потому трудодень теперь – стоящий.
– Не большие деньги.
– Опять двадцать пять! Я тебе говорю о том, куда дело пошло. А ты мне: не все еще сделано. Если хочешь, больше тебя найду недостатков. Но выводы будут другие.
– Что правда, то правда: тут мы не сходимся.
– Назад оглядываешься. Ошибки тебя пугают. Думаю, к прежнему возврата не будет. Что бы там ни было, а колхоз себя показал: индустрию и на его плечах подняли, войну выдержали. Шутка ли! Единоличник осилил бы такое?
– Что ты берешь меня за бока? – Он отталкивает мои руки.
– Увлекся! – смеюсь, щекочу Микиту. Но он уже не поддается на шутку. Насупил брови с рыжеватыми подпалинами, мнет родинку-бородавку, говорит медленно:
– Видел я в войну, как хозяйствуют и чехи и венгры. Слышал, как ведут сейчас землеробство в Канаде…
– Сложный разговор. Одно тебе скажу. Колхоз – это уже не только экономика, не только политика. Он вошел в психологию людей. Без него наша жизнь уже не мыслится.
– Может, и так.
Странными показались его слова. Как-то даже не по себе. Думалось, раз мы друзья, то и чувствуем и понимаем все одинаково. Оказывается, по-разному.
– Добре. Критика твоя верная. Но положительная программа не годится.
Он повысил голос:
– А по какой программе церковь разрушили?
– Вон что вспомнил!
– И не забывал!
– Тоже не одобряю. Церковь – это и архитектура, и живопись, и музыка. История культуры.
– А мы под нее фитиль!
Отступаю от Микиты, присматриваюсь со стороны к его хмурому лицу. Как все усложняется с возрастом! В детстве проще: поругались, подрались, тут же сыграли мировую. Теперь нет. Старая кость срастается трудно. А то, гляди, и вовсе не срастается.







