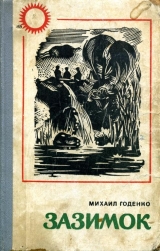
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Разве есть на свете что-нибудь интереснее молотьбы? Ее можно сравнить разве что со свадьбой. Тут, как на свадьбе, все рассчитано, все расставлено с умом. Каждый на своем заданном месте, каждый со своей сноровкой, со своим понятием дела, со своей вольной волей. Без своей воли нельзя, потому что бывают всякие непредвиденные повороты. Молотьба, как и свадьба, шумна, горяча, мила и вместе с тем, как свадьба, утомительна.
В наших краях свадьба длится целую неделю. Льются реки вина, готовятся горы закусок. Сходится целый взвод музыкантов, полк плясунов, армия певцов. Да что там армия – поют все поголовно! А к середине недели как пойдут по чужим дворам кур ловить – пух и перья стоят над слободой! Но хозяйки не обижаются: таков обычай. Затем пустят по улицам ряженых – такие коленца выкидывают, что все селение за живот хватается.
Свадьба – событие общеслободского масштаба. Молотьба – тоже. И первая, и вторая нуждаются в резервах и строгом командирском глазе. На свадьбе всему голова – посаженый отец. На молотьбе – бригадир. Там шаферы, дружки всякие, свахи, зятья, золовки, девери – мудрено всех перечесть. Здесь тоже у каждого свое звание, каждому свое дело. Один у паровика колдует, другой у молотилки поворачивается. Одни носят зерно, другие отгребают полову. Кто стоит у веялки, кто полез на скирду. Те загружают подводы, эти запрягают лошадей. Глаз да глаз необходим, умение да умение. Особенно когда молотят ночью. А это случается нередко. Дня не хватает. А еще днем задувают такие ветры, что не собрать ни половы, ни соломы. К ночи утихают. Вот и приходится крутиться ночью. А что поделаешь? На то и страда, чтобы страдать!
Всходит луна. Высвечивает стога, вороха, машины. Все оживает, копошится, гудит. Поднимается над током пыль – людей не видать. Только вой молотилки. Только стук веялки. Только посвистывание паровика. А вокруг – прилегла степь, вокруг – притаилась ночь… Даже сказкой попахивает!
Я спал в прохладном шалаше. Слышу голос матери:
– Вставай, Найдён, вставай!
Слышу, но подняться не могу. Словно кто приковал. Мать берет, сильно дергает за руку – и я уже стою на середине куреня. Нашел картуз, набрасываю пиджачишко, иду к волокуше, сменять Микиту.
Поставив ногу в стремя, взбираюсь на коняку, дергаю поводья, причмокиваю, понукаю. В общем, двигаюсь, разговариваю, но пока еще сплю. И проснусь не скоро. Может быть, на рассвете, когда обдаст росным ветерком и я вздрогну от прохлады, приду в сознание. Может быть, пораньше, когда вдруг ни с того ни с сего отец, управляющийся около локомобиля-паровика, дернет за проволоку, даст такой гудок, что душа у каждого встрепенется. Может быть, приду в себя только тогда, когда споткнется моя коняка и я вылечу из самодельного седла.
Меня привели в чувство значительно раньше. И совсем непредвиденным способом.
Я уже сказал, что сменил Микиту на волокуше. А что такое волокуша, не объяснил. Волокуша – устройство очень простое. Ею волокут солому от молотилки до скирды, а то и дальше: на самую скирду. Состоит она из гузыря (сеть такая), веревочной стропы и полубарочка. Гузырем накрывают ворох соломы, который надо подать на скирду. Стропа, сами знаете, тащит гузырь. Ну, а на полубарочек надеваются постромки шлеи. Дальше идет конь, и я на коне. Вот и вся хитрость. Когда мне свистнут: «Пошел!», конь сам трогает с места, натягивает стропу. Гузырь по клину скирды взбирается на самую вершину. Там его освобождают. И другой конь, что на противоположном конце скирды, тащит все устройство обратно к молотилке. А моя коняка разворачивается и нехотя плетется к скирде. Гузырь ходит вроде челнока: туда-сюда. Я веду его с грузом, другой (не знаю, кто там, может, Юхим, может, еще какой парень) оттаскивает пустой.
Получилось так, что, когда кричали «Стой!», я не услышал. Коняка, видно, тоже опустила уши, зоревала. Чуть было не натворили беды. Могли сгрести на землю волокушей тех, кто топтался на вершине скирдового клина. Спасибо, бригадир заметил. Подскочил ко мне, резанул сыромятным батогом, не глядючи куда. Тут я и очнулся. И так мне стало светло и понятно все вокруг, словно бы я нахожусь при чистом солнце. Отец от паровика грозит ключом. Мать у вороха перевязывает платок, осуждающе покачивает головой. Другие не так близко принимают к сердцу мою промашку. Посмотрели на меня и снова за дело. Время не терпит.
Я вытираю рукавом разбитый нос, сам себе говорю: «Ничего, до свадьбы заживет!»
Тракторист Чибрик работает на молотьбе кочегаром. Состоит у моего батька подручным. Голый до пояса, заталкивает солому в прожорливую пасть локомотива. Пихает-пихает и никак не может насытить чудовище. Желто-горячее пламя обдает Чибрика жаром, высвечивает мускулы. Посмотришь со стороны – залюбоваться можно. Кажется, идет сражение со Змеем Горынычем. У змея изо рта огонь, из ушей дым, из глаз пар струится. Змей так взбешен, что глядеть страшно: пыхтит, свистит, дергается. От него к молотилке пас протянут. Он ее, бедную, так разгоняет, что она ходуном ходит. Дрожит вся, вот-вот рассыплется. Чибрик знай ширяет вилами в огнедышащую пасть, колет в огненный язык.
Отец, словно волшебник, охаживает темное чудовище, обтирает паклей, подтягивает болты, гайки. Берет в руки масленку. Сует кончик ее длинного носа в разные отверстия, словно желая умаслить строптивого зверя, усмирить его, сделать послушным. Похоже, Чибрик пытается взять силой, отец – хитростью.
Молотьба требует много народу. В слободе сейчас пусто, все здесь. На что уж Микитин батько, Павло Перехват, – сидеть бы ему за газетой или разбирать письма, – но и он тут. Конечно, отвык орудовать вилами, нелегко ему приходится. Работа ведь потная, раздражительная. Застилает глаза пухом осотным, противно щекочет шею остьями, забивает нос пылью. Отсюда и слов горячих много, и суеты хоть отбавляй. Сверху поторапливают, снизу понукают. Вот и танцует на арбе, словно у него угли под пятками. Беда! Но, правду сказать, сам виноват. Можно было выбрать место, где полегче. Вон хоть у веялки, где бабы. Мешки, скажем, завязывать или зерно отгребать. Туда не стал. Гордость не позволила. Мужик ведь все-таки, хотя и листоноша.
А на помосте, у барабана молотилки, действительно мужик. Как ворочает – картина! Правда, на земле он частенько бывает мешковатым, медлительным. И всегда свою философию разводит: «Хиба воно мени нужно!»
Но сейчас увлекся дядько Гавва. Его со всех сторон просто-таки заваливают скошенным хлебом, а он знай поворачивается на узкой площадке, знай загружает барабан. Еще и покрикивает на тех, кто внизу, на арбах: не спите, мол, сидоровы дети, пошевеливайтесь! Просто преобразился дядько Гавва. Вот что работа с человеком делает!
Потом случилось такое – лучше бы не рассказывать.
Проворно орудовал Гавва двузубцем, умело загружал молотилку, да только осекся нечаянно. То ли притомился, то ли кто отвлек его. Сунул он двузубые вилы в барабан сильнее положенного – барабан возьми да и прикуси их. Надо бы выпустить из рук черенок – и делу конец. Случилась бы поломка, понятно. Зато человек остался бы целым. А так…
Вместо того чтобы выпустить вилы, Гавва задумал тягаться с машиной. Но машина этого не любит. Дернула с силой, Гавва оступился, угодил ногой в зубья барабана. Молотилку затрясло, словно в лихорадке. Мой отец подскочил к шкиву. Голыми руками рванул приводной ремень на себя. Отлетел в сторону вместе с ремнем. Сам чуть жизни не лишился, зато другого спас от гибели. Но беда все-таки стряслась. Ногу старшему Гавве обхватало зубьями.
Я, дурной, почему-то бросился сразу не к дядьке Гавве, которого на руках спускали вниз, а к Юхиму, с которым был в ссоре. Еще издали крикнул:
– Юхимко, ступай до молотилки, батько поранитый.
Юхим слез с коня, пожал плечами, буркнул почти безразлично:
– Может, не того… Может, обойдется.
Думаю, был он таким спокойным от неожиданности, которая в первую минуту притупляет боль. Дядько Гавва тоже особой боли не почувствовал. Даже встать попытался. Но люди не дали. Видели: стоять-то уже не на чем.
3Белый абрикос – он вкуснее обычного. Обычный какого цвета? Желтого или оранжевого. Есть такой, есть и такой. Бывает чуть с прозеленью. Бывает с бурыми пятнышками. А вот белый – он и есть белый. Никакой примеси. Чистый, словно кусковой сахар. Редкий фрукт. Растет не везде, а только в Колючем леске. Лесок назван Колючим из-за того, что в нем сплошь акация и никакого другого дерева, окромя нескольких корней белого абрикоса. Диковинная штука этот абрикос! Даже в наших что ни на есть абрикосных местах и то редкость. Говорят, завез их сюда один бессарабец – Сухомлином прозывался. Жил здесь, возле Колючего леска. И хата его тут стояла, и другие постройки. Сейчас ничего не осталось, даже камней не видать от фундамента. Сохранилось одно название: Сухомлинов хутор. Возле хутора сад развели. Это уже на нашей памяти. Всем колхозом сажали. Пожалуй, десятин двенадцать будет. Сад примкнул к Колючему леску. Так что сторож и за садом приглядывает, и за белым абрикосом.
Если ехать от току до слободы, Сухомлинов хутор никак не миновать. Сперва тянется лесозащитка с наклоненными в закатную сторону деревьями, затем Колючий лесок и новый сад.
В другое время мы бы ни за что не полезли за белыми абрикосами. Но тут такой случай! Юхим, и раньше не очень разговорчивый, теперь онемел. Темное лицо еще больше потемнело, стало тяжелым. Мы с Микитой даже и не придумаем, чем растормошить хлопца. Конечно, его промашка с зайцем непростительна. Но разве можно равнять нашу потерю с его сегодняшним горем. Душа надрывается, глядючи на его немоту. Мы бы все для него сделали, да не знаем, что надо сделать. И вот Сухомлинов хутор. При одном его упоминании слюнки текут. Потому что выговариваешь одно, а видишь другое: белый абрикос.
Задерживаться нам нельзя: время дорого, молотьба! Гнать бы даже вскачь! Но беда, не найти таких лошадей, чтобы вскачь таскали сорокапудовый груз зерна. Лучшие кони пущены в голове малой колонны – моя подвода впереди, остальные две тянутся за мной. Не придерживая лошадей, киваю Миките. Без слов понимает. Соскочил с бестарки, привязал вожжи к задку моей подводы, прыгнул в канаву, пробирается к Колючему леску. Юхим все видит, но его это мало занимает. А раньше был горяч к белым абрикосам, раньше был, считай, первым налетчиком на Сухомлинов хутор.
Кони пофыркивают, тяжело ступают. На спинах темными пятнами пот, на ляжках под шлеей мыло белеет. Постромки натянуты до предела – слышно, барки поскрипывают. Подводы торопятся. Хутор уже позади. Потянулся молодой садок. А Микиты все нет. Может, сторож застукал? Вот будет мороки! Бригадир прогонит Микиту с току, и нам с Юхимом достанется.
Микита выскочил из канавы, догнал Юхимову, последнюю, подводу. Ухватившись за доску задка, легко вспрыгнул на бестарку. Утопив коленки в зерне, выдернул подол темно-синей рубашки. Сказал:
– Все твое!
Белые абрикосы, точно крупный град, упали на темное зерно. У Юхима задвигалась на голове кепка, заходили вверх-вниз широкие уши. Юхим доволен. Он только спросил:
– А себе?
Микита великодушно заметил:
– Да ничего!
Мне не досталось ни одной абрикосинки. Но я не обижаюсь. Микита поступил честно: себе тоже не взял. Юхим, чтобы нас не дразнить, не ел. Собрал все в картуз, положил перед собой.
Проселок ведет в слободу. Там, где он делает излом, справа от дороги, раскинулись больничные корпуса. Они заметны издалека: красные, из жженого кирпича сложены.
Как известно, мы торопимся. Но проехать мимо – грешно. Словно по команде, сворачиваем на обочину, опоясываем вожжами стволы нестарых тополей, что стоят в ряд у ограды, разминаем ноги. Это мы с Микитой разминаемся без дела. Юхим же пошагал к палатам. Мешковат, косолапит. Ступает босиком по кирпичной дорожке. Картуз с белыми абрикосами зажат в руке. Такой подавленный, что на него лучше не глядеть.
Больничный двор тенистый. Широкие белолистки прикрыли его своими кронами, разрослись кусты сирени. Двор стал укромным, прохладным. Как раз таким, какой требуется нездоровому человеку.
Больница у нас славная. Городская и та ей уступает. Строилась давно. Община строила, как и церковь, на общественный кошт. Из других сел возят хворых сюда. Она и называется теперь не слободской, а районной.
Когда Юхим показался у калитки, мы к нему.
– Як батько?
Юхим долго двигал кожей головы, долго шевелил ушами, морщил смуглое лицо, моргал. В другой раз попадали бы со смеху от такой мимики. Сейчас нам стало не по себе.
– Як нога?!
– Откинули…
Юхим закрыл лицо пустым картузом, слепой пошел к подводе.
На рождество мы ходили колядовать. В матерчатой сумке, висящей на боку, пшеница. Точь-в-точь такая же, как сейчас в наших бестарках: крупная, цвета бурой меди. Бывало, достанешь горсть, сыпанешь в святой угол. Тяжелая, как затарахтит по сусальному золоту, зашумит, словно ливень благодатный. Густым урожаем посыплется на пол.
Ну, какой же хозяин или хозяйка устоит, чтобы не раскошелиться? Они увидят в этом доброе предзнаменование. Поверят в то, что озимые благополучно перезимуют, что будет ранняя весна, вовремя пройдут дожди. Ни саранчи, ни другой напасти не случится. Они расщедрятся, дадут не только «пьятака», но и пирожок в придачу. И ты, осчастливленный до краев, со своей стороны расщедришься еще больше и сверх всего добавишь в похвалу хозяйке:
Сею, вею, посеваю,
На хозяйку поглядаю.
А хозяйка молода
Семь копеечек дала!
Ого, куда хватил! В первую минуту даже торопеешь от такой смелости. Кто же это тебе ни с того ни с сего отвалит целое состояние!.. Но нет, песня – сильное оружие. Она все может. Видишь, хозяйка расплылась в улыбке, полезла под фартук, достает двухкопеечную зеленую монетку. Ты прикладываешь ее к пятаку, и у тебя действительно «семь копеечек»! Она одарила тебя за то, что ты утвердил ее в будущем. За то, что хоть на время снял гнетущие сомнения. У нее же вон на печи полдюжины глазастых. Их чем-то кормить-поить надо. А ты пришел и сказал: «Успокойся, быть тебе с хлебом!» Да еще и добавил, что она молода и пригожа. Как же ей, бедной, не расщедриться!..
Сейчас нам колядовать не разрешают. Пережиток. А сказать правду, для нас это ни с какой религией не связано, никаким опиумом не пахнет. Обычай, и только.
Вспомнилась колядка вот почему. У ворот школы, куда везем ссыпать зерно, стоит директор. Это он запретил колядовать, он сказал, что колядки – «забобоны», то есть пережитки. Спорить, ясно, никто не стал… Не такие мы грамотные, чтобы с директором спорить. И еще, помню, он добавил, кивая в сторону церкви:
– Бельмо на глазу! Бесполезная масса кирпича…
Знаю, почему про кирпич заговорил. В других селах строятся, расширяются школы, а наша как была тесная, так тесной и осталась. Скоро в три смены будем заниматься. К тому же еще и зерно приказано ссыпать в классы. Колхоз свои амбары засыпал, теперь за школу принялся… Честно сказать, те амбары доброго слова не стоят. И не амбары они вовсе, а кулацкие пустые дома. Полы прогнили, штукатурка облупилась. Окна щитами заколочены.
В школу, конечно, можно завезти много. Хранилище надежное: светло, сухо и мышей не слыхать. Директор опасается только, что из-за урожая занятия начнутся с опозданием. Но председатель обещает до сентября освободить помещение.
Заезжаем во двор. Разворачиваемся у широкой цементной площадки перед входом в школу. По очереди осаживаем лошадей. Подаем бестарки задом. Вынимаем из пазов доску-заслонку. Груз, почувствовав волю, шумно сыплется на гладенький цемент. А дальше – не наша морока. Тетки с подоткнутыми подолами орудуют лопатами, берутся за носилки.
Поля, теперь уже Полина Овсеевна, и ее мать Хавронья Панасовна дежурят в школе. Так распорядился Сидор Омельянович, директор. Школе нужен присмотр. Мало ли что может стрястись.
Поля располнела. Вроде бы стала ниже ростом. Интересно, вспоминает ли она своего воздыхателя Котьку? Нет, конечно. И чего ей вспоминать-то? Она, может, и не знала, что вздыхал. Может, и не узнает. Сам он не откроется, нет его. А мы и подавно не скажем.
Все-таки где же он? Заявится когда-нибудь или навсегда покинул слободу?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1В хате Говяза устроили свинарник. Убрали перегородки между сараем и комнатами. Сколотили дощатые загоны, ящики для корма – и свинарник готов. Во дворе, под, раскидистой шелковицей, выросла огромная куча навозу. Навоз духовитый. Таким канупером в нос шибает – хоть пальцами зажимай. Свиньям оно, может, и приятно, а соседи обижаются. Не дело, говорят, разводить нечисть посередь слободы. Всякая зараза может на человека перекинуться. Туда бы, за село их: и конюшни, и коровники, и свинарники. Надо бы, да как вынесешь? Строиться необходимо. А где взять кирпич?
Уезжая, землемер Говяз разделил участок и постройки, как известно, на двоих: сыну оставил одну половину, дочке другую. Но сельсовет распорядился по-своему. Подворье конфисковали. Говорят, убежал, значит, вину За собой чувствовал, боялся попасть под конфискацию. Если бы остался, может, и не тронули. Ну, а раз нет, поступили по-другому. Сын Говяза перебрался к тестю. Дочка пошла жить к свекрови. Сельсовет отдал хату колхозу. Колхоз пустил ее под свинарник. Другие дома тоже недолго стояли пустыми. В одном птицу, в другом телят, в третьем еще какую-нибудь живность поселили.
Не дело, скажете? Ясно, не дело. Даже на правлении об этом спорили. Но решить ничего не решили. Некоторые горячие души на церковь было замахнулись. Мол, торчит без толку. Все равно попа нет, колокола сняли, служба не правится. Стоит мертвая, только совы на ней по ночам кричат. Разобрать – и вся песня. Тут такие дебаты поднялись, хоть хватай шапку да беги из правления.
Горчичный, знаю, против. Сам слышал. Сидят как-то на крыльце у конторы батя мой, Горчичный, председатель артели и еще кто-то, не помню. Отец горячится:
– Чего там церемониться? Бочку пороху – и рассыплется на кирпичики! Тебе, Оверьян, было бы добре. – Отец посмотрел на председателя колхоза. – Вози кирпич возами, строй, что твоя душа пожелает: хочешь, дворец, хочешь, птичник!
Оверьян покрякал, потер шею, начал отшучиваться:
– Не треба мени дворца. Нужник подавай!
А Горчичный возьми и скажи:
– Тимофей Вакулыч, не пори чепухи, – к отцу моему, значит, речь обращает. – Ломать не строить. Тут особой головы не надо. Подумай лучше, что люди скажут и что мы скажем людям. – Затем к Оверьяну: – Не на церковь бы зариться, а посмотреть на каменный обрыв. Может, откроем каменоломню? А что, материал, я вам скажу! Камень легкий, губчатый, пилой пилить можно. – Горчичный тронул колено все того же Оверьяна. (Мне даже обидно стало за отца: в стороне от разговора остался!) – А саман? Может, забыли, как делается? Понимаю, штука не такая прочная, недолговечная. Но по бедности и саман – золото. Протягивай ножки по одежке.
Оверьян подумал, потом ответил:
– Говорят, там товарищ Кутулуп советует взяться за церкву.
– Короткая дорога не всегда правильная, – заметил Горчичный.
– Насчет Кутулупа так не говорите, – вмешался отец. – За Советскую власть голову сложит, не задумается. Помню, на дроздовцев ходили…
Горчичный поморщился.
– Не про то разговор!
Кутулуп – окружной председатель. Всех старше. Даже Горчичный под ним ходит. Он действительно всем головам голова. Чуть ли не с сажень ростом. В обхвате широк: стоит ему опуститься на заднее сиденье своей «чертопхайки», и уже другому сесть некуда. Как только колеса не лопнут! Когда я впервые увидел товарища Кутулупа, он на самом деле был в тулупе. Случилось это возле сельсовета. Он выбрался из открытой машины, поманил к себе меня, Микиту и Юхима. Да как распахнет полы, как сгребет всех троих под кожух. Басовито гогоча, понес в сельсовет. Мы чуть не задохнулись в овчинной темноте. Потом вытряхнул нас на цементный пол коридора да как гаркнет:
– Держи их!
Не знаем, где прыть нашлась. В момент очутились У церковной ограды.
Оказывается, он за то, чтобы сломать церковь. А раз Кутулуп сказал, значит, никакая крепость уже не устоит!
Пошла смута по слободе. Бабы разгневались. Свистни им – возьмут рогачи в руки, выйдут на защиту. Мужики, те поумнее. Решили писать лист в Харьков, в столицу республики, на имя Григория Ивановича Петровского. Думают, пусть разберется: все-таки председатель всей Украины. К тому же человек простой, из рабочих. Даже земляк: из Катеринослава, губернского нашего города. Надеялись, рассудит по справедливости, да еще и хвосты наломает кому следует.
Не знаю, послали тот лист или не послали, но что писали, это точно. Микита сообщил нам, что письмо составлено его отцом, листоношей. Начато вроде так:
«Здравствуйте, Григорию Ивановичу – дорогий Всеукраинский староста, доброго Вам здоровья. Пишут граждане нашей слободы. Передаемо низкий поклон. А еще сообщаем, что урожай был хороший. Корму скотине запасли немало, до нового хватит. В этом году окот прошел благополучно. И коровы телились справно. Так шо будьте спокойны…»
Микита не знает, что писано дальше. Не успел прочитать. Батько схватил его за ухо и вышвырнул за порог.
Школьный зал набит до отказа. За каждой партой уселись по четверо. Кому не хватило места, стоят в проходах плотной толпой. Галдеж – оглохнуть можно. Все говорят, и никто ничего не слышит.
В проходе появился Сирота. Зал замер. Чудно, наступила такая тишина, будто уши намертво заложило. Сирота стал у стены. Голубеет расшитая косоворотка, белеет продолговатое лицо с крепким хрящеватым носом. Брови широкие, густые. Лоб низкий. Залысин нет. Чуб темной шапкой надвинут чуть ли не на самые брови.
Сидор Омельянович отменил последний урок и устроил общий сбор. Говорить будет о церкви. Точно знаем. Сейчас вся слобода ею занята. Тетки под хатами о ней балакают. Дядьки – возле «рачной». Начальство – в сельсовете. Ну, а мы, ясно, в школе.
Не знаю, как мне быть? Сначала настраивался против церкви. Совсем ее не жалко. Стоит пустая, окружена могилами, обросла кустарниками, бурьяном заросла. В трещинах порога – лебеда. Окна повысажены. Птахи всякие туда залетают. Гнездятся, где не следует. Внутри ничего такого не осталось. Была когда-то серебряная утварь, золотые оклады. Теперь нет. Все поразнесли.
Отец мой поутих насчет церкви, и мне ее жалко стало. Выходит, куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Однажды зашли мы с Микитой в церковь. Я как затянул: «Ого-го-гоу!..»
Поплыло эхо, затрепетало под сводом главного купола. Померещилось, мне, будто вздрогнула тяжеленная цепь, на которой держится паникадило.
Микита объясняет:
– Вон в тех выступах – горшки вмазаны. Понял?
Киваю согласно, но, правду сказать, верится не очень. Хотя почему же? Помнится, возьмешь глечик, поднесешь ко рту, забубнишь – отдается гулко. В церкви, видать, большие глечики вмурованы, покрупнее домашних, оттого и звук пораскатистей.
Микита за то, чтоб церковь не трогали. А что думает Юхим, не пойму. Говорит:
– Яке мени дило!
Конечно, ему теперь не до церкви, своих забот по горло. Отец ж без ноги остался, на деревяшке ковыляет. А деревяшка, известно, не своя нога, на ней шибко не разгонишься. Юхим теперь вместо отца бегает.
Замерла школа, слушает своего директора. Сирота издалека начал, чтобы яснее было. Рассказал, откуда взялась религия и что она такое есть. Всю историю припомнил. Как же, он сам историк, значит, и должен истории рассказывать. Рисовал нам пещерного человека. Гром и молнию рисовал. Страх, говорит, заставил дикаря искать себе бога-защитника. И о рабах сказал: верой их держали в покорности. Но всего интереснее было слушать о рыцарях-крестоносцах, которые шли в бой на бронированных лошадях, в железных латах. Потом про инквизиторов-монахов. Говорит, сонных людей по ночам хватали и живьем в костры кидали. Описал войны всякие. Упомянул Шевченко и его «Конфедератов». Рассказал, как попы против Советской власти руку поднимали, заговоры устраивали.
Так нас накалил, так распек, что дай команду – кинемся на приступ! И еще чем взял:
– Бесполезная масса кирпича! Если этот кирпич с умом употребить, может вырасти двухэтажная школа, как в городе.
Всем уже мерещилась высокая красавица школа с широкими, словно ворота, окнами. Сирота заключил:
– Вы, ученики, застрельщики новой жизни, бейтесь против отсталых элементов, против религии и невежества. Говорите своим отцам и матерям, что церковь – бельмо на глазу. Снесем ее с нашей земли и место заровняем, где стояла!







