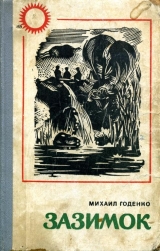
Текст книги "Зазимок"
Автор книги: Михаил Годенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1Костину жинку зовут Ганной. Но старый Говяз называет невестку по-слободскому: Нюнька. Не дело, конечно, городскую женщину Нюнькой звать, но суперечить старому не стали: обидчивый, пойдет оглобли ломать, норов свой показывать. Что с ним приключилось на девятом десятке? Покладистый был мужик, смирный – хоть воду на нем вози. И вот тебе на! Муха укусила или время настало такое раздражительное? Наверно, время. Радио кричит, телевизор гудит, газеты предупреждают. Пойдешь в лавку, постоишь с мужиками – то же самое: про войну да про войну.
– Умереть не дадут спокойно, басурманы. То бомбой грозятся, то еще каким чертом. Понапридумывали разного, анафемы дети. Спалят живьем, и пикнуть не успеешь!
Когда-то до войны землемер выписывал газету «Вісті». Все ее экземпляры сохранил до сегодняшнего дня. Часто перечитывает пожелтевшие листы. Берет в руки газету, скажем, в полдень и сидит с ней до заката на каменном порожке, подбив под себя валенок. От буквы до буквы прочитает. Затем вторично прохаживается по полосам, любовно оглаживает, складывает бережно, прячет в ящик комода, запирает на ключик. К «Вістям» отношение особое. Газета Советов, газета самого Григория Ивановича! Всеукраинский староста был человеком добрым. Несправедливости не терпел. «Вісті» – как память о нем.
Говяз в свои восемьдесят с лишним лет без очков читает. Еще и посмеивается над невесткой, которая за швейную машинку садится в окулярах. Он поучает:
– Все потому, что народ мало фруктой интересуется. Сила в глазах только от нее. Особенно от груши.
– Откуда вам известно?
– Откудова, откудова! Надо собственное понятие в голове иметь.
И пойдет и пойдет. Ворчит действительно как свекор.
Не по душе Ганне слобода. Непривычна Ганна топить плиту кизяками, полоскать белье у колодца. Больше всего не нравятся бабы слободские, которые упорно считают ее рязанской. Просто зло берет! Какая же она рязанская, если весь век прожила в Ростове. А Ростов – вот он, рукой подать. Всего три пересадки: Пологи, Волноваха, Дебальцево – и ты дома. На попутной машине – и того ближе. Когда Костя уходил в запас, Христом-богом молила: в Ростов-Дон. Куда там! И слушать не хотел. Только в слободу. Провалилась бы она! Что хорошего в слободе? Медом она намазана, что ли? Настырный, чертов хохол. Вроде папы-землемера. Когда-то был покладистым. Ласковый, хоть голыми руками бери. И взяла – сама теперь не рада! А ведь не хотела, не нравился. Долго обходила его койку в госпитале. И вот, дура, попалась.
Лежал поломанный весь. Ноги в гипсе, на руках шины. Лицо темное, губы блеклые – посмотреть не на что. Только глазом карим водил по сторонам. Прижмурится, бывало, прищурится от боли. Ганна подходила, во всем помогала. Но к душе не подпускала. Не о таком думала. Скулы широкие отпугивали, глаза раскосые стращали, губы, что враз синее гипса становятся, если что не по нем, отталкивали. Не такую карточку в сердце носила. Не для такого себя берегла. Но прилип, и оторвать не сумела.
Когда Ростов уже стал нашим, потянуло туда. Просила-молила, чтобы дали отпуск. Не терпелось на дом свой поглядеть. Без хозяев он, сиротой остался. Отец на фронте. Мать подалась с младшей дочерью в Среднюю Азию, в эвакуацию. Ганна в моряцком госпитале службу несет.
Костя к тому времени пошел на поправку. Шины сняли. Сунули костыли под мышки. Запрыгал по саду, словно журавель подбитый. Просит:
– Ганя, оставь ориентиры. Скоро поеду в слободу, на побывку. Заскочу по пути.
Оставила. Пусть заглядывает.
… Долго давил на кнопку звонка. Потом постучал в двери ботинком. Звонок же немой. Электричества в городе нет.
Откинула цепочку, щелкнула задвижкой, сняла крючок. Он не вошел – влетел в прихожую. И кто его знает, почему у нее ослабли ноги. Может, потому, что в эту минуту не было рядом человека ближе, роднее. Город разрушен. Все чужие. Пусто вокруг. А тут он. Стоит, улыбается. Таким милым показалось его широкое лицо. Чем-то родным повеяло от него, чем-то дорогим пахнуло от темно-синего кителя, от золотистой фуражки. Кинулась на шею, ни о чем не подумав, ни о чем не пожалев.
Когда ехала в Ростов, в станице раздобыла яиц. Осталось еще немного. Вот бы угостить Костю глазуньей. Но ни масла, ни сала. На чем жарить?
Костя сбросил китель на кровать – зарябила тельняшка, – открыл чемодан. Выхватил бутылку кислого «гурджаани».
– Я сам!
Накинул передник, подался в кухню. Запылали в плите какие-то старые журналы. Загудела сковородка, кинутая на конфорку. Вытащил из бутылки глубокую пробку, плеснул розовое вино на сковородку.
– Чи ты сказился?
– Ось покуштуешь!
Вино закипело, зашипело, задымило парком. Костя стукает ребром ножа по яичку и хлюп в вино, хлюп. В самом деле, вкусная штука получилась.
Накормил, напоил и спать уложил, ласковый. Ничего лучшего не хотела. Ничего лучшего придумать не могла. Да и зачем? От добра добра не ищут! Потом появилась тревога. Боялась потерять единственного! Как быть, что делать? Ему утром в слободу ехать. Сроку – пять суток с дорогою. Говорит, отпустили только одним глазом взглянуть и обратно. А там часть догонять надо. Вон уже куда передовая откатилась. А в слободе родной угол. Там отец.
Не отпустила его Ганна в родную слободу. На весь срок при себе оставила. А вышло время, проводила на шоссе. Прицепился на попутный «студер». Рукой не успела махнуть, как с глаз пропал.
2Не знаю, шутку он шутил или правду говорил, но услышал я от Кости вот какую историю.
Морские бомбардировщики базировались в Констанце. А рядом, сотни через полторы километров, – Бухарест, Букурешти. Видел его Костя с воздуха, но то не в счет. Захотелось пройтись собственными ногами по зеленым улицам румынской столицы. Город, рассказывают, красоты необыкновенной. Не было бы на земле Парижа, Букурешти вполне мог бы заменить Париж.
Одним словом, поехал Костя в Бухарест. Умостился в маленьком, не по-нашему устроенном вагоне и покатил. А сиденья чудно́ по вагону расставлены: и так и этак. Вдоль и поперек. Спальных полок не видать. Они и не нужны. Тут все государство засветло проедешь – спать некогда.
Поглядывает в огромные проемы окон. По сторонам бегут холмы, сплошь укутанные виноградниками. Долины усыпаны краснокирпичными домами. Среди них, точно чабаны среди отары, возвышаются церкви островерхие. Бегут рядом или, пересекшись под углом, уходят в сторону шоссейные дороги, обсаженные сливовыми деревьями. Слив здесь много. Из них и вино гонят, и напитки всякие давят. Их и солят, и маринуют, и сушат, и в капусту кладут. Сливовый край, и только. Раньше думалось, растет на румынской земле одна кукуруза. Выходит, не только. Слива кукурузу потеснила. Потеснила, понятно, в сознании Кости. Как оно на самом деле, ему неизвестно. Потому что он в этом крае совсем недавно. Даже Бухареста не видел. Ну, а кто не видел Бухареста – тот не видел Румынии!
Вокруг дядьки в плотных домотканых одеждах. У каждого сумка полосатая из ряднины сшитая, деса́гой называется. В сумках – чего ты хочешь: и гусаки голгочут, и куры квохчут, и поросята визжат. Или, скажем, макуха выпирает, или кукурузные початки. Все везется на продажу. А куда – всякому понятно. Потому что то и дело слышатся слова: «Ла ураж Букурешти?» – в город Бухарест, значит.
Всего больше слив. Они в широких плетеных корзинах. Хмельная сливовая сладость заполнила все пространство. Надышишься – без вина опьянеешь.
Костя внимательно вглядывается в бурые крестьянские лица, то седоусые, то сивобородые. Глядел на теток, распустивших сборчатые юбки, надвинувших цветастые платки на глаза. Смотрел на руки в темных трещинах и желтоватых мозолях. И дядьки и тетки многим похожи на наших слободских жителей. И, понятно, никакая война, никакая стрельба их не радует. Тут и виноградники надо обрабатывать, и за скотом ходить. Тут и пацанву обшивать-обстирывать надобно, и сливы собирать. А разве им парубков своих не жаль, тех, что под Мелитополем или под Таганрогом похоронены?
Тихим ехал Костя в город Бухарест. И слободу припомнил, и осточертевшие вылеты на задания. Жаль ему стало себя. Потому что, кто знает, вернется ли он из очередного полета или, может, булькнет в море? Увидит ли он свое село, что за горами, за долами прилепилось у неширокой речушки Салкуцы?
Но, видать, так устроен Говяз, что долго грустным не бывает. Сидит в нем чертик озорной, бесенок неуемный. Сидит и щекочет под ложечкой.
Когда поезд подкатил к шумному перрону, когда толпа вынесла Костю в город, чертик и вовсе его замучил. Пошел Костя писать виражи. Вначале заглянул в погребок. Хозяин пригласил «снять пробу» с каждой бочки. А их пять. Наполовину замурованы в стену. Глядят днищами на посетителей, достают длинными деревянными кранами до стойки. На стойке стеклянные кружки, высокие, сужающиеся книзу.
Костя словно прилип к кружке. Кисловато-холодная жидкость хорошо утоляет жажду, легким теплом расходится по телу. Когда поднялся из погребка, Букурешти предстал перед ним писаным красавцем. Костя и глаза зажмурил, и рот открыл.
– Буна сара, домине локотинент! – поздоровалась с ним смуглолицая дивчина. Она назвала его господином лейтенантом, хотя он на самом деле уже давно старший лейтенант. Но откуда же ей знать о таких тонкостях? К тому, же у румын, сдается, и нет такого звания – «старший лейтенант».
– Норок (привет), миледи! – ответил Костя, помахивая ладонью.
– Домине локотинент пил вино? – улыбаясь, спросила она почти по-русски.
– Пэнтра пуцынэ! – ответил по-румынски. Что означает: самую малость.
– Хорош локотинент!
– Буна, буна! – подтвердил данную ему оценку.
Нельзя сказать, чтобы он был очень пьян. Тут все надо объяснить тем чертиком, который встрепенулся в нем.
И пошли они вдоль самого красивого города Европы (Восточной, конечно!), чувствуя себя по-детски свободно. Он положил руку ей на талию. Она оперлась на его плечо легкой ладошкой. Ему захотелось подарить ей что-нибудь. Пусть помнит Костю Говяза, хлопца из украинской слободы. Потащил ее в ювелирную лавочку. Увидев под стеклом витрины колечко с лиловым камушком, ткнул пальцем в стекло:
– Подайте!
Надев колечко на мизинец своей «миледи», Костя задумал поговорить по душам с хозяином. Перед ним человек иного мира – собственник, буржуй, капиталист или как там еще? В общем представитель диковинного для нас сословия. Начал такой разговор:
– Как тебе не стыдно? Обманываешь рабочих людей, наживаешься на них.
Хозяин, не понимавший по-русски, охотно поддакивал гостю, утвердительно кивал головой, по-доброму улыбался.
– Да, да, домине локотинент. Да, да!
– Эксплуататор ты, понял?
– Да, да!
– Жалко мне тебя, красивый парень. Отдай все людям, а сам иди работать. Согласен?
– Да, да! – все так же мило улыбался хозяин.
Девушка, изнемогая от хохота, повисла на плече Кости, одобрила его:
– Фрумо́с, локотинент, хорошо!
Кто его знает, что она за человек, эта «миледи». Может, женщина легкого поведения, может, совершенно наоборот. То, что так просто пошла с Костей, еще ни о чем не говорит: в войну все было просто.
Не расставался с ней двое суток. Когда кинулся в сторону вокзала, она торопилась рядом, по-детски целовала ему руки, всхлипывая, повторяла:
– Кота, Кота, милий! Буна малчик, фрумос малчик!
Видать, не такой уж она была простой и легкой.
Костя шел в часть, как говорится, на рысях. Когда миновал крайние лачуги Констанцы, когда степной ветер ударил в ноздри запахом привялой травы, он и вовсе пустился вскачь. Опаздывал безбожно. Не иначе, опять «губа». И тут – коляска. Даже не коляска, а, пожалуй, карета. Темная, закрытая вся. Дверца с окошком. Лошади не идут, а танцуют. Смотри, не насмотришься. Чья это карета? Наверно, в ней боярин какой-то, кровопийца – эксплуататор местного народа? Но сейчас не в этом вопрос. Карета катится в сторону части. Может, подвезет хозяин-румын? Мы же все-таки теперь союзники.
Встал Костя посреди шоссе, раскинул руки, точно Христос на распятии.
– Стой!
Кони затанцевали на месте, опаляя незнакомца огненным дыханием. Кучер засуетился, залопотал что-то непонятное. Дверца кареты приоткрылась.
– Чи фаче?
Что, мол, такое, спросили оттуда. Костя подскочил к дверце:
– Домине господарь, подкинь к части. Век не забуду!
– Садитесь, господин старший лейтенант!
«О, ты глянь! Этот и звания наши точно понимает, и говорит чисто по-русски», – подумал Костя, усаживаясь рядом с хозяином кареты на мягкое кожаное сиденье. Господин во фраке, сидящий напротив, засуетился. Хозяин успокоил его жестом.
Косте наплевать на их мимику и жестикуляцию. Он устроился удобно, едет быстро. В данной ситуации, как говорят, больше ничего не требуется. Похлопал по плечу хозяина, похвалил:
– А ты хлопец хороший, хоть и буржуй. Понятие имеешь, что человек безбожно опаздывает. – Костя откровенничает: – Ты знаешь, какой у нас «батя» строгий? Ую-ю! Попадись под горячую руку – все шпангоуты пересчитает.
Человек, что напротив, смотрит злыми глазами, а сосед по сиденью ничего, улыбается. Балагурит Костя, дурачиться.
– Слухай сюда, – толкнул локтем соседа, – приезжай к нам в слободу. Борщом угощу, в «косточки» научу играть. Добро?
«Домине господарь» вежливо благодарит за приглашение. Костя не унимается:
– Может, у тебя что болит, наружное. Скажем, свищ какой или язва. Или в костях ломота. Приезжай. Враз вылечу. У нас криница есть, чудно́й называется. Чудеса творит, понял? Правда, вы, буржуи, привыкли в Баден-Бадены прогуливаться, Карлсбады навещать. Все это чепуха! Несерьезно! В слободу надо ездить, в кринице окунаться. Раз окунешься – и все. И не ходи босый!
Костя потягивает сигарету, травит, как говорят на флоте, до жвака галса, то есть так, что дальше некуда. Чувствует себя в экипаже господарем. Настоящий хозяин сидит бочком, слушает с интересом, не перебивая. И все улыбается, улыбается. На лице никакого смущения. Видно, Костя его нисколько не стесняет, скорее, забавляет.
У ворот части карета остановилась.
– Ну, друг, держи! – Костя пожал «господарю» руку. – Век не забуду! – Открыл дверцу, стал на подножку. И поразился: что за маскарад? Почему его встречает у проходной сам дежурный по части, майор? К чему такая суета? Может, сразу под арест ив камеру?
Майор оттолкнул Костю, поднялся в карету. Карета въехала в широко распахнутые ворота. Покатила в сторону штаба.
– Сержант, что за аврал?
Дежурный по КПП – контрольно-пропускному пункту – потрогал кобуру с наганом, кивнул в сторону черной кареты, ответил медленно, спокойно:
– Михай, король румынский, к «бате» с визитом.
Костя размял сигарету и долго не мог ее прикурить.
3Хороши сыновья у Кости Говяза. Зовут их – одного Генкой, другого Гошкой. Одному восемнадцатый год пошел, другому шестнадцатый. Хлопцы рослые. Выше отца вымахали. Гордится ими отец. А вот у меня нет детей, и потому щемит под ложечкой, когда вижу пацана или девчушку, которая шепелявит по младости лет. И дороги мне они, и обидно, что нет у меня таких. А могли быть. Но все некогда ей, моей жене, все некогда: то аспирантуру кончала, то кандидатскую диссертацию защищала. А позже – и вовсе запуталась. Признаюсь, еще в самые зеленые годы всегда думал: вот поженюсь, построю хату из самана. Заведу детишек, много, целую дюжину. Буду возвращаться с поля, они влезут на все подоконники – бесштанная, лобастая, лохматая орава, – радостно прилипнут ладошками к стеклам. Жена – на пороге. Зардеется, что тюльпан в палисаднике, зачем-то вытрет о передник чистые руки, снимет с моего плеча косу, повесит в сарае на деревянный колок. Затем снова будет возиться с детьми. Все у нее ладно, все споро. И посмешит, и побранит без сердца неслухов. Всем найдет слово, всем укажет забаву.
Помню, как-то мы туманные картины показывали у Микиты в сарае. Сделали ящичек-аппарат из фанеры. Сверху круглое отверстие выпилили. Выкручиваем фитиль, коптит, бедный. И ну картины на стену беленую наводить. Перед ящиком четырехугольное окошко для закопченного стекла. По копоти Микитой нарисованы всякие виды, моря, горы, облака высокие. То верблюда изобразит, то жирафу короткохвостую. Пацанва визжит от таких диковинок. Видя такой успех, мы попробовали было брать за вход по три копейки. Но зареклись потом. Пусть лучше берут другие. Пусть их, а не нас чужие отцы за чубы таскают. Пусть их директор Сирота на позор выставляет. Но это случай. Не в нем дело. Помню, как Таня нам помогала. Когда не хватало рисунков на стекле, заменяла их собственными пальцами. Они у нее длинные, послушные, будто из резины отлитые. Подходила к фонарю, купала пальцы в луче. А на белой стене сарая в желтом квадрате прыгали всякие зверюшки, шевелили ушками, умывали лапкой мордочки. Волки открывали злые пасти, козы выставляли бодливые рога. Тут любой засмотрится. Таня и показывала, и голосом помогала. Вижу ее всегда в кругу малых детишек, к которым у нее душа поставлена. У Тани их было бы много. Она любила, чтобы и шумно и людно вокруг. А вот у других – никого. Пустыми ходят.
Почему так получается? Может, не в те пары впряжены?..
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1Война войной, а жить надо.
Выкатила Поля старенькую тачку из повети. Поставила на нее огромный бидон, увязала веревками, поехала «на низ», к колодцу. Колодец ничейный. Стоит в конце колхозного сада, можно сказать, на самой улице. Кто хочет, тот из него и черпает. Рядом каменное корыто. И козы тут пьют, и птицы присаживаются. Сруб цементированный. Над ним коловорот с недлинной цепью. Вода близко, рукой зачерпнуть можно. Сладкая и мягкая, не то что в колодцах, которые «на горе». Те глубокие, словно шахты. Вода жесткая, будто в нее мешок соли уронили.
Колодец в войну остался нетронутым. И коловорот цел, и цепь не порвана, и ведро, как было приковано, так на цепи и осталось. Кто знает, когда этот колодец выкопан? Из него, поди, пили и ногайцы и татары. Он поил и запорожцев, и солдат потемкинских войск. Из него черпали и махновцы, и красные конники. Утоляли жажду и немцы, и итальянцы. Он полон и спокоен. Вода по-прежнему прохладна и сладка.
Поля подогнала тачку поближе, положила дышло на каменное корыто, чтобы стоял бидон прямо, чтобы наполнить его по самое горло.
Юбка подоткнута. Коротковатые ноги оголены до колен, обрызганы водой. Из-под белого бабьего платка выбивается прядка пшеничных волос.
– Можно напиться?
– Чи воды жалко!
Они не узнали друг друга. Юхим в темно-зеленой куртке из грубого сукна. На голове высокая фуражка с далеко выдвинутым вперед козырьком. На фуражке – разлапистая кокарда с орлом из золотой канители. Куда тут узнать. Генерал и только. Правда, парад портят простенькие брюки из «чертовой кожи» и старые кирзовые сапоги. А в остальном, – конечно, генерал!
Прежде чем наклониться над ведром, сбил фуражку на затылок, открыл незагорелый лоб. Прикипев синими полными губами к краю ведра, пил долго и всласть. По темной шее вверх-вниз ходил кадык.
– Тю, чи це Юхим?
– Уже и на себя не похож?
– Ей-бо, правда!
– Краше чи хуже стал?
– Кто тебя знает. Важным сделался.
– А ты думала! – гордо хмыкнул собеседник. – Все считали, что Юхим – так себе, а, выходит, не так.
Гордится Юхим. Наконец-то и он что-то значит, и он на виду. Шутка сказать, третий человек в слободе. Сам себя числит третьим – иначе никак не получается. Как ни крути – третий. Первый – староста. Всей управой ведает. Второй (тоже ничего не попишешь) – голова общинного хозяйства – бывшего колхоза. Третий – Юхим. Пусть он простой полицай. Но и по опыту и по возрасту – полицай над полицаями. Остальные – желторотые. Ни пороху не нюхали, ни плену не испытали, ни, наконец, военных, училищ не проходили.
Поля опрокидывает ведро над горлом бидона.
– А что, если наши вернутся?
– Ось як тут волосья вырастут, – ткнул черным ногтем в желтоватую ладонь, – тогда вернутся. Чула?
– Не глуха.
Снова наклонилась над добрым колодцем.
На широком дворе волости, или сельсовета, или сельской управы (не знаешь, как теперь и называть!), расположили пленных. Просторный двор сделался вдруг тесным. По пленным можно было понять, где теперь идут бои, до каких пределов отступили наши. Шахтеры и донские казаки, кубанцы и кавказцы – все сбиты в одну оборванную и голодную толпу. Поглядишь – сердце обрывается. Забегали бабы от волости до хат и обратно. Кидают через огорожу паляницы хлеба, пампушки, коржи – что у кого есть.
Юхима тоже поставили в охранение. Рваная, колотая, битая толпа вызывала в нем двойное чувство. Ему жалко было униженных людей. Помнил свой плен, свои болячки (не доведись испытать снова!). И все же радовался тому, что народ этот взят в далеких от слободы краях. Значит, германец вошел глубоко, значит, он силен. Значит, его дело верное. Его порядок прочен. И Юхиму нечего беспокоить себя вопросом: «А что, если придут наши?» Путь избран верный. Живи, поживай да добра наживай.
С того крыла здания, где суд и «холодная», на внутреннее крыльцо вышел уполномоченный немецкого командования. С ним целая свита: охрана, переводчик, еще какие-то лица в цивильных пиджаках. Уполномоченный говорил долго. Переводчик изложил короче:
– Согласные служить в особом батальоне получат свободу, оружие, пищу. Наденут военную форму. Станут солдатами, а не подневольной скотиной. Пойдут сражаться за великое дело, вместо того чтобы гнить в лагерях.
Некоторые перекочевали в сторону, указанную рукой немецкого офицера. Сердце Юхима радостно заколотилось. «Ага, значит, не верят, что вернутся свои. Фух!..» Вытер жестким рукавом лоб, задвигал кожей головы, даже фуражка заходила.
Вместе с другими полицаями отвел согласных в здание школы. На радостях хлопнул одного дядю по плечу, подморгнул. Мол, теперь одной веревочкой связаны. Дядя так посмотрел, что пришлось отвернуться. Понял Юхим: такой сбежит при первом удобном часе. Еще и нож тебе в спину всадит. Заныло под лопатками у Юхима, погано сделалось на душе.
Натворили переполоху румынские вояки. Ворвались в слободу на пяти подводах. Залопотали, как цыгане, шут их разберет про что. Только и понять: Сталинград, Сталинград! Но что с тем Сталинградом стряслось, не ясно.
– Каруце мердже ла ураж Букурешти!
Вопят, значит, что их каруцы едут в город Бухарест, что, мол, им, румынам, нечего здесь делать. Им надо отправляться домой.
Ну, это, голубчики, будет видно. Это как ваше командование распорядится. Если же домине капитан Гергуляну не уймет панику, и его приберут к рукам. Румын у немца не разгуляется!
Каруцы покатили на запад. Ушли безнаказанно, посеяв в слободе панику. И уже никто толком не знал, где линия огня, что со Сталинградом, что с Ростовым. Румынский комендант все чаще пускал в ход плетку, ругался на своих и на чужих:
– У, мама дракуле!
Вдруг снял немногочисленный гарнизон и ушел на запад. Видно, решил, как и те солдаты, что на каруцах драпали из-под самого Сталинграда: румынам нечего здесь делать, надо двигаться «ла ураж Букурешти». А что? Там для них действительно больше интересу, чем в чужой степи.
Тихо стало в слободе. Ни румын, ни немцев. Только староста в управе, да голова общинного хозяйства, да полицаев горстка. Разве такими силами удержишься! Забегал Юхим. Зашарил по углам: куда бы укрыться, куда бы провалиться!
Оказалось, рано ударяться в панику. Немцы выставили у Днепра заслон, закрыли все дороги назад. Беглецов ловили, ставили в строй, поворачивали лицом к восходу. Снова пошли войска через слободу, потянулись на восток каруцы.
Однажды, когда часть проходила мимо волости, услышал:
– Юхим, вини коч!
Просят подойти. Гавва подался на окрик. Оказалось, его окликнул бывший постоялец Запша – румынский серб.
Долгими вечерами рассказывал Митко Запша свечу одногодку Юхиму Гавве разные истории. Всего чаще вспоминал серб, что где-то в Америке, на том краю света, живет тетя. Приглашает к себе. Присылает фотокарточки для большей веры. На тех снимках и ферма, и дом каменный, и трактор собственный. Мечтал Митко попасть в страну обетованную – Соединенные Штаты, да все никак не получалось. До войны выехать не успел. В войну – совсем не выехать. Подданный румынского короля пошел воевать за интересы королевской власти.
– Митко! – Юхим ухватил Запшу за рукав, пошел рядом со строем. – Отдыхать будете у нас?
Серб отрицательно помотал усталой головой. Торопят, не до привалов, мол.
Шли долго, через село. Когда поравнялись с первой полосой ветроупорки, Запша наскоро поведал Юхиму о наболевшем:
– Хорошо бы в плен…
Лагеря будут, тяготы будут. Но от русского плена все-таки ближе до американской земли, чем от армии Антонеску. Как-никак Советы и Штаты – союзники.
Юхим даже не слышал, о чем говорит Митко. В голове туманилось, от страха поташнивало. Казалось, не сегодня-завтра стена, составленная из таких вояк, как Запша, рухнет. Хлынут русские через ее развалины. Доберутся мигом до слободы. Первым долгом разыщут Юхима…
Поздно вечером постучал к Саше.
– Чего тебе?
– Саня, сохрани на ночь. Утром двинусь куда-нибудь подальше.
Не смогла прогнать, раз человек попал в беду. Такое уж у нее слабое сердце.







