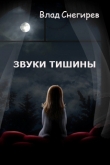Текст книги "Я – Беглый (СИ)"
Автор книги: Михаил Пробатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Орден Ленина
Летом 52 года моего отца внезапно вызвали в Москву. Этот вызов был сделан необычно. Ему позвонил Министр рыбной промышленности СССР Ишков и сказал:
– Вылетай срочно. Через четверо суток ты должен быть в Москве.
И он очень строго оборвал отца, когда тот пытался его расспросить:
– Немедленно! – проговорил он. – Ты понимаешь русский язык?
Этот Ишков известен тем, что проворовался одним из первых. То есть, я хотел сказать, что его, кажется, первого дёрнули за воровство. Вот не помню точно когда. В конце семидесятых? Эта забавная история всем известна. К моим родителям он относился хорошо, хотя отец его откровенно презирал за невежество и холуйство. Опять же соврать боюсь, то ли он сам, то ли кто-то из его ближайшего окружения как-то сказал: «Была бы вода, а рыба будет», – не нужно быть промысловиком, чтобы понять грандиозную степень этой наглой глупости. Он был специалист не так по добыче рыбы, как по организации номенклатурных охот и рыбалок, где важнейшие чиновники страны отводили душу, напиваясь и обжираясь до безумия. Но он был человек не злой, и отец, находясь в рискованном положении, очень дорожил его дружбой.
На Дальнем Востоке в то время в разгаре была охота на врачей и космополитов, сбежавших из столиц и укрывавшихся в глуши.
Мать незадолго до того пыталась защитить кандидатскую в Иркутском Университете. Её специальность была – промысел сельди. Понятно, что промысловый прогноз напрямую зависит от закономерностей размножения, а это была тема – смертельная. Наследственность! Лысенко! В Иркутске мать вызвал к себе ректор Университета и уговаривал забрать рукопись и уехать домой. Она отказалась. Тогда он позвонил отцу, тот прилетел и увёз её силком.
Бабушка на руках имела справку об освобождении. Ей нельзя было жить ни в одном крупном городе страны, и её то и дело вызывали в Южно-Сахалинск и там допрашивали. Она, вернувшись, говорила:
– Ну, беседовали. Он очень интересный человек. Совсем не глупый. У него тяжёлая служба. Знаете, все эти люди глубоко несчастны.
– Знаю, – саркастически подтверждал отец, и по лицу его пробегала гневная молния. – Я тоже их знаю… немного. Действительно, они несчастны.
Пока отец был на Сахалине, семья находилась в некоторой призрачной безопасности. Мы все жили за его спиной. Для того чтобы арестовать бабушку или мать, нужно было сначала взять его, а это было непросто, потому что его начальство находилось в даже не во Владивостоке, а в Москве.
– Не поехать, сказаться больным, например…, – сказала бабушка.
– Нехама Львовна!
– Ну, а какая вероятность, что там, в Москве вас не…
Они смотрели друг другу в лицо, глаза в глаза.
Теперь я немного расскажу об отце. Всего о моём отце не расскажешь. Это будет очень много. Он был ровесник века, 1900 года рождения. В 1914 году сбежал из дома на фронт. В августе, когда наши были окружены в Восточной Пруссии, он был вестовым командира пехотного полка. Он стоял под огнём рядом с полковником на КП. Закричали: «Ложись!», – все бросились на землю. Снаряд взорвался, штаб осыпало комьями грунта и камнями. Все встали, а отец продолжал лежать, закрыв голову руками.
– Эх, взял я грех на душу, – сказал полковник. – Мальчишку надо было отправить домой…
Неожиданно отец встал, поискал фуражку, выколотил её о колено и взял под козырёк:
– Никак нет, Ваше Превосходительство! Я здоров и могу исполнять службу.
– Что ж ты не встал? – облегчённо смеясь спросил полковник.
– Виноват, испугался, Ваше Превосходительство.
Полковник тут же достал из шкатулки Георгиевский крест и приколол отцу на гимнастёрку. Этот крест я часто разглядывал в детстве. Но после смерти отца мне его не отдали. Ведь незадолго до этого, мои родители разошлись, отец женился на другой женщине. Мне сказали, что крест потерялся. Может быть, это и правда.
– Если б он знал, что меня арестуют, – сказал отец, – вряд ли стал бы сам звонить ко мне в Институт. Все в Институте знают, что он лично вызвал меня. Он человек очень осторожный.
– В таком случае мне в море уходить нельзя, – сказала мама.
– Наоборот, никто не должен видеть, что ты боишься, – сказала бабушка.
– Кто? Я боюсь? – закричала мать.
– Ида, не валяй дурака, – сказал отец. – Нельзя, демонстрировать, что ты ареста ждёшь. Ты не уходишь в рейс, почему? Это придётся объяснить.
– Мне спокойней будет, когда ты в море, – сказала бабушка, мирно улыбаясь. – Ты слишком экспансивна, моя дорогая, это не годится.
И отец улетел в Москву, а мама ушла в рейс. И мы остались с бабушкой. С нами жила ещё домработница тётя Катя, она была кубанская казачка, только что «от хозяина», и Толик, беспризорный двенадцати лет, которого мои родители взяли в дом, а позднее усыновили. Он потом пропал, я ещё о нём расскажу, я считал его родным братом.
Через несколько дней Толика на улице сильно поколотили и разбили, разломали, разобрали, буквально, по гайкам, и раскидали велосипед, который был тогда на Сахалине чудом, а мой отец Толику его подарил. Велосипед этот вызывал, конечно, недобрые чувства. Бабушка позвонила человеку, который замещал отца, я не стану называть его фамилию, но и псевдонима ему придумывать не стану.
– Эти люди, называли мальчика жидовским выкормышем…
– Нехама Львовна…, – сказал этот человек. И замолчал.
– Я слушаю вас.
– Я вас очень прошу не выпускать детей на улицу. И… оставьте меня, пожалуйста, в покое.
– Хорошо, – сказала бабушка. – Я понимаю вас.
И она больше никуда не звонила. Я сидел у окна и смотрел на горизонт. Где-то в море была моя мама. Гулять меня не выпускали.
– Катя! – позвала бабушка.
Катя пришла с кухни. С рук её капала вода.
– Слухаю, Львовна.
– Я сейчас позвоню на рыбозавод, договорюсь. Вы собирайтесь и уходите в общежитие. Вам дадут койку. Вам здесь нельзя.
Тётя Катя была единственным человеком, называвшим бабушку не по имени и отчеству, а Львовной. Иногда же, они, уединившись, о чём-то негромко разговаривали, и тогда Катя даже называла бабушку Надей. Имя Нехама в переводе на русский – Надежда. И Катя всегда звала её на «ты», а бабушка обращалась к ней на «вы». В их отношениях была какая-то тонкость, о которой я могу догадываться только. Это лагерное. Возможно, по лагерным меркам Катя была значительней моей бабушки.
– Та ты шо? Куда я побежу? Воны достануть и так, и так. Надя…
– Да, Катенька.
Катя села рядом и взяла бабушку за руку своей сильной почти чёрной, корявой от работы рукой. И вдруг она запела. Она пела, тихонько, неожиданно тонким голоском, прислонившись головой к бабушкиному худенькому плечу и зажмурив глаза:
Девочка Надя, чего тебе надо?
Ничего не надо, кроме шоколада…
Как-то я отпросился у бабушки к своему дружку, посмотреть фильмоскоп. Бабушка отпустила меня. Я прошёл через широкий двор – все мы там жили в рубленных больших домах, которые мой отец построил, и за каждым высоким забором был двор с хозяйством. Я, наверное, не правильно употребил в прошлом материале слово изба. На Южном Сахалине тогда все жили богато. И вот я поднялся на крыльцо и постучал. Мне открыла мать моего друга, которая всегда была со мною очень ласкова. И она меня столкнула с крыльца и велела уходить. Я очень испугался, мальчик балованный, к такому обращению совсем не привычный.
Я с плачем шёл к калитке, а эта женщина шла к собачьей будке. Собаку эту звали Пират. И она спустила на меня пса. Я бежал к калитке, а пёс за мной. Я бежал молча и пёс большими скачками бежал молча. Когда за мной калитка захлопнулась, я заорал в голос, а пёс хрипло залаял. Но эта женщина вовсе не хотела меня затравить псом. Она правильно рассчитала и спустила его, когда уж он никак не успевал меня догнать. Я ей очень за это благодарен. Я пришёл домой. В общем, всё было в порядке.
– Я старая дура, – сказала бабушка, – мишигинер копф (так на идише?)! Но Бог на небе, кажется, таки есть…
Потом вдруг явилась мама. Человек, исполнявший обязанности отца, отозвал её из рейса. Её тут же отстранили от заведования лабораторией промысловой ихтиологии. И на работу она не ходила. Потом приехал мой совсем молодой дядька, которого мы звали Светом, и позднее он стал известным писателем Ф. Световым. Он недавно умер. Я о нём, может быть, попытаюсь потом что-нибудь написать, но это трудно. Под старость я почувствовал, что совсем не понимал его. Он, как открытая, книга, был у меня перед глазами всю жизнь, но в эту книгу я почти не заглядывал, а теперь она закрылась. Книги его я читал, они были для всех. А в книге его сердца были страницы, написанные специально для меня, потому что он меня очень любил. Но этих страниц мне уже не прочесть никогда.
– Интересно, за что меня арестуют? За весманизм-морганизм или за космополитизм? Забавно.
– Ида, ты дура! – сказала бабушка. – Тебя не арестуют.
– О, точно! – откликнулась из кухни тётя Катя. – От ось и я ж чую нэ будэ ничого.
Когда-то я хорошо знал украинский, а теперь забыл. Пусть украинцы на меня за это не обидятся.
И вдруг – это именно случилось вдруг, во всяком случае, я так это понял – приехал отец. Я помню, как он в передней снимает серый макинтош и шляпу. Он не был в мундире капитана первого ранга, как всегда ходил тогда, а в каком-то незнакомом и непривычном мне чёрном костюме. И он достал коробочку обтянутую алым бархатом и трясущейся рукой протянул её мой бабушке:
– Смотрите, Нехама Львовна!
– О, Саша! – крикнула мама совсем незнакомым мне голосом, а он подхватил её на руки и так стоял с ней на руках. Их лиц не было видно, потому что они прятали лица друг у друга на груди.
Но вечером, когда накрыт был поистине лукулловский стол, за который всегда садилось не меньше пятидесяти человек, все сотрудники Института, отец, подняв первую стопку водки (он ничего спиртного, кроме водки и пива, никогда не пил), торжественно встал, все ждали тоста, а он сказал нечто странное:
– Мы все здесь, – проговорил он задумчиво, – уголовные преступники. Я надеюсь дожить до того времени, когда всех нас будут судить… Ну, что ты уставился? – вдруг спросил он своего заместителя, сидевшего от него по левую руку. – Не удалось тебе? Думаешь, сейчас меня за эти слова потянут. Дурак ты. Не по зубам тебе я. Но когда-нибудь, когда-нибудь… Меня, а не тебя судить будут. За что? Этого я тебе не растолкую, потому что ты холуй…
Это было очень тяжёлое застолье. Страшное. Утром бабушка сказала отцу:
– Вы вели себя, как мой покойный свёкор. Его, однако, извиняет то обстоятельство, что он был сапожником. Когда он разбогател, то открыл под Минском публичный дом. Он был человек невежественный и грубый. И я вас очень прошу, Александр Николаевич впредь…
– Я вас прошу, – проговорил отец. – Нехама Львовна, я вас очень прошу…
Мама пришла с банкой рассола…
Всё это семейные легенды. Но, приблизительно, так всё оно и было в 1952 году.
* * *
В начале моего журнала, от 20 ноября, есть короткая запись о том, как я помог сбежать двум проституткам, незадолго до того убившим клиента с целью грабежа. По этому поводу там стали спорить, и меня, наверное, справедливо, очень ругали за такой поступок. Но я об этом хочу ещё кое-что рассказать.
В Литературном институте, о котором я надеюсь чуть погодя написать подробней, был такой случай. Я принёс на семинар к покойному Борису Васильевичу Бедному рассказ. Там было что-то о калининградских моряках. Я описывал эту ситуацию, как она мне виделась. Оглядываться же по сторонам в соответствии с правилами уличного движения я совершенно не умею и по сию пору считаю постыдным.
Борис Васильевич был автором повести и киносценария к фильму «Девчата». С точки зрения литературы и кино – это очень плохая повесть и совсем плохой фильм, но человек он был удивительно душевный, отзывчивый, абсолютно всё понимал. Меня он иронически называл «наш доблестный Пробатов». И неоднократно советовал мне держать язык на привязи. Вот как он мне пытался помочь.
В то время Литинститут был опорной базой кочетовского «Октября». Это место было режимное, и я уже понимал, что затесался туда зря. Во время обсуждения сразу несколько человек заговорили о том, что герой этого рассказа проводит вечер в каком-то странном месте. Что это за квартира? Кто эта женщина? Но у меня был задор. Он у меня и сейчас есть. От этого качества отвязаться очень трудно, если только тебе позвоночник не сломают, а мне пока ещё не сломали. Например, то, что я дальше напишу, кажется, писать не стоит, кто-то из моих однокашников прочтёт, потому что меня узнали, и начнётся канитель. Но, ребята, из песни слова не выкинешь. И петь здесь оды нашей альма-матер я не буду.
– Квартира, – сказал я, – где одинокие, а иногда и замужние, женщины принимают моряков.
– За деньги?
– Не обязательно. Иногда за вещи. Иногда за поездку на Кавказ или в Крым, которую им пообещают, – я, заметьте, взрослым мужикам объясняю, которые не хуже меня всё это знают.
– Могут, значит и обмануть?
– Конечно.
– Всё же, какая средняя цена?
Тут я разозлился и говорю:
– Выйди на Пушкинскую, тебе там всё объяснят.
– Ты, то есть, говоришь о проституции. И делаешь обобщение. Это проституция? Ведь у неё нет социальных корней в СССР. Ты с каких позиций это явление описываешь? С чьих позиций? И ещё. Когда тебя читаешь, создаётся впечатление, будто советские моряки уходят в море за длинным рублём. Это неправда. И эту неправду ты поёшь с чужих голосов, можно догадываться, откуда они доносятся, – вот такой, примерно, выдавали мне текст.
И я стал отвечать. Я сказал, что в море за восходами и закатами, за романтикой, ни один человек не станет ходить. Попробует разок и бросит. Потому что эта работа – опасная, очень физически тяжёлая, выматывает нервы, старые моряки все неврастеники. Я стал говорить, что проституция, может, корней и не имеет, но всё равно процветает у нас, выходит, безо всяких корней. Проституток же в портовых городах так много, потому что там много мужчин с изломанными судьбами и непомерными деньгами, которые им не на кого тратить. Море ломает судьбы…
И тут Борис Васильевич обсуждение своею властью прервал:
– Вот, что Пробатов, – грозно проговорил он. – Я уже вас неоднократно предупреждал, говорю в последний раз. Если вы ещё раз сдадите мне такую, с позволения сказать, рукопись, с таким количеством опечаток, грамматических ошибок и с правкой от руки, я вам её верну. И это не к одному Пробатову относится. Я пока в учебную часть об этом не сообщаю, но учтите, товарищи…, – все примолкли.
В 1989 или 90 году «Огонёк» (только что ушёл Коротич) напечатал два или три мои стихотворения, которые здесь нет смысла приводить. Там тогда работал Лёша Зайцев. Уехал за границу, не знаю, где он сейчас. Для меня тогда это было огромное, радостное событие. Я в редакцию за авторскими экземплярами явился уже здорово под мухой и в совершенной эйфории. И я, кроме того, что мне в отделе выдали бесплатно, в киоске купил ещё десять экземпляров, чтобы всем дарить.
Итак, я у правдинского подъезда сел на парапет и стал рассматривать, как это выглядит. Меня опубликовали в рубрике «Бронзовый век» или «Железный век» – не помню. Лёшка в предисловии написал, что вот мол, Серебряный век давно миновал, а он ищет и находит сохранившиеся драгоценные остатки русской поэзии и в этой рубрике их собирается помещать. Написано было здорово, очень для меня лестно. И я был на седьмом небе.
Наконец, я перевернул страницу и обнаружил на следующей полосе крупным планом снимок немолодой, мучительно пытавшейся бесстыдно улыбнуться, женщины с огромной, безобразно обнажённой грудью. Там было ещё несколько таких снимков. Всё это публиковалось в рамках конкурса «Мисс бюст». Для меня это было неприятной неожиданностью, потому что я не мог этот журнал показать в таком виде своим детям. Они ещё были совсем маленькие. Дальше шла большая статья о проституции. Речь вели о том, что это вполне нормальное явление, достойная профессия, очень нужная людям. И в странах Бенилюкса женщины, которые имеют склонность к этой благородной профессии, находятся под охраной государства и являются уважаемыми членами общества. И живут очень насыщенной, полной необыкновенных приключений, счастливой жизнью.
Я вернулся в редакцию и стал уговаривать Зайцева, чтоб он мне посодействовал. Я хотел ответить на эту лживую статью. Он думал и молчал, а потом с каким-то скрипом сказал:
– Я тебя очень прошу, не связывайся ты с ними…
– С кем?
– Да ну их к чёрту, – неопределённо сказал он.
У меня есть некоторые догадки, но доподлинно я и по сию пору не знаю, кого он в виду имел. Так что я уточнять не стану. Очень жаль Коротича и его журнала, который чёрт знает во что превратился, стоило ему уехать. И я даже думаю, что он уехал вынужденно, вернее всего, его просто выжили из журнала и из страны.
И вот что я ещё вспомнил в связи с этим. В начале восьмидесятых я работал пространщиком в одних больших, очень популярных тогда московских банях. Директор этого заведения был человек со связями, злой, бессовестный и решительный. Уже формировалась наша отечественная мафия. Это был один из характерных её представителей. Его очень боялись. Как-то мы с ним выпивали и разговорились. И он мне рассказал:
Лет десять тому назад привели мне сюда одну лимитчицу. Ну, я поглядел на неё. Что ж, девка здоровенная, сильно красивая и это, знаешь, с огоньком – сексу в ней много.
– Ты, уважаемая, языком-то трепать не станешь?
– Нет.
– А давай тогда. Включайся. Пока у тебя должность будет в женском разряде. Будешь пространщице помогать. Она тебе скажет, чего делать, какие бабки, какая, кому отстёжка. А будешь работать нормально, состряпаем тебе прописку, и будешь жить в Москве.
У неё в деревне, где-то под Тамбовом что ли, была мать, двое малолетних братьев и больной отец. Позарез ей деньги нужны были. И стала она вкалывать. У меня тогда ещё косметического кабинета здесь не было, так она наблатыкалась прямо в разряде делать бабам после бани укладки, макияж, маникюр, педикюр, мозоли сводила, и парила путёвых клиенток совсем не за дорого, и успевала ещё убираться. И массажисту давала много работы. Бригадирша на неё прямо молилась. Конечно, копейка к ней побежала, и она отстёгивала честно, не кроила никогда. Вижу, девка сообразительная. Тамара её звали.
Вызываю я месяца через два бригадиршу к себе. Старуха-татарка была у меня тогда. Такая профура, что я сам её боялся. Я ей и говорю:
– Ну, как наша тамбовская Лолабриджида вроде в курс вошла – пора её пристраивать к делу. Пускай налаживает себе приличный прикид и сидит в холле. На ней миллионы можно наварить. И её не обидим. Ты ей так скажи.
А старуха вдруг, понимаешь, взмолилась:
– Николаич, да не тронь девку. Жаль ведь её, пропадёт. А и так от неё польза есть. Мне в разряде без неё будет трудно.
– Нет, – я сказал, – Так дела не делаются.
Помучилась, поныла она. А потом дело пошло, не надо лучше. Разве я людей не знаю? Деньги! За деньги всё сделают. А за неё три «кати» платили в час без звука. Треть она мне посылала, ещё полтинник на общак, полтораста ей на руки. Помешают что ли? Место центровое, клиенты серьёзные. За ночь ей обламывалось, бывало, по две, когда и три штуки. Год прошёл, она себе машину купила, квартиру, стариков перевезла в Москву. Правда, я полез к ней как-то раз по-стариковски. А она мне:
– Иван Николаич, давай сразу договоримся, я тебя лучше забашляю, а ко мне не лезь. И без тебя с души воротит от этих затруханных кавалеров.
Я на такие вещи не обижаюсь никогда. Бизнес есть бизнес, верно? Ну, ладно. Появляется у неё парень. Этот парень был сумасшедший. Он со своей хеврой угонял машины, в основном иномарки, и потом куда-то их толкал. Говорил, что все каналы проверены. Ну, у дураков это всегда так. Отчаянный был. Что сделаешь, красивый, сильный, чего дуре-то ещё надо? Она к нему прилипла и пылинки сдувает. Ну, его взяли – полгода не прошло. И вот она ко мне:
– Иван Николаич срочно одолжи пять штук. Отработаю, чем хочешь. Хочешь, так и натурой. Надо Севку выручать.
Этому Севке накатывала пятнашка. И выручать его было бесполезно, потому что он в угрозыске был вроде плановый. Объяснял я, объяснял, всё без толку. Денег я ей не дал. А Севку через полгода убили на зоне. Так я и думал. И с того случая Тамарка как-то посмурнела. Чуть что огрызается. Какие-то с ней стали истерики. Трудней стало работать.
Вот, однажды я был в кабинете. Смотрю в окно, останавливается «Мерс». И вылезает оттуда омбал. Метра два, наверное, росту в нём, и рыжий, как огонь, и борода рыжая. И вижу я по тряпкам, что это штатник и очень солидный, хотя и молодой, тридцати нет. Я вышел в холл и говорю:
– Томка, мухой ныряй в сауну. Смотри только осторожней. Может он по-русски понимает.
С этого дня и началось. Стал он приезжать чуть не каждый день. Платит и не торгуется. И даже цветы привозил ей. Дурак дураком. Мне это сразу не понравилось.
– Что ты, идиотка, придумала? Он консульский работник. Или ты думаешь, он женится на тебе? Дурой-то не будь!
Какой там! И слушать не хочет. Ты ей слово, она тебе десять. И всё матом. Я плюнул, и ничего больше ей говорить не стал. И, наконец, дождались. Только Тамарка с американцем своим номер заняла, подъезжают оперативники из Комитета. И сразу ко мне.
– Кто у тебя в номере?
– Какой-то иностранец.
– Это нам известно. А с ним кто?
– Ну, девка.
– Чья девка-то?
Я мялся, мялся, а что скажешь?
– Моя, – говорю.
– Вызывай её сюда, но только так, чтоб она не поняла, зачем. Живей разворачивайся.
Я позвонил и говорю:
– Тамарочка, детонька, подымись на минуту, прими товар. Машина приехала с пивом, а буфетчица ушла, и чёрт её знает где, никого нет, а я занят, и сейчас сам не могу принимать.
Она выскочила в халатике. Они её сразу в мой кабинет. Не стали даже личность устанавливать, спешат. Старший их говорит, прямо при мне, не стесняется:
– Вот клофелин. Одну таблетку ему на стопку коньяку. А как уснёт, у него коричневый дипломат. Дипломат простой, замок без набора. В дипломате – такая есть небольшая кожаная папка с медной застёжкой, вроде кнопочки. Ты застёжку осторожно открой и принеси сюда бумаги, которые там увидишь. А потом так же обратно эти бумаги положишь, и всё закрой, как было. Проснётся, скажешь ему мол, что это с тобой? Он человек неопытный. Ничего не поймёт.
Я тоже встрял, старый дурак:
– Давай, Тамара. Задание партийное. Нужно аккуратно выполнять.
А она как врежет мне по морде. Это за всё, за моё доброе, хорошее:
– Смотрите, гады. Я сейчас ему вас заложу. И тебя тоже, крыса, проклятая!
Вот, Миша, как приходится работать иногда. Как сапёры – ошибаемся один раз. Я после это случая еле от Комитета откупился. Дачу продал.
– А эта Тамара? – спросил я.
– Ну, выгнал я её, конечно. Потом, знаю, её дёргали в КГБ. Потом уехала она из Москвы. А недавно, это уж лет пять прошло после того случая – заявляется. Ужас, на кого похожа. Ей чуть за тридцать, а дать можно все пятьдесят. И кашляет, и сутулится. Работала, говорит, последние два года на мясокомбинате обвальщицей.
– Николаич, нигде пристроиться не могу. Я прописку ж потеряла.
– Так чего ты хочешь?
– Дай работы какой-нибудь. Я б в разряде неплохо работала.
– Ну, уж вы меня извините. Я её наладил к чёртовой матери…
* * *
То, что вы сейчас прочли, совершенно документально, в отличие от того, что я прежде здесь помещал. Мне очень хотелось обратиться к тем, кто так охотно бросает камень в блудницу. Осторожно, вы можете попасть в совершенно невинного человека. Мы живём в такой стране и в такое время, когда никто не должен гордиться своей нравственной чистотой. Сохранить эту чистоту можно только за чей-то счёт. Потому что мы никогда не вступаемся за того, кто на наших глазах бьётся в петле.
Прочли мои домашние, и очень меня ругают. Всё ж я это отсылаю в ЖЖ. Мне об этом надо было выговориться.
* * *
Это очень коротко. Просто я с работы и спать хочу. Но вот, что-то из головы не выходит.
У нас с мамой были в Беломорске друзья…
В 1972–74 гг. мама заведовала Лабораторией Белого моря ПИНРО. Лаборатория эта помещалась в огромном рубленом доме, где давным-давно, когда Беломорск ещё был посёлком Сорокой, помещалось какое-то учреждение, может сельсовет. Мама его отстроила. Там были отдельные комнаты для холостых сотрудников. Даже ванная комната была. И был в «зале» камин, вернее, помесь русской печи и камина, так получилось у местного печника. В этой лаборатории всегда толпились какие-то люди. К моей матери, всегда люди тянулись. Она была как бы в центе огромного круга людей, у всех на виду. В этом кругу люди, конечно, разные попадались – были хорошие, а были и очень даже нехорошие. Но что такое хороший и нехороший человек? Мать никогда не отворачивалась ни от кого. Она никого не боялась и ни к кому не относилась презрительно. Её за это многие осуждали. Позднее, когда для неё началась полоса тяжких поражений, и полосой этой печально и одиноко заканчивалась её жизнь, ей часто говорили: «Вот видишь, тебе ж говорили…». Но я всегда этому качеству, привлекать к себе людей, завидовал и восхищался ей.
Однажды пришёл в лабораторию древний, согнутый в дугу, очень худой, измождённый старик. И попросил выписать немного досок для ремонта карбаса. Заплатить ему было, конечно, нечем. Он сказал:
– Ида, рыбой верну. Никто, как я, сёмгу не солит. У меня посол поморский, настоящий…, – я здесь не стану и пытаться передать на мёртвой бумаге говор поморов. Он необыкновенно выразителен, с певучей изысканной интонацией, но, кажется, невозможно его изобразить так вот, искусственно.
Этот человек жил вдвоём с женой в огромной избе, где когда-то, как они говорили, помещалась семья из пятнадцати человек. Никого не осталось. Кто ещё был жив, давно уехал и затерялся. Только сын, сам уже старик, писал иногда из Ленинграда короткие письма. Старика звали Еремей, старуху Мария. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Это точно они. Еремей был беззаветный браконьер, а тётя Маша всегда пряла и шерсть эту продавала. У мамы долго потом, в Москве уже, хранилось несколько мотков этой пряжи.
Жили они, по видимости, очень уныло. Старик, бывало, сидит на бревне, а старуха рядом со своей прялкой, и она всё пилит его, пилит, пилит, он всё дымит, дымит махоркой и согласно кивает головой. Что за жизнь?
Все менялось только, когда он в море уходил. Он хмуро возился в карбасе, проверял двигатель, укладывал нехитрое промвооружение своё, а она с робким выражением лица, с поджатыми губами, терпеливо ждала с узелком в руках, когда ж он на неё внимание обратит? В узелке было что-то из еды и фляжка самогонки. И вот уж он оттолкнулся веслом от камня, его сносит течением, а она что-то говорит, а он сердито и важно хмурится, не отвечает и машет рукой: Бабьи бредни!
А придёт он с лова, опять всё то же.
И вот, как-то раз, в лаборатории появилась тётя Маша. И она пригласила мать и меня в гости.
– Ты, Григорьевна, не откажи. Сегодня, слышь, шестьдесят пять лет, как наша свадьба… была. Не кругло, конечное дело, да мы рассудили, что до семи десятков мы уж не доживём. Некого пригласить. Люди чужие стали, будто и не соседи. А вы люди, хотя и посторонние, зато безобидные, – так она нас с мамой характеризовала.
Вечером мы пришли к ним. Дом, в котором они жили, сильно покосился, прогнил. Подымались мы в горницу с опаской, доски трещат и всё ходит ходуном. Лампочка тусклая осветила белую, только что из-под утюга, скатерть с простым рыбацким угощением. Кроме рыбы в самых разных видах, ничего не было, разве что миска с солёными грибами и всевозможная ягода – морошка, брусника, голубица. Дед на охоту давно уж не ходил. Это ему было трудней, чем в море. Бутыль чистейшей самогонки.
Мы все выпили по стопке, по другой. Разговор шёл неторопливый и мирный. Не сумею я здесь передать его. Он был вроде не о чём, о погоде, о путине, сколько заплатить за полушубок, кто умеет хорошо валенки подшивать. Дед стал заметно хмелеть.
– Григорьева, это само… вот я сейчас тебе песню заведу, послушаешь.
– Ой, андели (ангелы)! – схватилась тётя Маша – ну понесло дурака поперёк фарватера. Не лезь ты, Ерёма, со своей проклятой машинкой. Вы кушайте, кушайте, не слушайте старого дурака.
Но старик упрямо принёс старый магнитофон «Дзинтарс», похожий на небольшую тумбочку, и поставил кассету.
– Машка! Молчи, дура, и не мельтеши. Григорьевна, ты послушай. Вот песня тут сейчас…
Мы слушали песню. Ничего в ней не было особенного, что-то вроде романса пополам с танго. Оскар Строк – не Оскар Строк.
– Вот сейчас, – Еремей опустил белую голову на жилистый чёрный свой кулак, – Ты послушай, послушай…
А дальше был припев. Одна там была строка, которая выпевалась, действительно, очень душевно:
…Два синих ока! – он остановил машину и отмотал назад. И снова:…Два синих ока!
Старики смотрели друг на друга. Еремей покрыл голову тёти Маши огромной своей лапой и глядел ей в глаза:…Два синих ока!
– Маруська, а Маруська! Ма-а-ашка моя!
– Да ну тебя, бесстыдник, – тающим шепотом проговорила тётя Маша. – Людей-то культурных постесняйся, кобель ты старый.
Он зажмурился и закрыл лицо ладонью. Потом отнял мокрую ладонь и посмотрел на нас.
– Вы глядите – чудо! Машка, Машенька, ну глянь, что ты рыло-то воротишь, глянь, Марусенька моя.
И вот тётя Маша посмотрела на нас. В её синих, бездонных и прозрачных, как морская вода, совсем юных глазах – чистые детские слёзы.
…Два синих ока!
* * *
В 77 году я устроился рабочим по уборке территории на Динамовские корты «Петровка 26». Это очень хорошие корты, одни из лучших в Москве, а зимой там заливали прекрасный каток. Вероятно, и сейчас там что-то подобное сохранилось.
Тогда этот маленький стадион был очень престижным местом. Нелегко было достать туда абонемент. В теннис там играли жёны, дети, племянники, любовницы и просто хорошие знакомые всевозможных значительных чиновников с одной стороны и авторитетных уголовников с другой. И сами хозяева туда изредка заглядывали. Именно в таких местах, в уюте и спасительной тени, возникали связи, на основе которых позднее сложилась советская мафия – союз партийно-советской номенклатуры и верхушки преступного мира. Я это так понимаю. Может, я ошибаюсь.
Я, скажем, играю в теннис с одним человеком, про которого мне известно, что он майор КГБ. Его партнёр не пришёл, и он предложил за червонец поиграть с ним часок. Хороший компанейский парень, очень весёлый.
– А потом раздавим бутылочку коньяку, французского, выдержанного. Ты, брат, такого и на язык не брал.
Он играет американской ракеткой «Чемпион». Я попросил ненадолго ракетку. Великолепная штука.
– Интересно, а сколько стоит такая игрушка?
– Мне обошлась в сто пятьдесят долларов. – Эту цифру я, конечно, условно называю. Не помню уже действительной цены, только помню, что дорого.