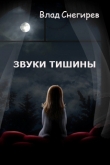Текст книги "Я – Беглый (СИ)"
Автор книги: Михаил Пробатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Меценат
У меня есть один знакомый олигарх. Ну, не олигарх, немного не дотягивает, а, вообще-то, кто его знает? Я в его дела не суюсь. Знаю, стоит несколько миллионов. Именно – несколько. Более точная цифра мне не известна. Оно может и к лучшему. Таких вещей лучше не знать. Это мы с ним как-то сидели и пили. И уж когда градус достиг достаточной высоты для идиотских вопросов:
– Слушай, Витька, а сколько у тебя денег, если не секрет?
– Почему ж не секрет? Конечно, секрет. Несколько миллионов. Тебе говорю, как старому другу, под большим секретом.
– Долларов?
– А ты думал?
– Действительно.
Откуда у него это всё, – врать не стану. Ну, это что-то с компьютерами. Да если бы он два часа пытался мне это растолковать, я всё равно б не понял ничего. Живёт то в Германии. И в Израиле у него есть дом. Временами в России. Временами в Штатах. А то в Европе. В Израиле я не повидался с ним. Он был в отъезде. А в Москве провёл с ним два вечера. Сперва я был у него дома. Он женат на чудесной женщине, она гораздо его моложе, в дочки годится, и родила ему двоих малышей. Старшая девочка трёх лет и мальчику годик. Это ж надо так повезло старому дураку. И такая хлопотливая, добрая, сердечная хозяйка. Закуска – просто пальчики оближешь:
– Вы кушайте, кушайте, что ж вы совсем не кушаете? Сейчас будет жаркое…
Только не говорите мне, что дело тут в его миллионах. Уж когда она так на него смотрит, на старое это пугало, будто он нерукотворная икона, так не в миллионах дело.
А в другой раз он мне говорит:
– Миш, приезжай тут в одно место, я тебя с женщиной познакомлю. Понимаешь, такая женщина…, – Витька этот, вообще, с молодых ещё лет был порядочный бабник. Так я и не удивился.
– Понимаю, чего не понять.
– Дурак ты. Она, понимаешь, пианистка, ну и… вообще. Хочу тебя познакомить, как друга.
Я его так понял: похвалиться хочет. Думаю, не иначе, Клаудия Шифер, или как там её? Квартирку он ей купил, во-первых, в Центре, да и побольше, пошикарней, чем для семьи. Хорош гусь. Да ладно, это дело не моё. Значит, мы выпили немного, она закуривает, ногу на ногу кладёт, чтоб я её коленками любовался. А такие острые коленки для кикбоксинга совершенно незаменимое дело. Если резко так, и с правильного короткого разворота дать такой коленкой в бедро – считай человек на всю жизнь хромой. И начинает она тягомотину про постмодернизм. Таких фамилий наговорила, что мне и не выговорить.
Я на неё гляжу и думаю. Ну что ж мы за люди, мужики? На какую ерунду покупаемся. Там уж этих подтяжек на роже, каждый год что ль она их делает? Беда. А Витьке всё не терпится:
– Лариса, да ты сыграй. Ну, сыграй чего-нибудь на пианино.
– Виктор, зачем тебе это надо? Вы, ребята уже выпили. Лучше я включу телевизор.
Может и правда, я думаю, посмотрели бы что-нибудь облегчённое. У меня от премудростей современного литературоведения уже и скулы водит. А тут ещё фортепьянная музыка. Для меня это вроде лошадиной дозы феназепама. Помру, ей-Богу помру. Но я не помер. Ладно. Зашуршала она своим парижским платьем и прошла к инструменту. И говорит:
– Эту пьесу небольшую, я написала для Витеньки, я её не исполняю в концертах. Он, с моей точки зрения, очень суетную жизнь ведёт. И вот я, в меру своего понимания… Пьеса называется «Кружение» – а наш Витенька от гордости раздулся, как пузырь.
– Мишка, ты, знаешь что? – закури-ка сигару. Это надо слушать под хороший табак. И давай-ка немного коньячку. Коньячок у меня настоящий. Прямо из той самой провинции Коньяк. И выдержанный.
И мы с ним выпили и закурили сигары. Запах, действительно, хороший, но крепковато с непривычки. Ну, думаю, хоть не усну на крайний случай.
Стала играть она и я так, что-то знаете, задумался. Музыка играет, а я думаю. Зачем я, думаю, жизнь свою поломал? Вот была хорошая баба, я потерял её. Другую ведь на бегах не выиграешь. Жить осталось недолго, а к чему жил? Что такого здесь натворил? Так, пурга одна свистит в ушах. Друга одного вспомнил – его убили в Газе. Ещё был один – его в Осетии случайно зацепили, и до госпиталя не довезли.
И что я делать буду? Поеду сейчас к себе? А где мои дети? Куда-то все разъехались. Где-то, говорят и внуки есть. И даже один внук в Румынии сидит тюрьме. Послезавтра мне ехать в Португалию. Вернусь? Не вернусь? Такая разборка там, что лучше даже и не думать. А музыка эта мне просто душу надрывает. И мне, понимаешь, почудилось, будто мать покойная на ухо шепчет:
– Мишенька, да ничего, ничего. Всё до свадьбы заживёт. Вот мы сейчас Мишутке слёзы вытрем… всё и пройдёт. Мишутка. Мишка-медвежонок…, – это мать мне, бывало, так всегда…
Тут меня чего-то совсем развезло.
– Ну, ты, чего? Вроде и выпили немного.
А Лариса эта подошла ко мне с платком и, представляешь? – слёзы мне вытирает.
– Спасибо вам, Михаил.
– Мне-то за что?
– А ведь для артиста дороже слёз ничего нет.
Да, интеллигенция! Особенно, если настоящая. Приморили их, конечно, а всё ж они тоже люди. Надо с ними поаккуратней.
* * *
Под Рождество, рано утром, ко мне подошёл один нищий. Я его помню ещё с Ваганькова. Бывают же такие люди: Вот, как ему двадцать лет тому назад было под шестьдесят, точно так же и сейчас. А встретил я его в магазине.
– Миша ты случаем не выпить намылился?
– Не. Я за продуктами.
– Вот, зараза, и выпить не с кем.
– Уже насобирал? Время то вроде ещё…
– Да я женился. Больше не собираю. Зачем? Ну, что ты не выкроишь полчаса? Выпьем, я тебе расскажу. И ты расскажи. Мне звонили, ты весной на Ваганькове кони чуть не двинул.
– Слушай, я на улице пить не стану. Я и так кашляю всё время.
– Вот, ты чудила! Зачем на улице? У моей бабы выпьем, она ж здесь директор.
Смотрю я, а дядя Толя что-то совсем на себя не похож. Одет, как молодой депутат от партии власти. И даже брюхо отрастил, и бороду стал так аккуратно подстригать, волосок к волоску, и всё время в руке крутит связку ключей с брелоками. Зубы вставил. В общем, человек вышел на верный путь. Только сколько ж ему лет? Или он бессмертный?
– Она директор чего? Это которая?
– Люська моя, всё та же. Директор магазина этого. Мы ж теперь поженились. И квартиру заимели. А ты как думал? Айда. Ну, чего ты в своих червонцах копаешься? Пошли, давай. Я при ней вроде адъютанта. Делать-то мне здесь нечего.
Когда-то этот дядя Толя со своей Люськой красили оградки на кладбище. И кто-то надоумил их, чтоб они разделились. Люська встала у церкви и не так собирала, как ловила клиентов на покраску. А он красил. А потом поменяются. И дело у них пошло. Тогда у Люськи муж был другой. Этот муж её нигде не работал, только пил и потихоньку умирал. Он, вообще, на кладбище не появлялся. Его там сильно за неё не любили. Он её бил. Толик иногда вступался, но без толку. У того голова была деревянная. Толик уйдёт – он Люську ещё хуже отметелит. Беда.
– Людмила Павловна! – торжественно провозгласил Толик. – К вам тут представитель поставщика. Зайдите в кабинет на минуточку.
– О! – закричала Люська, – Лысый пришёл. А я знала, что здесь недалеко живёшь. Думаю, загордился и не заходит.
Она живо заперла дверь, убрала со стола бумаги и выставила полно всяких деликатесов и напитков.
– И что, Люсь, действительно, твой магазин?
– Да, какой там! Одного молдаванина. Но он ничего себе мужик. Живёт всё время в Кишинёве. Я хороший навар даю, так ему чего?
И так вот мы выпили, закусили и сидели, вспоминали старые времена.
– Если б я руку не сломал, никогда бы просить не стал. Не повезло. Когда этот камень только тронулся в мою сторону, думаю, удержу, а он скользнул по подставке и пошёл весь прямо на меня, – Толик рассказывает в тысячный раз.
– А помнишь, зима была в 79?
– Как забудешь? Пальцы на ногах я отморозил.
– Да мы и на оградках неплохо имели. Бывало, по шесть оградок в день красили, – Люська встревает.
Ещё выпили. Стали они, конечно, ругаться. Но так, не слишком. Не видно, чтобы они особенно грызлись в жизни. Больше в шутку. Особенно Люська напирала на некоторые недостатки, которых у Толика прежде не было, и они носили по его версии возрастной характер.
– Я ж говорю, давай купим виагру, так ты жмёшься. А дорого – тогда не жалуйся.
– А когда Галка идёт на склад, ты сразу за ней – и безо всякой виагры. Так бы и треснула по башке!
Потом они загрустили.
– Детей нет. Разъехались все, кто куда. Были б, Миша у нас дети, теперь уж внуки… А то без детей и на дачу не охота ехать. Иногда навестят. А в Москве, вообще, никого. Зачем тогда это всё?
– Слышь, Лысый, а тут ещё новость. Люська теперь боговерующая. В церковь ходит каждое Воскресение. Не знаю, что она там делает.
– Да, – Люська говорит. – Не понятно там. Красиво, конечно. А всё сходишь, не так скучно. А может ещё и, правда, что-то там есть? Ты-то как думаешь?
– Очень может быть.
– А как здоровье?
– Да что здоровье…
Уж я не помню, кто-то из них спросил меня:
– Ты вот как-то живёшь вроде бестолково, но…
– Что?
– Да ты, будто чего-то хочешь, чего-то у тебя не клеится, стремишься ты, к чему-то, хер тебя знает… Конечно, так время и идёт. А у нас цели нет в жизни. Да! Цель в жизни это, конечно… Денег у тебя никогда нет, а… А ты всё вроде ждёшь чего-то что ли.
Я молчал. Чего это я такого жду? Да ничего. Мне нечего сказать было этим мученикам жизненного смысла. Кто им сказал, что жизнь имеет смысл? Кто их так обманул?
– Люсь, а что это за цветы у тебя такие красивые? Здорово.
– Это один из Мексики мне подарил. Я ему на всю свадьбу поставила продуктов и напитков, он очень доволен был и выписал из Мексики специально. Цветут круглый год. Вот они как называются… У меня где-то записано было. Толян, как они называются?
– А хрен их знает, – сказал Толян, разливая по стопкам.
– От них эти… саженцы я уже два раза продавала. По триста баксов улетают, как не было.
Всё же, что у меня такое есть, чего у них-то нет? Я знаю, что старость у меня вернее всего окажется очень неблагополучной. Но я ещё думаю о некоторых явлениях, в существование которых не верят эти несчастные люди. Кому-то это даётся даром, а кто-то ни за какие труды этого не может получить. И какая-то в этом есть жестокая несправедливость.
Не будучи людьми жадными, не могут они наслаждаться материальным достатком, который дался им каторжным трудом. Никакая виагра любви им не даст, а настоящей любви им не досталось почему-то. Откуда эта пустота в человеческой судьбе? От этой пустоты и не сбежишь-то никуда.
* * *
Я должен был встретиться у метро с одним человеком, а он опоздал на целый час. Он меня предупредил заранее, что может задержаться. И я терпеливо ждал его. Мне было не к спеху.
У метро «Чистые Пруды» мимо меня бежали разные люди, и мне казалось, что они один за другим бегут – что-то вроде френдленты. Кого там только не было! Но я, вообще-то, стараюсь наблюдать за людьми, соотнося их с самим собой. Ведь если б меня там не стояло, то и никого б там не было. И говорить было б не о чем. Я этот давно устаревший философский парадокс усвоил с детства, он мне понравился, и я часто его вспоминаю к месту и не к месту. Выходит, я не столько людей разглядывал, сколько любовался самим собой.
К сожалению, ничего слишком уж привлекательного я не замечал первое время. Много стариков, много пьяных, праздники же, много каких-то личностей, не вполне понятного происхождения, у многих на лицах напряжённое выражение готовности дать отпор кому-то неведомому (это советское), многие имеют дурную привычку время от времени что-то сказать себе под нос, как правило, не очень доброе, и чаще всего – это простое русское ругательство.
Рядом со мной стояли люди в ожидании кого-то или чего-то, как и я. И они все чем-то на меня походили, точнее наверное, я – на них. Просто я, как говорят, был одним из них. Несколько раз ко мне кто-то обращался с разной ерундой. И я отмахивался. Один раз дал два рубля совершенно раздавленному похмельем человеку и злобно промолчал на замечание пожилой дамы о том, что на этом жеребце пахать надо, а не милостыню ему подавать. Она знает! Кому-то я дал закурить. Кому-то объяснил, где тут улица Мясницкая. Мне совсем не было скучно.
И вдруг! Ну что уж вы подумали? Автоматная очередь? Ничего подобного, но вроде того. Останавливается BMB, и выходит очень красивая, молодая женщина. Она некоторое время, улыбаясь, болтала с водителем, потом дверца мягко захлопнулась, и женщина эта, не торопясь, пошла прямо ко мне. Идёт, понимаете, ко мне. Именно ко мне. И смотрела на меня. И когда подошла, обратилась ко мне. Ей было лет 25 или 30 – самые лучшие годы. Не смотря на то, что слегка морозило, шубка на ней была распахнута, ей легко дышалось, и она была молода и сильна каждым своим движением, и свободна взглядом светлых глаз и гордо поднятой головой. И она спросила меня:
– Что, он тебя прислал? Что-то я тебя не помню. Ну… Ну, давай, давай, говори, что там опять стряслось?
– Никто меня не присылал, – сказал я. – Простите. Вы ошиблись.
Ничего мне не ответив на это, она стала кого-то искать в толпе. Никого не нашла и посмотрела на часы. И увидела на часах, вероятно, что-то очень неприятное. Она покопалась в сумочке, вынула оттуда мобильник и набрала номер. Судя по выражению лица, автоответчик не сообщил её ничего утешительного. И вот эта замечательная женщина стояла среди нас, ожидая чего-то. И многие смотрели на неё. Многие, наверное, как и я хотели бы отгадать, чего или кого она ждёт. Ждала.
Потом она снова стала копаться в сумочке, но чего хотела, там не нашла. И снова стала озираться. Время шло. Уже минут двадцать пролетело. Наконец, она снова обратилась ко мне:
– Вы меня простите, пожалуйста, у вас не найдётся… закурить?
А я, как на грех, курю LM, красный. Это сигареты крепкие, и женщины курят их редко. Предложил я ей. Делать-то ей было нечего, не спрашивать же ещё кого-то. И она закурила мои и закашлялась. Тут просигналил её мобильник. Она бросила сигарету и отозвалась:
– Блин, ну что такое опять? Но ты мог бы кого-нибудь прислать, предупредить. Мобильник твой всегда заблокирован… Всегда! Ты это нарочно делаешь. Ну, ладно. Так ты выезжаешь? Когда ты будешь?
Потом она, услышав что-то такое, что, вероятно, оскорбило её, сказала:
– А, пробки? Ладно. Ещё целый час я ждать тебя здесь не стану. А вечером сегодня тебе в жопу забьют пробку. Можешь не сомневаться… Наглая ты скотина. Я сказала, ждать не буду! – закричала она высоким, звонким голосом, так что стали оборачиваться. – Можешь не появляться. Я беру тачку и уезжаю домой.
Она положила телефон в сумочку и собиралась, кажется, поступить именно так, как обещала. Но вместо этого попросила у меня ещё раз закурить. Она кашляла и курила. А время шло. Снова просигналил мобильник в сумочке.
– Чего тебе? Ну… Где я, ты спрашиваешь? – неожиданно жалобно сказала она. – Здесь. Когда ты будешь? Ты подъезжаешь? Правда? Где?
Я уже видел машину, которую она ждала. Я просто догадался, что она ждала именно эту машину, потому что только к таким красавицам приезжают на таких машинах. Я затруднюсь, правда, определить модель этого автомобиля. Он просто сиял, как новенький пятак. Из этого чуда техники с трудом вылез человек огромного роста с сонным выражением лица. Он жевал резинку. И эта женщина! Почему эта женщина закричала ему:
– Лёня! Лёник! Ну, ты меня прости, милый. Я просто ждать уже не могла. Никак не могла. Я тут чуть с ума не сошла. И у меня даже сигарет не было. Я попросила у какого-то тут…, – она оглянулась, не нашла меня взглядом и тут же про меня забыла. – Ты сказал в четыре…, а сейчас уже… Лёничка, милый, ну посмотри на меня. Ну, скажи теперь, куда мы с тобой поедем?
Почему? Что это с ней случилось?
– Да поедем, куда хочешь. Какая разница? – сказал он и потрепал её по щеке. – Застёгивай шубу-то, простынешь. Ныряй в машину. Сейчас что-нибудь придумаем. Только нервы не трепи, ладно?
Так это, что такое всё-таки? Немного поразмыслив, я вспомнил, что подобные явления случаются и даже нередко с мужчинами, как и с женщинами.
У царя олимпийских богов Зевса есть свирепая дочь Афродита. Сама в любви была она несчастна однажды и с тех пор не любит никого и ни к кому не испытывает жалости. Беда, на кого обратиться ясный и холодный взор её глаз, бездонно-синих, будто море из которого она некогда вышла.
* * *
Мне всё время вспоминается Израиль. И вот одна история в связи с этим вспомнилась.
Эта история начинается точно так же или почти так же, как миллионы историй, сложившихся в результате Второй Мировой Войны. И вам придётся прочесть это начало. Конечно, это немного скучно. Ведь если, несомненно, достойна внимания просвещённого читателя «История, которой нет конца», что нам поведал некогда Энде, то вряд ли кому захочется прочесть историю, у которой нет начала. Как тут быть? Наберитесь немного терпения. Иного выхода я просто не вижу.
В марте 1946 года, в Воскресение, таким морозным и метельным днём, когда от сырой стужи стынет сердце и прохожие, поднимая воротники и торопливо проходя оледенелыми тротуарами, не глядят друг другу в лица, будто опасаясь увидеть что-то очень скверное, в Москве по улице Сретенке шёл человек. В тот год таких людей, было много в городе. Вся страна была ими полна. В офицерской шинели со следами споротых погон, разбитых солдатских сапогах и ушанке, как и шинель, сохранившей ещё свежий след снятой красной звёздочки, он топал по направлению к Сухаревке бодрым шагом с резкой отмашкой рук, характерной для строевого военного, и высоко поднятой головой, не глядя по сторонам. Хотя было ему не больше тридцати лет с небольшим, высокий и широкоплечий, он, однако, выглядел больным. Бледный, очень исхудавший, через каждые несколько десятков шагов, тяжело закашлявшись, сбивался с ноги. И всё же решительное выражение лица и твёрдый, строгий взгляд придавали ему вид уверенности и власти.
У кинотеатра «Уран» стояла очередь на фильм «Леди Гамильтон», и женщина продавала горячие пирожки. Он, поколебавшись, купил один, не спрашивая с какой начинкой. Пирожок этот он проглотил мгновенно, но трогаться дальше не спешил.
– Что это, один пирожок для такого мужика здоровенного? Бери ещё.
– Что так закуталась? – одни глаза.
– Потанцуй здесь с самого утра, так и валенок на голову наденешь, – с весёлым отчаянием отозвалась торговка. – А что, глаза-то, не понравились?
– Понравились. Но как-то отогреваться всё ж надо.
– А кто отогреет?
– Сейчас у меня дело тут, на Мещанской. А часа через два освобожусь, и почему б не согреться?
Белозубо, совсем по-молодому улыбаясь, женщина открыла жгучему ветру и незнакомому покупателю круглое, румяное лицо бедовой обитательницы опасных лабиринтов великого мегаполиса:
– Через два часа меня уж здесь не будет. Пирожки холодные. Без толку только морозиться.
Офицер, откинув полу шинели, достал большие серебряные карманные часы с обрывком цепочки, к которой был привязан простой ремешок. С протяжным мелодичным звоном крышка отскочила, и часы сыграли «Ах, мой милый Августин».
– Здесь я буду ровно через час, сорок пять. Раньше не успею. Охота есть – подожди. Только учти: отогреваться будем спиртом. Потому что после контузии я мужик плохой, а точнее вовсе никакой.
На эти слова, сказанные с горькой усмешкой и дрожью, сдержанной мучительным усилием, она совсем не обратила внимания, только глянула на него, неясно улыбаясь, будто не поверила.
– Трофейные? – спросила она о часах.
– Именные.
– Дай, погляжу.
На крышке часов была причудливая монограмма из каких-то нерусских букв, пониже немудрёная гравировка, а вернее просто нацарапано было стальной иглой: «Гвардии капитану Мирскому за геройское командование батальоном при форсировании реки Днестра. 1944 год».
– Комдив вручал, – большим пальцем он указал себе за спину, где был туго набитый сидор. – Есть чем согреться. Хочешь – подожди меня, – повторил он. – Скорей пойду, скорей вернусь. Мужа-то нет?
– Не, откуда? – радостно сообщила женщина.
– Убили?
– Ага. В сорок третьем.
– На каком фронте?
– А кто его знает? Кажись, был на Втором Украинском.
– Мы с ним вроде земляки тогда, – почему-то это обстоятельство обрадовало их обоих.
Он пересёк Сухаревку и по пути несколько раз оглянулся. Пирожница смотрела ему вслед. Не доходя площади Рижского вокзала, он вошёл в круглую просторную арку, пересёк двор и вошёл в подъезд. Лифт не работал. Он медленно, нехотя, долго подымался по лестнице на четвёртый этаж и остановился у двери, аккуратно обитой коричневой кожей. Эта обивка была новая и ему незнакома, он нерешительно потрогал её рукой. Потом вытащил записку, заткнутую за почтовый ящик, и развернул её. Торопливо было написано: «Серёженька, милый, я – на барахолку. Не жди меня, ешь картошку, на плите в кастрюле, я завернула в старый плед, а за окном селёдка, хлеб в буфете. Пей чай, сахару много. Твоего джема ещё целая банка. Я сэкономила для выходного. Целую. Люда». Эта записка не ему была адресована. Не ему предназначалась и картошка в кастрюле, завёрнутой в старый плед, который был новым, когда он покупал его своей жене, много лет тому назад, и не для него за окном была селёдка, и чай с сахаром не для него, и джем, и жена его, Люда, целовала вовсе не его. Он аккуратно сложил вчетверо тетрадочный в клеточку листок и затолкал его обратно за ящик, бережно стараясь не нарушить линии сгибов, чтоб неизвестный ему Серёженька не догадался ни о чём. Он совсем не обиделся на Серёженьку, потому что, тот, вернее всего, тоже был фронтовик – американский джем в то время демобилизованные везли из Германии – и сбежал по лестнице, испытывая одновременно и муки ревности, и облегчение от того, что прошлое миновало безвозвратно, и впереди неведомая свобода. Свобода эта не показалась ему слишком холодна, когда он вспомнил весёлую бабу, возможно, ещё ждавшую его на Сретенке, и тем же бодрым шагом, изредка останавливаясь, чтобы преодолеть мучительный сухой кашель, он пошёл обратно. Торговка всё так же сиротливо стояла у входа в кинотеатр. И она обрадовано помахала ему рукой, издалека увидев его высокую, прямую, но и складную, ловкую фигуру.
– Быстро ты вернулся.
– Дома не застал.
Она держала на сгибе левой руки большую, полупустую корзину с товаром, на которую была накинута для тепла стёганая телогрейка.
– Давай понесу. Куда идём-то?
– Да не тяжело. К подружке моей пойдём? Или к себе приглашаешь?
– А почему к подружке? Дома у тебя кто?
Она со вздохом помолчала и призналась:
– Да там мужик один сейчас. Тебе с ним лучше не встречаться он тебя убьёт, а может и меня.
Он придержал её, и они остановились.
– Слушай. Зовут меня Семён Михайлович Мирский. Майор запаса. Утром приехал. Месяц добирался из Берлина. Ночевать мне негде. Моё место дома уже занято. Убивали меня пять лет и не убили. Если тебе самой мужик этот не нужен, так я могу проводить его. Убивать не буду, а просто провожу, – Семён улыбнулся. – А может и убью. Как получится.
– А меня Фрося зовут, Ефросиния. Такой уж ты в себе уверенный? Человек тот не один. Это жиган, понимаешь?
– Он сейчас на квартире не один, или не один – вообще?
– Вообще – их тут целая Сретенка. Ну, и на квартире с ним может оказаться кто-нибудь, он редко один ходит. В большом авторитете. Учти, у них оружие всегда.
– Знаешь, Фрося, я воюю с сорокового года, как на финскую ушёл, и вот только что вернулся. Уже и забыл, как нормальные люди живут. Тебе, может, нужен этот человек? Тогда я не стану его трогать. А так… Оружие – это к человеку приставка. Если человек – дерьмо, так и оружие не поможет.
В то время жиганов в Москве очень боялись, и Фрося с восхищением смотрела на Семёна блестящими карими глазами.
– Вот именно, забыл, как живут. Нужен – не нужен он мне, а я ему нужна, а главное квартира моя. Они там встречаются. Урки, понимаешь?
– Понимаю. Теперь меня послушай. Я ранен был в сорок четвёртом. Как раз, только успел часы эти получить и к ним ещё орден Красной Звезды, это второй уже, – с гордостью говорил он. – Зацепило-то легко, а сильная была контузия. Я ж тебе говорю, а ты может не поняла? Как мужик я интереса для тебя не представляю.
Она продолжала смотреть на него, и выражение глаз её постепенно принимало какое-то странное выражение.
– Всё будет хорошо. Я знаю, – сказала она. – Что плохого было – пройдёт, а хорошее воротится.
– Ну вот. А ты откуда знаешь?
– Сёма, ты только не пугайся. Я колдую.
Семён засмеялся и закашлялся. Они тем временем шли по Сретенке в сторону Лубянки и, не доходя кинотеатра «Хроника», свернули в переулок.
– Зря смеёшься. Наколдую. Я могу.
– Наколдуй. Я не возражаю.
Они вошли во двор, узкий, длинный, заваленный мусором и снегом, безлюдный и серый. Тёмные окна многоэтажных домов недобро смотрели на них со всех сторон.
– Сёма, теперь уж они знают, что я не одна пришла, потому что в окно всегда следят, и встретят нас прямо в прихожей.
– Вряд ли. Встретят, где им покажется, что я не ожидаю. Ты, Фрося, спокойно проходи вперёд, на кухню что ли. Молчком проходи, и знакомить нас не надо. Мы с твоими дружками сами познакомимся, – сказал Семён.
Действительно, когда Фрося открыла сильно облупленную и много раз чиненую дверь, в прихожей никого не оказалось. Семён снял шинель, аккуратно повесил её на вешалку, где уже висели несколько пальто. После этого он как-то совсем незаметно оказался в ванной и через минуту вышел оттуда. В руке у него была финка с красивой наборной рукоятью.
– Э, есть тут кто живой? Выходи. Человеку нужно помочь, а то он что-то себя почувствовал плохо.
В прихожую из комнаты появился молодой парень, который растерянно спросил:
– А где он?
– Где он может быть? В ванной, конечно. Вы когда устраиваете засаду, старайтесь, чтоб там никто не сопел, как бегемот. Я даже испугался. Думаю, может правда. Купила Фрося бегемота в зоопарке и в ванной держит его.
Тогда из комнаты послышался низкий и хриплый голос:
– Слышь, ты, суета! Гостя проводи к столу, а потом посмотри, как там Кузнец. Может он уже готов? – за этими словами засмеялись сразу несколько человек.
Семён вошёл в комнату, где за столом, уставленным бутылками и закуской сидели впятером урки. Их легко узнавали в те времена по одежде и даже манере поведения и говору. Он спокойно подошёл и положил на стол финку.
– Здравствуйте. Разрешите присесть? Целый день хожу, ноги гудят.
– Садись, рассказывай. Выпей сперва с мороза. Закуси.
– Благодарю, – он налил себе стопку водки, проглотил её и подцепил первой попавшейся грязной вилкой кусок селёдки. – А нож-то, хотя и сделан хорошо, но как оружие – негодный. Это ж не финский нож, ребята.
– Как не финский? Разве ж это не финка? – с интересом спросил его пожилой человек, вероятно, тот, что позвал его в комнату.
– У них ножи были короче и шире. Воткнёт его в левый бок и повернет слегка – всё. Никакая операция не поможет. И, вообще, нож очень сложное оружие, с любым холодным оружием трудно управляться. Учиться надо.
За столом весело переглядывались.
– Гляди, – сказал чернявый, кудрявый, цыганистый красавец, – да ты прямо профессор. А финны вам все ж врезали той зимой.
Офицер помолчал, прожёвывая кусок ветчины.
– Врезал нам тогда Маннергейм, потому что он был дельный офицер русской армии, а наше командование, да и весь наш корпус офицерский – это ж просто шпана. Вот, к концу сорок второго года кое-как научились воевать. А в сороковом что ж… Замерзали ведь люди просто безо всякого толку.
Пожилой с удивлением посмотрел ему в лицо:
– А за такие слова, мил человек, знаешь, что вашему брату бывает?
– Нашему…, а вашему брату, что – всё нипочём?
– Так мне-то нечего терять.
Семён закурил и сказал, усмехнувшись:
– Терять-то нечего и мне.
В этот разговор никто не вмешивался. Вообще, когда пожилой заговаривал, все умолкали. Парень притащил на себе из ванной громадного мужика, белого, как мел, и тихо усадил его за стол. Тот время от времени судорожно икал.
– А свободу не боишься потерять? Слушай, что ты ему сделал? Его кликуха у нас – Кузнец. Амбарный замок может со скоб сорвать одной рукой.
– Ничего с ним не случится. Просто я слегка пережал ему сонную артерию. Ты про свободу спросил. Где она, свобода?
– Вот мы здесь все, люди свободные.
– А по товарищам твоим не скажешь, чтоб они свободны были от тебя. Боятся тебя. Какая ж свобода? А ты сам? Свободный, точно так ли, а?
– Давай-ка выпьем ещё понемногу и поговорим о деле. Мы, видишь ли, сейчас уходим, до среды нас не будет, – он налил две стопки – себе и гостю, а остальные напряжённо молчали. – А в среду квартира эта нам будет нужна. Выпьем?
– Будем здоровы! – сказал Семён, и они выпили. – Ты уж не обижайся, друг, а квартиру придётся новую искать. Жить, похоже, я здесь буду, а такие соседи мне ни к чему, да и вам я не нужен.
Наступило молчание. Фрося ушла на кухню. Совсем было тихо.
– Да ведь это ж смертельное дело, – сказал один из бандитов. – Ты до сих пор-то живой, почему? Понравился нам. С тобой хотят по-людски. А не хочешь – не надо.
Майор Мирский внимательно выслушал его, а потом ударил длинным прямым ударом – через стол. И этот человек упал.
– Он готов, – сказал Мирский. – Удар такой. У него проломлена гайморова полость. Его вытащите, как вы умеете, и спрячете, где у вас принято, а потом похороните. Хотите – так хоть на помойке. Мне всё равно.
– Слушай, – сказал старший, – ты, я понимаю, рассчитываешь, что мы шума не захотим. А нам это ни к чему. Никто не придёт. Мусора сейчас робкие.
– Ещё кончить одного? На мой бы взгляд хватит и этого, – сказал майор.
Тогда молодой, цыганистый парень прыгнул и тут же упал ничком на стол. Столовая вилка вошла ему в шею с правой стороны так, что едва виден был круглый конец костяной ручки.
– Ох, вернёмся, – сказал старший. – Ты ж на всю Сретенку поднялся.
– Добро, возвращайтесь, – сказал Семён. – Кто кого. Только ты пойми. Я воюю с сорокового года, а вот сейчас впервые за себя дерусь, за свою будущую жизнь. Драться буду хорошо.
Через некоторое время, когда Фрося появилась в комнате, никого уже не было. Только Семён сидел за разгромленным столом, задумавшись о чём-то.
Удивительно, что дядя Семён и тётя Фрося живы до сих пор. Я с ними хорошо знаком. Им обоим больше ста лет. И живут они в городе Ашкелоне, в Израиле. Дядя Семён теперь велит звать себя Шимон. Он правда не стал верить в Бога, но строго соблюдает всю иудейскую религиозную традицию, так что ему в субботу и не позвонишь. И они почти совсем не болеют никогда. Я как-то заговорил б этом.
– Так я ж колдую, – сказала тётя Фрося. – Он когда пришёл ко мне, был заколдованный. Ну, по мужской части ничего не мог. Я его сразу расколдовала.
Они оба улыбались.
– А как?
– А вот так, – она крепко взяла старика за лицо смуглыми, почти чёрными от загара пальцами и посмотрела ему в лицо.