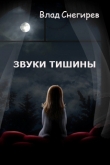Текст книги "Я – Беглый (СИ)"
Автор книги: Михаил Пробатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Тогда я заплакал. Мой отец, думая, что я испугался волны, сердито рявкнул на меня. Но человек с хриплым голосом, это был капитан, положил мне на голову тяжёлую руку и проговорил:
– Пожалел матросиков, пацан… Дай Бог тебе за это!
С тех пор я всегда старался уйти от социальной среды, которую с рождения определила мне судьба. Не только сам не хочу стоять на верхнем мостике, но всю жизнь не доверяю и стараюсь держаться подальше от людей, которые там стоят.
* * *
Приснилось мне: Еду я, еду
Навстречу постылой судьбе,
И тяжкие длятся обеды —
В трактире, в харчевне, в избе.
А снег то в лицо мне всё лепит,
То сыплет мне за воротник.
А степи? Что ж, степи, как степи,
И пьяный разбойник ямщик.
За мною не слышно погони —
Уж я безопасен врагу.
Храпят отощавшие кони,
Плутая в крещенском снегу.
И только недобрая слава
В буране бредёт за спиной.
Прощайте! Конечно, вы правы:
Что толку тащиться за мной?
И просто попал я в немилость
И еду в именье своё.
И просто мне это приснилось —
Чужое, былое житьё.
Как по белому свету топтал я траву -
Много старых дорог исходил.
Все дороги на свете приводят в Москву.
Я вернулся. Я в городе этом живу.
Все обиды ему я простил.
Я вернулся. Стою посредине двора,
И чужая галдит во дворе детвора.
И гляжу, этот двор мне совсем не знаком,
И подъезд закодирован хитрым замком.
Я вернулся туда, где любили меня,
Где когда-то я был молодым.
На закате морозного дымного дня
Подымусь по ступеням родным.
За Москвой за разгоне кричат поезда,
Над Москвой, будто зарево, реет беда,
А в Москве, по её переулкам кривым,
Свист двупалый уснуть не даёт постовым.
Чья-то девочка плачет, и милого ждёт,
И тоскует, и сдобную булку жуёт.
Где-то в снежной дали поджидает меня
Старый друг, у походного греясь огня.
Всё я спутал. Я снова куда-то иду,
И колышется город в морозном дыму.
И в тулупе овчинном сержант на ходу
Пригляделся к лицу моему…
* * *
Для меня Перестройка начиналась так. Моя старшая дочка, которая сейчас благополучно живёт во Франции, тогда совсем девочка, лет семнадцать ей было, на улице Горького познакомилась с одним знаменитым эстрадным певцом. Называть его имени я не хочу, потому что это – после драки кулаками махать. Просто она увидела, что стоит у бровки иномарка, и этот кумир стадионов поманил её пальцем. Она вернулась к утру, с вытаращенными глазами. Разумеется, там произошло нечто сверхъестественное, чего ни с кем никогда не бывало. Афинские ночи.
Было много крику, клятв, слёз, и все в доме хлопали дверьми. После этого началась телефонная эпопея. То есть, доченька моя целую неделю названивала этому человеку, а он отзывался, как автоответчик: «Сегодня я занят, позвони на днях, увидимся». Она перестала учиться, совершенно ничего не делала, только смотрела в одну точку. Что-то она, возможно, там и видела, но мне в таком случае не уместно было любопытствовать.
А надо сказать, что я тогда работал землекопом на Хованском кладбище. У меня была очень боевая бригада, и уже появились солнцевские, и были татарские ребята с Даниловки, и были цыгане из Малаховки, и были люберецкие, и были пресненские с Ваганькова, и все они были наши. И я считал, что в Москве мне бояться некого. И никого не боялся.
Я отнял у дочки номер телефона этого гада и тут же позвонил ему. Назвался.
– Очень приятно.
– Слушай, паренёк, – сказал я. – Конечно, никаких серьёзных намерений относительно моей дочери у тебя нет, я правильно понимаю?
– Вы совершенно правильно понимаете, – спокойно и с достоинством ответил он.
– Тогда, как тебя устраивает такой вариант: Мы встречаемся втроём. Ты в моём присутствии рассказываешь ей подробно, какая ты гнилая тварь, и из какой помойки ты к ней явился. Потом просишь у неё прощения за то, что тебе приходится поганить землю, по которой она ногами ходит – ты всё это дословно ей скажешь, понял?
– Чего ж тут не понять? Всё понял, – невозмутимо отвечал он. – Но меня этот вариант не утраивает. Я вас понимаю. Сочувствую. Но, к сожалению, помочь ничем вам не могу. Я очень занят. Процедура эта не деловая и может даже мне повредить в моей работе. Всего хорошего.
– Нет, браток, – сказал я. – Ты не учёл, что я хованский. Тебе руки отобьют. И не будешь ты играть больше на гитаре, а придётся коробочки клеить для фармакологии.
Некоторое время он молчал, а потом рассмеялся. Но он явно получил хорошее воспитание.
– Извините мне этот смех. Это от неожиданности. А знаете, – задушевно сказал он, – при моём образе жизни приходится, конечно, учитывать и подобный поворот событий. Вполне возможно, всё это так и случится, как вы предположили. Но, вернее всего, будет иначе. Более вероятно, что вы подумавши, как взрослый человек, а не как малое дитя, это требование своё снимете. Тогда всё будет в порядке. Но если вы откажетесь, то ваша девочка может неожиданно попасть под автомобиль. Или с ней какая иная беда приключится. И тоже самое относится к, другим вашим детям, вашей жене, вашей матери. Такой возможности вы не учитываете?
Я минуты две упражнялся в матерной ругани. По телефону – совершенно бесполезное занятие.
– Ну, ты что там заткнулся? – наконец, спросил я.
– Я слушаю, – юмористически заметил он. – Мне очень интересно.
Плюнул я и бросил трубку. Начиналась новая эпоха.
Вот прошло двадцать лет. Когда вспоминаю это дело, всё чаще мне на ум приходит: А я-то чем лучше был этого музыканта? И, вообще, кто я такой, чтоб теперь жаловаться на случившуюся социальную катастрофу? Я ж её и готовил. Правда, я был не один. Много нас было. Очень много. Вся страна. За исключением тех, кто надрывался на ЗИЛе, например. Если хочешь быть в могиле, поработай год на ЗИЛе. Это поговорка тогда была очень распространена, но смысл её, совершенно безысходный, как-то пролетал мимо моего сознания.
* * *
Мне приснилось, что я проснулся.
Неосторожным движением руки задел светильник, висевший над изголовьем, масло выплеснулось, огонь погас. Старый маркиз лежал в темноте, укрытый тяжёлой медвежьей полостью. Трудно было собраться с мыслями.
– Хэй, рыцарь! Огня!
Послышался звон шпор и мерное бряканье длинного меча о стальные поножи. И дверь распахнулась, вошёл человек с пылающим факелом в полном вооружении, только приподнято было забрало шлема.
– Пусть принесут ещё факелов и запалят в камине дрова. Морозно на дворе? Который теперь час?
Рыцарь, стоявший на страже в эту ночь, привык биться с левой руки и носил меч у правого бедра, потому что правая у него была отрублена по самое плечо. Его тёмное лицо с перебитым носом было угрюмо.
– Я уж велел. Сейчас придут с огнём, мессир. Недавно пробило два раза. На дворе очень морозно. Сосны трещат в лесу, будто пороховые бочки рвутся. Морозно и тихо. Погода установилась, и звёзд в небе не сосчитать, – хрипло и отрывисто проговорил он.
– Вот и время для доброго похода, а? Я знаю, мужики осенью не собрали урожая. Тысяча, другая дукатов тебе не помешала бы сейчас?
– Святая правда, Ваша Светлость, – воин улыбнулся щербатым ртом.
Старик, откинул алый бархатный полог алькова, встал с постели и накинул тёплый халат. У камина уже суетились слуги, и в каждое медное кольцо по стенам вставлен был горящий факел, так что стало светло, как днём.
– Ты, грозный рыцарь, простишь мне этот грех: забыл я твоё благородное имя. Всё время забывается нужное, – с раздражением сказал он. – Слушай, мне это показалось, или кто-то на днях говорил, будто Люксембург готовит набег на Лотарингию?
– Меня зовут Ромуальд де-Торнстайм. Мой предок пришёл из-за моря, был он свенским ярлом. Ваш прадед подарил ему замок Морт и две деревни. Тому два дня, как приезжал от великого герцога человек. Сулил золотые горы. У него мало тяжёлой конницы.
– Буди старого Буа-Трасси, пусть придёт. Мне нужно кое-что с ним обсудить. Что ты так уставился на меня?
– Не гневайтесь, мессир, но Шарль де-Буа-Трасси ещё летом ушёл, и людей своих увёл в Иль де-Франс.
– Ну, чёрт с ним. Вспомнил, вспомнил. Я выбранил его не к стати. Кто ж теперь командует моим войском?
– Молодой Бриссар.
– Он не годится. В этот поход я сам поведу своих людей. Я выставляю в этой войне рыцарский клин – не меньше полутора сотен всадников. И нужно кликнуть охотников по деревням. Пехоты будет около тысячи бойцов.
Маркиз с кряхтением распрямился: О, Пресвятая Дева… Проклятая спина!
– Принесите мне кубок андалузского и приготовьте ванну со льдом. Мои доспехи приготовить. Разверните над башней замка наше родовое знамя в знак того, что я впереди войска. Пусть глашатаи по сёлам, замкам и городам три дня подряд объявляют народу, что этот свой поход я посвятил всем прекрасным дамам маркизата, независимо от происхождения. Дворянка или простолюдинка – лишь бы красавица была – каждой будет служить мой верный меч.
Он стал пить из кубка, но от сухого и очень крепкого вина из Испании в горле запершило, и старик закашлялся. Проклятье! Он со стуком поставил кубок на стол. В это время подошёл дворецкий, кое-как стряхивая сон.
– Ваша Светлость, не гневайтесь, вам нельзя пить неразбавленное вино. Ваш учёный иудейский лекарь и волшебник, Шимон Бен-Азарья, велел в тревожные ночи готовить для вас отвар из снотворных трав с мёдом и молоком.
– Не стану я пить гадость, которой меня пичкает старый еврей, – но он вспомнил, что этот старый еврей моложе его на десять лет.
Он сел на пуховое ложе. В груди теснилось, и он дышал, будто подымаясь в гору.
– Я пока прилягу. А это ты, Бриссар…, – юный военачальник в драгоценном камзоле, склонился над ним, торопливо снимая шляпу.
– Мне сказали, что ты хорошо сражался с тирольцами. Учись. Я старею, а наследника нет.
Дворецкий приблизился с дымящейся чашей:
– Выпейте это, Ваша Светлость.
Маркиз сделал несколько глотков пряного и сладкого, горячего питья. Потом он сказал:
– Что-то говорили о Люксембургском герцоге… Ему нелегко в Лотарингии придётся. Молодые люди… всегда торопятся. Разбудите меня на рассвете.
Через полчаса у закрытых накрепко дверей опочивальни рыцарь де-Торнстайм говорил Бриссару:
– Голова стала слабеть у него. И так ведь чуть не половина вилланов попередохли с голоду, а ему ещё кликни охотников умирать в Лотарингии.
– Когда такие медведи передрались, я предпочитаю спокойно греться у камина. Ещё мне не хватало здесь лотарингских вольных стрелков…, – сказал Бриссар.
Старый маркиз спал. Ему снился неудержимый клин рыцарской конницы, страусовые перья плюмажей, вьющихся по ветру, дробный топот сотен копыт, яростные крики: Алор! Алор!
Спал и я. Но мне больше ничего не снилось. Просто я немного устал к вечеру и спал. Пока не проснулся.
* * *
В начале девяностых выпал мне свободный вечер и порядочная пачка денег, которой мог я распорядиться по своему усмотрению. Что было придумать? Ничего больше, как сперва зайти в кафе «Националь», а там посмотрим. Но в кафе, которое я считал своим с молодых ещё лет, меня просто не пустили.
– Вам куда, молодой человек?
– Я, во-первых, не молодой человек…
– Так, извиняюсь, папаша. Но куда ты, в натуре, мылишься-то? Здесь на валюту.
– Добро. Я пойду обменяю.
– Не ходи, не меняй. Нечего тебе здесь делать. Разве мало по Тверской нормальных кафе? А это для серьёзных людей. Не обижайся, – но я, конечно, обиделся.
Я закурил и пошёл вверх по Тверской. По дороге где-то всё же выпил коньяку, а настроение не стало лучше. Что за чертовщина? На Пушкинской площади в подземном переходе мне повстречался один известный литературный критик, который тогда полгода жил в Германии, а полгода в Москве.
Морозило, я продрог, а ему было жарко, он распахнул меховую очень длинную шубу. Мы поздоровались и какое-то время молча стояли в переходе, наблюдая окружающее. Не стану повторяться. Очень много написано о том, что именно мы наблюдали «В подземном переходе на Тверской, где злоба перемешана с тоской», – была тогда такая песенка.
– Кошмар, – сказал я.
– О-о-о! Миша, оставь, пожалуйста. А чего ж ты хотел? Такова цена свободы. К ней людям ещё предстоит адаптироваться.
Подошла совершенно пьяная молодая женщина и сказала:
– Мужики, я беру полста баксов до утра. Новогодняя скидка. Только сразу покупайте литруху. Надо в форму сначала прийти. А иначе… того эффекту не будет.
Мы молчали. Толпа понесла её от нас. Она поскользнулась и упала в снежную слякоть, бранясь и оттирая вымазанное лицо рукавом.
– Это она адаптируется, вы считаете?
Он махнул рукой, и мы простились.
Я купил водки, какой-то закуски, взял такси и поехал к своему другу, который несколько лет назад умер, а тогда ещё был жив, но пропадал во всех отношениях – семья бросила его, спивался, и не было денег, буквально, на хлеб. К нему ехать было грустно, но некуда было поехать, кроме него.
Что это был за человек? В застойное время он принимал активное участие в издании журнала «Вече». Крайний националист, разумеется, антисемит. Но с детства мы были дружны. И он был замечательный поэт. И очень добрый, славный парень. Три года на зоне в Чечено-Ингушетии окончательно сломали его.
Из его стихов я совсем ничего не помню наизусть. Все они исчезли. Да, именно исчезли. Их больше нет. В литературной вечности они конечно живут. Но мне, здесь, от этого не легче. Вот крутится в голове сейчас:
Рыбки в банке на окне
При ликующей луне
Всё мечтают об озерах…
Пока я к нему ехал, в голове у меня складывались какие-то строчки. И едва усевшись за его захламленный стол, и выставив выпивку, я прочёл ему:
Голос Бога звучит, как стальная струна,
Слово Божие остро, как нож.
И ножом тем искромсана наша страна,
И на карте её не найдёшь.
Зря князья собирали под мощную длань
Мир нетвёрдый и скользкий, как ртуть —
И балтийскую ясную синь – Колывань,
И кипчаков, и угров, и жмудь.
Зря их добрые кони топтали траву
По степи за Великой Рекой.
И теперь я не ведаю, где я живу,
И не ведаю, кто я такой.
И в угаре московского мутного дня
Стал я слабым и глупым, как шут:
Не по-русски на рынке окликнут меня,
Не по-русски меня назовут!
Он слушал. Потом выпил водки и заплакал. И так мы с ним пили и говорили о судьбе нашей родины. И чем больше пили, тем чаще разговор заходил о проклятых Протоколах Сионских Мудрецов, о крови христианских младенцев, о еврейском заговоре, и о том, что Ельцин – еврей. Пили водку и бранились. Пока он не уснул.
Тогда я ещё полстакана выпил и написал ещё два стихотворения. И оставил эти два листка на столе, а сам ушёл. Вот что там было.
Приходи ко мне снова, разграбить мой дом.
На пороге я встречу тебя с топором.
И пред Богом я насмерть, клянусь, постою
За еврейскую вечную нашу семью,
За еврейское вечное небо
И за корку еврейского хлеба.
За столетье по локти ты в братской крови,
И в подельники больше меня не зови.
Я не стану на совесть грехи твои брать,
И не стану я сопли твои утирать,
И срамным твоим матом божиться,
И в могилу с тобою ложиться.
Только Бог нас рассудит. Он знает вину,
Кто с блядями паскудными пропил страну
Кто растлил безобразно своих сыновей,
Кто глумился, как пёс над святыней своей.
Это вы здесь чертей вызывали!
Это вы здесь Христа продавали!
Ваша страсть, ваша мука во мгле мировой,
И расплата над вашей хмельной головой!
И второе стихотворение:
Вот я песенку, братец, тебе пропою:
Как бы ни было в сердце темно,
Чтоб за деньги ты бабу не продал свою,
Чтоб любовь не сменял на вино.
Что прошло – пусть о том не болит голова,
И что пропил – на то наплевать.
Ведь слезам не поверит столица-Москва,
Наша строгая родина-мать.
Пусть она не поверит и пусть не простит,
Пусть она ничего не поймёт.
В тёмном небе над крышами ангел летит
И во мраке он Бога зовёт.
Он мечом рассекает кромешную тьму,
Собирая небесную рать…
А как жить тут, я, братец, и сам не пойму,
И не знаю, как тут умирать.
Я не знаю, что делать с тобой и с собой.
Страшно русская ночь глубока!
Ночью белые крылья шумят над Москвой,
А к рассвету – в крови облака…
И ещё на каком-то клочке бумаги я написал: «Сергей, прости меня, ради Бога!» Так мы прощались друг с другом, и с Россией, и с Москвой. А, пожалуй, что и с самой жизнью нашей.
* * *
Мой покойный отчим отсидел в общей сложности 13 лет. Он был родом из Петропавловска-Казахстанского.
Ещё совсем молодым он попал в банду, которая грабила товарные поезда. Они как-то забирались в вагон и потом на ходу в удобный момент, выпрыгивали с товаром из вагона. За это он получил три года. Это были пятидесятые, и я много слышал от него о «сучьей войне», которая шла прямо у него на глазах. Воры в законе не признали тех своих, кто вернулся с фронта, потому что война, по их мнению, была та же работа, а воровской закон работать запрещал, где бы то ни было. Была ужасная резня. Об этом много у Шаламова.
Когда отчим, звали его Иван, освободился, он сразу уехал в Одессу и каким-то чудом сдал экзамены на биофак Университета. Сдал всё на отлично. И только после этого показал в Приёмной комиссии свои документы. Его вызвал ректор для серьёзного разговора, потому что он сдавал очень хорошо, и кто-то из профессуры им заинтересовался.
– Послушайте, вы мне можете дать честное слово, что не станете больше воровать никогда?
– Могу, – сказал Иван. – Даю честное слово.
И он сдержал слово. На втором курсе его арестовали за участие в издании и распространении студенческой неомарксистской газеты. Он получил шесть лет. Потом ему ещё добавили «лагерный срок» – четыре года за то, что он ударил зам. начальника лагеря по политработе, то есть самого грозного кума.
О моём отчиме можно написать не роман, а целую эпопею. Это он, например, передал на волю роман Синявского «Голос из хора». Интересно, как он выносил его за пределы зоны. Листки из папиросной бумаги заворачивали в целлофан и заталкивали ему в прямую кишку.
Когда уже в перестройку Синявский приехал в Москву, Иван побрился, протрезвился (он последние годы очень сильно пил) и сидел целый день у телефона.
– Сейчас он позвонит, – но Синявский не позвонил.
Вечером включили телевизор. Синявский давал интервью.
– Мишка, – сказал мне Иван. – Сбегай…
– Слышь, Вань, да может он ещё завтра позвонит.
– Нет, Миш, он никогда не позвонит.
Однажды я из любопытства прочёл ему небольшой отрывок из «Острова Сокровищ», где Сильвер, получив «чёрную метку», разговаривает со своими пиратами.
– Ну, и к чему ты это?
– Иван, ты считаешь, это реально? Чтоб он мог сделать с десятком вооруженных людей один? Написано, что под левой рукой у него был костыль, а в правой руке он держал трубку. «Пусть любой из вас достаёт кортик, и я увижу какого цвета у него потроха, прежде чем эта трубка догорит». Как бы стал он драться?
Иван посмотрел на меня с улыбкой.
– Ну, он что-нибудь придумал бы…
Счастливая история
Был в Москве один художник-абстракционист. Мне не хочется его фамилии называть, потому что он сейчас человек известный. Живёт, кажется, во Франции. А в начале семидесятых перебивался случайными заработками, очень бедствовал, и очень сильно пил. Звали его Алексей. Его, впрочем, и сейчас так зовут.
Он занимался всякой «наглядной агитацией» в местах культурного отдыха, транспаранты писал, портреты вождей. Мог, например, заработать даже таким образом. Попадает в вытрезвитель. Утром ему говорят: «Оплатите по квитанции».
– Давайте, лучше так, – он отвечает, – вы мне платите 250 рублей, сотню авансом прямо сейчас, а я вам в отделении оформляю ленинскую комнату.
Ну, такие случаи, понятное дело, были не часты. Жрать ему было совершенно нечего.
А парень был красивый, нравился женщинам, только не умел, как многие, использовать это качество себе на пользу.
Мы уж его, бывало, всё пытались познакомить с какой-нибудь перспективной дамочкой. Ничего не выходило. То напьётся, как свинья, или, ещё хуже, начинает говорить женщине горькую правду. Например, много ли труда потрачено во имя приобретения этой норковой шубейки? – совершенно неподходящий вопрос для сотрудницы отдела пропаганды тогдашних грозных «Известий».
Один раз пошли в кафе «Националь» с женой только что уехавшего на Запад знаменитого писателя (жену он с собою не взял). Она была несчастна, одинока, красива, по тем временам богата, и, что важнее было, богата связями в среде литературно-художественного партийного руководства. Как раз, то, что Лёшке, по нашему мнению, нужно было.
Заказали (за её счёт, конечно) хороший ужин и армянского коньяку, пять звёздочек. Выпили по рюмке. Наша дама зовёт официантку.
– Я заказала пять звёздочек. Вы, дорогая моя, приносите поллитра в графине. А это что за напиток? Ведь это «Коньячный напиток». Верно? Ну, и что мы будем делать? Позовите администратора, пожалуйста…
А Лёшка возьми да и ляпни:
– Ну, чего, в самом деле, привязалась к бедной девке? Выхлебаем и напиток, не подохнем. Те же сорок градусов, – вот, что с дураком прикажете делать?
Но как-то рано утром выходит он из дома с ужасного похмелья и без копейки в кармане. И неизвестно, где раздобыть на кружку пива. Дело дрянь. Смотрит, девчонки-лимитчицы, маляры, сидят и завтракают. Кефир там, отдельная колбаса, плавленые сырки. Он подходит.
– Девчата. Вот такой расклад. Кто из вас мне сейчас даёт пять рублей, с той я завтра иду в ЗАГС.
Девчата засмеялись. А одна посмотрела ему в лицо и говорит:
– Обманешь?
– Нет. Я никогда не обманываю, – а это у него на лице было написано, не знаю, как сейчас, а тогда было.
Эту девушку звали Настя. Она приехала из Казани, кажется. Лёшка меня с ней познакомил через несколько дней. Он был совершенно трезвый. И сказал мне:
– Гляди. Я выиграл пятьдесят тысяч по трамвайному билету.
– Ну, он-то выиграл, – я говорю, – это я уж вижу. А вы, Настя?
Настя его обняла и улыбнулась так, что у меня сердце дрогнуло:
– И я выиграла. Мы с Алексеем оба выиграли.
Когда в девяностые они уезжали, у них уж были взрослые дети, даже, внуки, если я не перепутал.
Одна беда. Настя, когда её спрашивали, кем работает её муж, ещё очень долго совершенно серьёзно отвечала:
– Мой Лёша, он, это самое, кубики рисует. Его за это чуть не посадили.
Но ведь, если разобраться, положив руку на сердце, разве это было не так?
* * *
Я очень хорошо помню, момент, когда мой отчим потерял всякий интерес к судьбоносным событиям перестройки. Он к тому времени совершенно перестал читать газеты, а телевизора никогда и прежде не смотрел. Сидел, с бутылкой – как бы наедине, и курил. Он был уже очень сильно болен. Обнаружили сахарный диабет.
– Иван, послушай, ты же биолог…
– Да ладно! Какой там я к шутам биолог.
Действительно, мне просто хотелось сказать ему что-то приятное. Он не закончил и второго курса.
– Что такое водка? Вода и сахар, больше ничего. Ты себя травишь.
– А про дрожжи забыл, – с усмешкой отвечает он, щурясь от табачного дыма.
И вот я упомянул как-то, что Сахаров – депутат Съезда. Не помню, в какой связи я это сказал. Не представляю себе человека, который бы этого не знал тогда. Иван не знал. Он вдруг встрепенулся. Стал набирать телефонный номер. Оказалось занято. Больше он звонить не стал, и слава Богу. Ему пришлось бы говорить с Еленой Георгиевной Боннэр, и вряд ли это был бы разумный разговор.
– Ну, и что он там? – спросил Иван меня.
– Так себе. Не дают ему сказать ни слова.
– А они, почему ему должны слово давать? Он что им – свой?
– Видишь ли, Горбачёв, уж какой он там ни есть… – тогда постоянно так выражались о Горбачёве.
– Горбачёв, он парткомовская крыса. И он своих собрал на съезд. Нормально. Только там Сахарову делать нечего.
Я что-то стал говорить о том, что на Съезде далеко не только номенклатура собралась. Иван неожиданно налил два почти полных чайных стакана водки и достал из-под стола вторую бутылку.
– Давай-ка лучше выпьем.
– О-ох, что-то много. А мне, Ваня, сегодня ещё…
– Не хошь, не пей.
Я выпил и, отдышавшись, снова стал его уверять, что мы стоим на пороге великих перемен. Он курил и молча слушал. Он редко перебивал человека, а всегда старался внимательно дослушать до конца. Потом он ещё давал себе несколько мгновений на раздумье, прежде чем ответить. Эта привычка вырабатывается на допросах. Он меня очень долго слушал, потому что двести грамм водки это всё же кое-что. Потом он, ещё немного помолчав, сказал:
– Говорю тебе всё это пурга. Муть, понимаешь? Не понимаешь. Ладно. Будешь ещё?
Мне нельзя было ещё. А Иван ещё выпил и перестал меня замечать.
22 августа 91 года я пришёл к вечеру после трёх дней отсутствия. Мать и Иван, оба очень обрадовались. Мать беспокоилась, как бы мне голову не проломили, а Ивану жаль было мою мать, которую он очень любил. За меня он не беспокоился. Я рассказывал, перескакивая с одного на другое. Они слушали молча. Оба. Ни слова. В конце концов, я положил на стол обломок гранита. Ещё не на Лубянке, но уже на бывшей площади Дзержинского днём мы разбивали цоколь постамента, где вчера высился Железный Феликс.
– Мишутка, – сказала мать, – этот цоколь там был задолго до памятника. Там был фонтан. Это цоколь, который был вокруг старого фонтана. Зачем же вы его разбили?
Я не знал, что ответить.
– Чего встал? – сказал Иван. – Давай присаживайся, пока. Навоевался?
– Чего ты, в самом деле, иронизируешь?
– Не обижайся, – сказал Иван. – Не обижайся. Не тебя первого наебали, не тебя последнего. Посерьёзней тебя люди фраернулись. Ничего. Всё пройдёт.
– А ты знаешь, – сказал я, – у меня, действительно, складывается впечатление, что…
Мне было тогда без малого пятьдесят лет. Я считал себя человеком, прошедшим огонь и воду – в буквальном-то смысле так оно и было. Но в те дни я ничего не понял. Возможно, и отчим мой не понял, но каким-то особым лагерным чутьём почуял обман.
Зимой оказалось, что Украина стала заграницей. У Ивана в Одессе жила дочь. Петропавловск тоже стал заграницей. Он совсем погрустнел. А впрочем, он никогда и не был весельчаком. Вскорости он умер.
* * *
Когда мне было лет восемь или девять, мы с моей бабушкой на лето приезжали отдыхать на Азовское море. Был там хутор, неподалёку от Таганрога, название которого я давно забыл. Жили на хуторе кубанские казаки. И мы снимали хату. Места тихие, красивые, но совсем не курортные. Там бабушке, семь лет отбарабанившей в мордовских лагерях, было спокойно с ребёнком. В общем, там было хорошо.
И вот – я это всё помню, будто вчера было – вечером, только что солнце зашло, но заря пылает ещё на горизонте, мы идём к морю. В наступающих сумерках серебром светятся волосы моей бабушки, и море Азовское, жемчужное, тоже светится, листья пирамидальных тополей мерцают. И что-то она мне рассказывает, а я и слушаю и не слушаю. И всё бегаю вокруг неё, а потом вдруг прижмусь к её юбке лицом и не хочу отпускать. Никогда у меня не было человека ближе, чем она.
Вдруг откуда-то из глубины утонувших уже в темноте виноградников – песня. И эта песня, незнакомая, дикая, красивая каким-то сумасшедшим разгулом, пугает меня.
Распрягатэ хлопци коней
Та й лягайтэ спочивать… –
И внезапно, со свистом, пронзительным визгом и выкриками:
Маруся, раз-два-тры, калына,
Чэрнявая дивчына
У саду ягоды рвала!
Я совсем испугался, жмусь к бабушке:
– Баба, пошли домой…
И невесомое, прохладное прикосновение её надёжной маленькой ладони:
– Чего ты испугался, дурачок? У людей праздник. Свадьба. Они празднуют и нас не обидят.
Слышится скип хромовых сапог, из темноты, пошатываясь, выходит какой-то громадный человек. Он очень красив и кажется мне военным, потому что – усы, гимнастёрка, галифе, начищенные сапоги «в гармошку», а на груди у него звенят медали. И он, порывшись в кармане, вытаскивает горсть леденцов «момпасье» с налипшей махорочной крошкой, присаживается накорточки, дышит мне в лицо табаком, самогонкой, потом.
– Та шо ты спужался? О, гля, я тоби леденцив, спробуй яки сладки. Та не плачь, казаки ж нэ плачуть… – тяжела его сильная рука у меня на голове.
Потом, когда он, переговорив о чём-то с бабушкой уходит снова в темноту, бабушка с её характерным выговором польской еврейки произносит что-то вовсе мне непонятное:
– Люблю очызну я, но странною любовю…
Много лет спустя, это было начало девяностых, я работал на Хованском кладбище в небольшой бригаде по установке памятников и заливке цоколей и цветников. В тот сезон на Хавань, на заработки, приехали украинцы. Их было много. И были они – каждый, будто чем-то ушиблен. У нас, местных, с ними то и дело вспыхивали драки, потому что они сбивали цены, да и просто были лишние, работы стало не хватать из-за них.
– Слушай, брат, ты, что хошь, мне говори, а я вас в ментуру сдам или солнцевских натравлю, – сказал наш бригадир. – Моё дело, людей накормить. Мы здесь всю жизнь работаем, а вас тут понаехало, а работы мало.
– Та ты ж почекай, брат, послухай, шо я кажу…
– Или вечером проедем и все ваши заливки побьём. Я так не могу. Ребята меня съедят.
– Почекай, брат. Не будь ты мусором поганым. Поверишь? Малы диты з голоду пухнуть, и работы немае…
– А-а-а, чтоб вы пропали. Ты мне о своём, а мне надо – о своём. Я правильно говорю?
– Почекай…
Вечером мы ехали на тракторе в раздевалку. Что-то мне послышалось вдалеке.
– Стой! – крикнул я и взял водителя за плечо. – Выруби двигатель.
В сумерках слышалась песня. Всё та же. «Распрягайтэ, хлопци, коней…».
– Хохлы поют. И точно, распрягайте. Приехали. Я служил с ними.
– Ну, ёбаная жисть, а! – сказал бригадир. – И до чего ж, суки, людей довели… Ну, что делать? Спроси у своего Ельцина.
– А он знает?
В 2002 году, в Иерусалиме, меня как сотрудника русскоязычной газеты «Новости недели» пригласили на торжественное собрание, посвящённое учреждению Общества украино-израильской дружбы. Они, однако, опоздали на полгода. Я уж из газеты вылетел и работал на конвейере моечной машины в огромном пищевом цеху. Это каторга, такая, что я и в Северной Атлантике не видал. Платят, правда, неплохо.
На этом собрании присутствовал представитель украинского консульства, и сказано было очень много хороших слов. И выступил руководитель Тель-Авивского ансамбля украинской песни и пляски. Ансамбль на днях отправлялся в турне, в Европу и Штаты. «Но, безусловно, свой первый концерт в этой поездке мы дадим в Киеве. Как бы то ни было, а каждый из нас родился на Украине, и никто этого не забудет никогда!» – было очень трогательно.
Я попросил слова. Я стал говорить о том, что в Израиле среди новых репатриантов очень много этнических украинцев, приехавших с жёнами-еврейками или как-то иначе. Они являются полноправными гражданами страны, но положение их вдвойне нелегко, потому что украинские евреи по вполне понятным причинам относятся к ним неласково. Я работаю с этими людьми на очень тяжёлом производстве, украинцы всегда охотно идут на тяжёлую работу в надежде, что трудовые руки их спасут. Но то и дело возникают стычки:
– Вам на Украине евреев было много. Хорошо. Мы уехали, а вы за нами потянулись, – возразить нечего, но никто не заказывает себе судьбы, нет такого стола заказов.