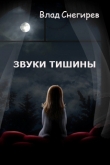Текст книги "Я – Беглый (СИ)"
Автор книги: Михаил Пробатов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– Забавно. Итак, мой дорогой, поскольку я вижу вам уже не терпится выйти на свободу и развернуть проповедь своего вероучения, которое, боюсь, вызовет смех у людей благоразумных, но это свойство большинства самодеятельных религиозных посторенний, поскольку это так, а мне не хочется вас больше мучить здесь – скажите мне, чего хочет этот человек, которого вы так разноречиво характеризовали. Его пороки мне уже известны, они в порядке вещей. Но такой человек наверняка имеет какую-то сильную страсть.
– Князь! Вы будете смеяться. Он хочет совершить великое открытие.
Князь, действительно, засмеялся:
– У меня в этом на ноготь сомнения не было, – сказал он. – Открытие в области психиатрии, так я понял?
– Именно так, князь, Ваше Сиятельство. Он хочет стать во главе большого научно-исследовательского института, но для этого ему необходимо защитить докторскую диссертацию, которая ему не под силу. Это не настоящий учёный. Он стремится к славе, но путь к славе – он хотел бы его пройти как бы во сне.
– Хочет проснуться доктором наук и директором?
– Точно так, Ваше Сиятельство. И от этого многие судьбы будут искалечены. Многие способные люди будут влачить нищенское существование, а сотни тысяч и даже миллионы больных во всём мире вместо лечения получат нечто шарлатанское.
– Мы это устроим. Это как раз очень просто. И человек того стоит, – произнёс голос князя тьмы.
Звон потянул меня за рукав. Мы вернулись к нему в кабинет.
– Давай-ка выпьем. Я надеюсь, ты всерьёз этого не принимаешь?
– А кто этот мужик?
– Это больной из третьей палаты. Он плохо спит, а Лёшка плохо запер изолятор, там, вообще замок барахлит, – Звон вдруг закрыл лицо ладонями. – Но неужто… Но может быть, действительно? Столько лет, столько лет в этой проклятой дыре…, – я ничего не понял. Сказать по правде, я был уже сильно пьян.
Утром я сменился и ушёл, не повидавшись со Звоном. А когда через трое суток снова вышел на дежурство, напарник меня спросил:
– Ты знаешь, где сейчас Звонков?
– ?
– В остром. Его взяли на вязки. Еле справились. Какой-то припадок у него. На тебя катили бочку. Ты с ним пил перед этим. Всю ночь, болтают, сидели – квасили.
Врач Звонков долго лежал в Долгопрудной, потом в Сербского, потом его перевели в какую-то ещё психбольницу, и я его потерял. Но мне говорили общие знакомые, что он так и не вышел из больницы. И умер в больнице.
А знаете, что я думаю по этому поводу? Никакого князя не было. В изоляторе, действительно, сидел больной, как-то сумевший открыть дверь, а вовсе не князь тьмы. Мы просто очень напились. Они говорили о Звонкове. А что о нём можно было говорить, кроме того, что было ими сказано? Но ему, бедняге, уж очень хотелось. Очень. Пропал человек.
* * *
Я ведь не знаю английского. Утром обнаруживаю на электронной почте какое-то сообщение по-английски. И вот только что пришёл зять и мне объяснил, что кто-то анонимно сделал мой аккаунт платным. Я просто ужасно этим тронут. Не знаю, что сказать по этому поводу, кроме как: «Спасибо, браток (или сестрёнка), дай тебе Бог здоровья», – наши так говорят, я же беглый:)))
* * *
Была у меня одна знакомая, ещё со школьных лет. Звали её Вера. Её и сейчас так зовут, только она живёт в Германии. Живёт она там одна. Не замужем, и детей у неё нет. В Ленинграде у неё, кажется, тётка, но я знаю, что они даже не перезваниваются.
А мы все тогда, в молодости, её звали Верочкой. Она отличалась каким-то ясным, прозрачным, чистым и невинным легкомыслием в отношениях с мужчинами, которым она всегда очень нравилась, и без которых обходиться не могла, и не умела, и не любила без них жить. В этом смысле жизнь её была совершенно безоблачна. У неё не было трагедий, мучительных порывов, душевных потрясений и даже каких-то тяжких объяснений, тем более слёз, истерик, драк и тому подобное. Была любовь. Прошла. Кто-то следующий. И, удивительно – во всём этом не было никогда ничего нечистого или безобразного. Как-то естественно всё это получалось. И так она дожила до тридцати пяти лет. Мы с ней ровесники.
И тут у неё умирает мать, которую она очень любила, хотя и была для неё источником горьких слёз, начиная лет с шестнадцати всё по той же причине – с этого возраста начались у неё отношения, с мужчинами.
И Верочка осталась одна в трёхкомнатной прекрасной квартире в Центре Москвы, и вдруг как-то всем стало ясно, что лимит времени исчерпан, и пора замуж. А то… в перспективе уже клубится непроглядный туман. Но Верочка почему-то к такому положению вещей отнеслась совершенно неожиданно. Она, как княгиня Шерер, вместо того, чтобы свою жизнь налаживать, принялась устраивать чужие судьбы. И получалось у неё это очень удачно – иногда. Но её жизнь изменилась тогда в какую-то тёмную сторону. Она уже не знакомила весело и с некоторым лёгким юмором всех своих друзей с каждым новым возлюбленным.
– А, Верочка, это кто?
– Да так. Он человек неинтересный. Тебе с ним скучно будет.
И я как-то печально задумался о ней, когда она меня спросила однажды:
– Мишка, а ты в принципе, как, вообще, смотришь на групповой секс?
Я ответил ей, что мне самому это не нужно, но я никого не осуждаю. Но потом я сказал, что видел это в Охотске, где, работали на путине только что освободившиеся зэки. И это было очень тяжёлые отношения, и там было много насилия, и злой подлости, и грязи.
– А ты, почему спросила?
– Да есть тут один человек. Ему, понимаешь, это нужно. А он мне нужен, – потом она помолчала и добавила со вздохом. – Вот не знаю только зачем он мне.
– Верка, брось! Хочешь, он у меня все свои зубы на полу пересчитает?
– Нет, – сказал она. – Не хочу. У него очень красивые зубы. К тому же, ещё неизвестно, там чьи зубы кто будет считать.
Однажды она мне говорит:
– Мишка, давай-ка мы организуем тебе личную жизнь.
– Да я ж вроде женат.
– Ты всегда женат. Но ты уже вполне дорос до того, чтоб тебе вести полноценную половую жизнь. На тебя бабы западают, а ты… Это ж необходимо.
– Для чего?
– Пора, молодой человек, мужчиной становиться. Ты знаешь Лору Раеву?
Лариса Раева была женой одного очень известного в то время писателя-невозвращенца, к которому, она ли не поехала, он ли её не захотел взять с собой, а, вернее всего, и то, и другое. Это была удивительная красавица. Денег у неё было немеряно, и она, действительно, на меня западала. Каждый раз, когда мы с ней встречались где-нибудь, она говорила одну и ту же фразу:
– Миша, давайте мы вас оденем, а то вы похожи на несостоявшегося лидера наших советских хиппи. И вы неправильно бороду подстригаете, а от этого вы похожи на несостоявшегося диссидента.
И я отвечал тоже всегда одно и то же:
– Я постараюсь состояться.
– В качестве хиппи или в качестве диссидента?
И я отвечал:
– Поживём, увидим.
Как-то раз мы шли по улице Горького (тогда ещё так) с Лёней Губановым, и где-то мы с ним надыбали червонец. Что это такое, червонец с Губановым в Центре – само по себе уже целый роман. Это был человек, у которого талант лез, буквально, отовсюду, и он пить, даже и напиваться умел талантливо, хотя это бывало страшновато и часто безобразно. Идём мы, значит, по Горького, а с червонцем весь великий мегаполис нам принадлежит. Доходим до угла Манежной, и тут нам надо в подземный переход, поскольку мы собирались первую бутылку выпить в пельменной в одном из переулков улицы Пушкинской (ныне Малая Дмитровка, кажется). Я просто для молодёжи объясняю, что червонец – это нам немного до трёх бутылок не хватало, но такую малость, да ещё выпимши, мы могли легко раздобыть. Как? – было несколько способов, не подумайте, что украсть. Мы не воровали. А можно было спросить:
– Девушка, если вы нам дадите два рубля, услышите гениальные стихи, – время было другое, и представьте, действовало. Нас узнавали – мы были из андеграунда, не нынешнего, а настоящего, из-под земли мы были. Мы были вроде гномов.
Мы с Лёнькой уж собирались спуститься в переход, как вдруг меня остановил голос:
– Мишка! Постой…
Из дверей кафе «Националь» вышла Вера. Дело было зимой, а она выскочила в очень лёгком платьице и даже легче, чем вы, ребята, уж сейчас ко всему привычные, можете предположить.
– Ну, куда тебя несёт? Зайди на минуту ко мне за столик. Со мной там Лариса Раева.
Мы вдвоём подошли к ней.
– Верка, я не один.
– Здравствуйте, Леня. Вы никогда не оденетесь по-человечески?
– Вряд ли, – сказал Губанов. – А что такое стряслось?
И она сказала:
– Вы так одеты, что вас невозможно в это кафе пригласить, – но дело было не в одежде, а просто она его очень не любила.
– А мы не в сюда, – добродушно сказал Губанов. – Мы тут, Верочка, в другое заведение собрались. – Во мне он был уверен. А я оказался предателем. Потому что я подумал о красавице, которая ждёт меня. Ведь это из-за меня Верка выскочила на мороз почти что, в чём мать родила.
Червонец наш был у меня в кармане, и я с унылой харей протянул его Губанову.
– Так ты здесь будешь? Оставь деньги, пригодятся, – сказал он.
– Бери, ну что меня травишь? – он, сочувствуя мне (он умел сочувствовать слабости) и даже с некоторым жалостливым пониманием взял деньги.
Мы с Верой прошли в тепло и ароматный уют знаменитого кафе, а Лёнька остался с червонцем на улице. Никогда себе этого не прощу. Впрочем, сейчас уже поздно об этом думать. И каяться поздно. Просто не перед кем покаяться. Можно перед Богом – но это слишком легко.
Итак, мы прошли к столику, за которым сидела красавица. Я, как только увидел её, и понял, что меня она ждёт, совершенно забыл про своего друга, замерзающего под зарядами сырой московской метели. И, вообще, обо всём на свете я забыл, а только смотрел на неё. Глаза у неё были какие-то зелёные в голубизну – как морская вода.
И тут со мной случилось то самое, что с Кисой Воробьяниновым случилось, у меня язык отнялся, и я ещё вдобавок ужасно покраснел.
– Водки выпью – разойдусь, – подумал я.
И, как Киса, я водки выпил, но не разошёлся. Что-то говорили про котлеты по-киевски. И ещё говорили про повесть Распутина «Прощание с Матёрой». А молчал, как рыба.
– Вы себя плохо чувствуете, Миша? – спросила красавица.
– Нет, всё нормально, – сказал я и выпил ещё стопку водки.
– Нет, ты погляди, как покраснел, – сказала Верка.
– Я вам дам книгу Леви о преодолении стеснительности, – сказала красавица. – Вы прочтёте и больше никогда не станете краснеть.
Тут я вспомнил своего друга, одного на снежных улицах жестокой столицы. И я ужасно разозлился.
– Да во мне, если человеческого что ещё осталось, так это способность краснеть. А ты и это у меня отнять хочешь? – сказал я. Выпил я, всё ж лишнего.
Через несколько дней мы встретились с Веркой, и она сказала мне:
– Ты просто безобразно себя вёл и оскорбил женщину.
– Верочка, не сердись, – сказал я. – Я постараюсь больше так не делать.
– Ага, – сказала Верочка, – так я тебе и поверила. А что Лёнька?
– А что ему делается? – ответил я.
* * *
Была у меня одна знакомая, ещё со школьных лет. Звали её Вера. Её и сейчас так зовут, только она живёт в Германии. Живёт она там одна. Не замужем, и детей у неё нет. В Ленинграде у неё, кажется, тётка, но я знаю, что они даже не перезваниваются.
А мы все тогда, в молодости, её звали Верочкой. Она отличалась каким-то ясным, прозрачным, чистым и невинным легкомыслием в отношениях с мужчинами, которым она всегда очень нравилась, и без которых обходиться не могла, и не умела, и не любила без них жить. В этом смысле жизнь её была совершенно безоблачна. У неё не было трагедий, мучительных порывов, душевных потрясений и даже каких-то тяжких объяснений, тем более слёз, истерик, драк и тому подобное. Была любовь. Прошла. Кто-то следующий. И, удивительно – во всём этом не было никогда ничего нечистого или безобразного. Как-то естественно всё это получалось. И так она дожила до тридцати пяти лет. Мы с ней ровесники.
И тут у неё умирает мать, которую она очень любила, хотя и была для неё источником горьких слёз, начиная лет с шестнадцати всё по той же причине – с этого возраста начались у неё отношения, с мужчинами.
И Верочка осталась одна в трёхкомнатной прекрасной квартире в Центре Москвы, и вдруг как-то всем стало ясно, что лимит времени исчерпан, и пора замуж. А то… в перспективе уже клубится непроглядный туман. Но Верочка почему-то к такому положению вещей отнеслась совершенно неожиданно. Она, как княгиня Шерер, вместо того, чтобы свою жизнь налаживать, принялась устраивать чужие судьбы. И получалось у неё это очень удачно – иногда. Но её жизнь изменилась тогда в какую-то тёмную сторону. Она уже не знакомила весело и с некоторым лёгким юмором всех своих друзей с каждым новым возлюбленным.
– А, Верочка, это кто?
– Да так. Он человек неинтересный. Тебе с ним скучно будет.
И я как-то печально задумался о ней, когда она меня спросила однажды:
– Мишка, а ты в принципе, как, вообще, смотришь на групповой секс?
Я ответил ей, что мне самому это не нужно, но я никого не осуждаю. Но потом я сказал, что видел это в Охотске, где, работали на путине только что освободившиеся зэки. И это было очень тяжёлые отношения, и там было много насилия, и злой подлости, и грязи.
– А ты, почему спросила?
– Да есть тут один человек. Ему, понимаешь, это нужно. А он мне нужен, – потом она помолчала и добавила со вздохом. – Вот не знаю только зачем он мне.
– Верка, брось! Хочешь, он у меня все свои зубы на полу пересчитает?
– Нет, – сказал она. – Не хочу. У него очень красивые зубы. К тому же, ещё неизвестно, там чьи зубы кто будет считать.
Однажды она мне говорит:
– Мишка, давай-ка мы организуем тебе личную жизнь.
– Да я ж вроде женат.
– Ты всегда женат. Но ты уже вполне дорос до того, чтоб тебе вести полноценную половую жизнь. На тебя бабы западают, а ты… Это ж необходимо.
– Для чего?
– Пора, молодой человек, мужчиной становиться. Ты знаешь Лору Раеву?
Лариса Раева была женой одного очень известного в то время писателя-невозвращенца, к которому, она ли не поехала, он ли её не захотел взять с собой, а, вернее всего, и то, и другое. Это была удивительная красавица. Денег у неё было немеряно, и она, действительно, на меня западала. Каждый раз, когда мы с ней встречались где-нибудь, она говорила одну и ту же фразу:
– Миша, давайте мы вас оденем, а то вы похожи на несостоявшегося лидера наших советских хиппи. И вы неправильно бороду подстригаете, а от этого вы похожи на несостоявшегося диссидента.
И я отвечал тоже всегда одно и то же:
– Я постараюсь состояться.
– В качестве хиппи или в качестве диссидента?
И я отвечал:
– Поживём, увидим.
Как-то раз мы шли по улице Горького (тогда ещё так) с Лёней Губановым, и где-то мы с ним надыбали червонец. Что это такое, червонец с Губановым в Центре – само по себе уже целый роман. Это был человек, у которого талант лез, буквально, отовсюду, и он пить, даже и напиваться умел талантливо, хотя это бывало страшновато и часто безобразно. Идём мы, значит, по Горького, а с червонцем весь великий мегаполис нам принадлежит. Доходим до угла Манежной, и тут нам надо в подземный переход, поскольку мы собирались первую бутылку выпить в пельменной в одном из переулков улицы Пушкинской (ныне Малая Дмитровка, кажется). Я просто для молодёжи объясняю, что червонец – это нам немного до трёх бутылок не хватало, но такую малость, да ещё выпимши, мы могли легко раздобыть. Как? – было несколько способов, не подумайте, что украсть. Мы не воровали. А можно было спросить:
– Девушка, если вы нам дадите два рубля, услышите гениальные стихи, – время было другое, и представьте, действовало. Нас узнавали – мы были из андеграунда, не нынешнего, а настоящего, из-под земли мы были. Мы были вроде гномов.
Мы с Лёнькой уж собирались спуститься в переход, как вдруг меня остановил голос:
– Мишка! Постой…
Из дверей кафе «Националь» вышла Вера. Дело было зимой, а она выскочила в очень лёгком платьице и даже легче, чем вы, ребята, уж сейчас ко всему привычные, можете предположить.
– Ну, куда тебя несёт? Зайди на минуту ко мне за столик. Со мной там Лариса Раева.
Мы вдвоём подошли к ней.
– Верка, я не один.
– Здравствуйте, Леня. Вы никогда не оденетесь по-человечески?
– Вряд ли, – сказал Губанов. – А что такое стряслось?
И она сказала:
– Вы так одеты, что вас невозможно в это кафе пригласить, – но дело было не в одежде, а просто она его очень не любила.
– А мы не в сюда, – добродушно сказал Губанов. – Мы тут, Верочка, в другое заведение собрались. – Во мне он был уверен. А я оказался предателем. Потому что я подумал о красавице, которая ждёт меня. Ведь это из-за меня Верка выскочила на мороз почти что, в чём мать родила.
Червонец наш был у меня в кармане, и я с унылой харей протянул его Губанову.
– Так ты здесь будешь? Оставь деньги, пригодятся, – сказал он.
– Бери, ну что меня травишь? – он, сочувствуя мне (он умел сочувствовать слабости) и даже с некоторым жалостливым пониманием взял деньги.
Мы с Верой прошли в тепло и ароматный уют знаменитого кафе, а Лёнька остался с червонцем на улице. Никогда себе этого не прощу. Впрочем, сейчас уже поздно об этом думать. И каяться поздно. Просто не перед кем покаяться. Можно перед Богом – но это слишком легко.
Итак, мы прошли к столику, за которым сидела красавица. Я, как только увидел её, и понял, что меня она ждёт, совершенно забыл про своего друга, замерзающего под зарядами сырой московской метели. И, вообще, обо всём на свете я забыл, а только смотрел на неё. Глаза у неё были какие-то зелёные в голубизну – как морская вода.
И тут со мной случилось то самое, что с Кисой Воробьяниновым случилось, у меня язык отнялся, и я ещё вдобавок ужасно покраснел.
– Водки выпью – разойдусь, – подумал я.
И, как Киса, я водки выпил, но не разошёлся. Что-то говорили про котлеты по-киевски. И ещё говорили про повесть Распутина «Прощание с Матёрой». А молчал, как рыба.
– Вы себя плохо чувствуете, Миша? – спросила красавица.
– Нет, всё нормально, – сказал я и выпил ещё стопку водки.
– Нет, ты погляди, как покраснел, – сказала Верка.
– Я вам дам книгу Леви о преодолении стеснительности, – сказала красавица. – Вы прочтёте и больше никогда не станете краснеть.
Тут я вспомнил своего друга, одного на снежных улицах жестокой столицы. И я ужасно разозлился.
– Да во мне, если человеческого что ещё осталось, так это способность краснеть. А ты и это у меня отнять хочешь? – сказал я. Выпил я, всё ж лишнего.
Через несколько дней мы встретились с Веркой, и она сказала мне:
– Ты просто безобразно себя вёл и оскорбил женщину.
– Верочка, не сердись, – сказал я. – Я постараюсь больше так не делать.
– Ага, – сказала Верочка, – так я тебе и поверила. А что Лёнька?
– А что ему делается? – ответил я.
Волшебная сказка (начало)
Я попробую в два или три приёма поместить в журнале повесть, которая мне самому очень нравится, а как вам – посмотрим.
Я заранее прошу прощения у каждого грека, тем более киприота, если случайно это моё сочинение попадется ему на глаза: за Грецию здесь выдаётся совершенно вымышленная страна. Но, в конце концов, должно же действие где-то происходить. Какая вам разница? Я во многих странах побывал. Все они здорово похожи друг на друга. Для того, чтоб вам не скучно было читать, приходится выдумать. Вот я и выдумал.
Учтите – очень длинно.
В конце лета 1998 года я работал на одном большом московском кладбище в бригаде по установке памятников. Заработок неплохой, однако, я сильно уставал, и становилось ясно, что время моё на этом производстве истекло. Ребята жалели меня как ветерана, а где на кладбище лёгкая работа? Однажды собирались ставить большой камень. День был очень жаркий. Я с утра водиночку делал под подставку грунтовую насыпь и работая тяжёлой трамбовкой, чувствовал, что спина вот-вот сядет, и сердце колотилось что-то совсем не по-хорошему. Когда приехал я на «муравье» в гранитный цех и пришёл на склад, бригада уже возилась там – готовились грузить стеллу на трактор.
– Ну-у-у, ты ещё намылился сюда! – со смехом сказал бригадир. – Хватит с тебя на сегодня. Пошатайся по участкам, поищи клиентов. Не особо, Мишаня, старайся, покури, а то подохнешь ещё.
– Спасибо, брат, – сказал я.
– Давай, брат, – он так ударил меня по плечу, что я едва не свалился. – Своих не выдаём!
Кинул я лёгонькую лопатку-маломерку на плечо и побрёл. Я люблю эти новые послевоенные кладбища на окраинах Москвы даже больше, чем центровые, потому что здесь молодой берёзы много, на глине она хорошо растёт. Плутал я в этом светлом, солнечном кладбищенском лесу, отдышался, наелся земляники, время от времени садился на скамеечке покурить. Записал несколько пустяковых заказов, и уже собирался туда, где наши камень ставили, помочь хоть раствор размешать. И тут на дорожке меня остановил странный человек.
Он мне сразу странным показался, хотя и очень хорошо, дорого одет, чисто выбрит, трезвый. Тревожный, тоскливый взгляд – к этому мы здесь, конечно, привыкли. Но он, понимаете, совсем не похож был на того, кто скорбит или хотя бы вид делает, что скорбит по кому-то, безвременно ушедшему. Скорее, похоже, он чего-то боялся. Затравленный взгляд. А на этой работе я людей с таким взглядом сам боюсь, потому что разных гнилых и стрёмных дел здесь всегда навалом, а уж в последнее-то время… К тому же что-то знакомое мне почудилось в лице, а это всегда настораживает. За двадцать лет работы на кладбище поневоле научишься осторожности с людьми. Где я мог его видеть?
– Здравствуйте, – сказал он. – Вы работник кладбища?
– Вроде того.
– У меня к вам дело.
Я предложил сесть на скамейку. Было ему лет под шестьдесят, то есть мой ровесник, высокий, широкоплечий, в молодости, наверное, очень сильный, спортивный, как говорится, но очень исхудавший, бледный и совсем седой.
– Вы можете захоронить здесь… одну вещь?
Стало ясно, что человек этот – с тёмным заказом. Иногда такие дела бывают очень выгодны, а иногда могут быть чреваты большими неприятностями. Он подобострастно угостил меня американскими сигаретами, объяснив, что «Винстон» – не лицензионный, а настоящий:
– Просто я прилетел вчера оттуда, – действительно, он по-русски говорил, хотя и совершенно чисто, но именно так, как говорят русские, много лет жившие за границей, появляется какая-то особенная интонация.
В таких случаях в нашем похоронном деле нужно по возможности тянуть человека за язык, чтоб хоть что-нибудь о нём узнать, а то можно так нарваться, что и бабки ни к чему.
– Что, так прям из Америки и прилетел? – я перешёл на «ты», так проще.
– Да. Я ненадолго прилетел, потому что… Вот, дело тут такое, понимаете, – он волновался.
– Слушай, друг, – сказал я, – говори, давай, толком. Учти, между прочим, что здесь, не камера хранения – вещи не захораниваем. Ну, ты покажи, чего там у тебя.
Он осторожно вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой, тёмный конверт. Я взял в руку – заклеен. Наощупь ничего понять было нельзя, но конверт очень тяжёлый, хотя с виду пустой. Качнул его на ладони:
– Что там?
– Золото, – совсем серьёзно сказал подозрительный клиент.
Я помял конверт:
– Где ж оно? Конверт, похоже, пустой…
– Просто в нём тонкий локон золотых волос, – сказал он. Но тяжело весит этот тонкий локон. Золото это, понимаете, непростое.
Я удивлённо глянул ему в лицо и вдруг, неожиданно для самого себя проговорил:
– Стёпка, это ты? – я узнал его.
– Мишка?
Теперь-то, собственно, и начинается история, ради которой я уселся за компьютер.
Много лет тому назад, в начале пятидесятых, жил я в Водопьяном переулке, у метро «Кировская», сейчас «Чистые пруды». Переулка этого давно нет, снесли там все старые дома, и площади не узнать. Раньше на углу Водопьянова, со стороны Кировской улицы была филипповская булочная, а со стороны переулка – кафе «Ландыш», и в переулке нашем громыхала и звенела тогда «Аннушка», старинный двухвагонный трамвай. Моя школа, 610-я, была на Сретенке. Стёпка, которого я встретил на кладбище полсотни лет спустя, жил со мной в одном доме, и мы учились в одном классе. В то время я был для своего возраста паренёк очень слабый, в школе меня ребята колотили, а Стёпка заступался за меня. Он был сильный, всегда уверенный в себе и, кроме того, отец выучил его приёмам японской борьбы джиу-джитсу, которая тогда ещё не вышла из моды. Мы-то с мамой жили бедно, особенно после смерти отца, а Стёпка был мальчик богатый, отец его, полковник сначала МГБ, потом КГБ, когда мы в пятый класс перешли, стал генералом. Они переехали из отдельной квартиры в нашем старом доме в новую огромную квартиру в высотке у Красных Ворот. Я до сих пор не знаю, сколько в этой квартире было комнат, хотя часто бывал у Стёпки в гостях. Для пацана из коммуналки это был дом чудес. Там сиял золотисто-коричневый, скользкий паркет и было множество мягких кресел и диванов, по которым разрешалось прыгать, сколько угодно. Там стоял огромный белый рояль. Там гудел холодильник «ЗИЛ». Там можно было смотреть передачи по телевизору без линзы, с большим полукруглым экраном. Повсюду в аквариумах плавали диковинные рыбки. Стены были увешаны коврами, ковры в некоторых комнатах даже устилали пол. На стенах висели картины и старинное оружие, которым играть не разрешалось, но можно было его рассматривать. У Стёпки было много таких игрушек, о которых тогда в Союзе никто ещё и слыхом не слыхал. Даже была электрическая железная дорога, которая, если её разложить полностью, занимала почти всю комнату. У него была своя собственная отдельная комната, и, когда приходила его мама, она всегда спрашивала: «Мальчики, можно к вам?». Я думал иногда: интересно, что она скажет или сделает, если Стёпка ей ответит: «Нет, нельзя»? Но вряд ли так можно было ответить такой маме. Она тоже была офицером КГБ. Это ведь она, только совсем ещё молодая, с фотографии на стене в прихожей целилась в кого-то из настоящего пистолета, укрываясь в густых зарослях колючего кустарника. На этой фотографии его родители были рядом в этих зарослях, в горной, каменистой, пустынной местности. Отец перезаряжал свой пистолет, держа его стволом в небо, она стреляла. Однажды при мне одна из домработниц (их было в доме двое), осторожно спросила: «Вера Петровна, это где же вы… на учениях?».
– Нет, – не вполне понятно ответила стёпкина мама, – это не на учениях, а просто… Случайно нарвались на турок. Это было на Кипре, потом помолчала и добавила. – А парень, который фотографировал нас, вместо того, чтобы вести огонь, через несколько минут погиб. Фотографировать – это у него было что-то вроде дурной привычки…
– А что это за форма на вас?
– Обыкновенная военная форма. Английская.
Вообще-то, мы должны были играть у Стёпки в комнате. Но если мы с ним начинали бродить, по квартире, никто не ругался. В одной из комнат на стене висела большая картина в золотой раме. И на этой картине была изображена, очень красивая и совсем голая тётенька. Она была даже без трусов и мирно спала на мягкой траве в какой-то зелёной долине, а позади неё – рощи кудрявых деревьев, кажется, какой-то ручей, вдали крутые горы. Мы оба часто подходили к этой картине и подолгу смотрели на голую тётеньку. Где-то внизу живота тогда возникало мучительное и сладкое томление, становилось жарко, сердце колотилось, громом отдаваясь в ушах, и кружилась голова. Однажды у этой картины нас застал сам генерал. Он засмеялся:
– Ребята, вы здесь подолгу-то не торчите. Я это всё понимаю, но рано вам ещё таращиться на такое. Это не репродукция, а вполне приличная авторская копия «Спящей Венеры» Джорджоне, я из Италии привёз. Дорогая вещь.
Летом 1960 года, когда мы со Стёпкой перешли в девятый класс, он с родителями неожиданно уехал за границу. Больше я о нём ничего не слышал. А эта картина, с голой тётенькой, мне надолго запомнилась, снилась даже иногда. Со временем забыл, конечно.
Значит, когда мы виделись в последний раз, нам было лет по шестнадцать, а сейчас по пятьдесят семь. Однако, я узнал его, сразу, с первой минуты что-то мне знакомое в лице показалось.
– Где ж ты пропадал-то?
– Да разве всё так вот расскажешь… Время есть, наговоримся ещё, а пока ты мне вот что скажи: можешь сделать для меня эту маленькую услугу?
– Конверт прикопать? Могу, но ты объясни, в чём дело. Степан, ты меня тоже пойми…
– Закопать нужно в освящённую землю, желательно под крестом и на порядочную глубину, – сказал он, – скажем на глубину вот этой твоей лопаты. И всё. Денег много, ты не стесняйся. Заплачу, сколько скажешь.
На кладбище я работаю очень давно и накрепко усвоил одно правило: Если тебя просят сделать за большие деньги какой-нибудь пустяк, ты должен ясно понимать, что именно ты делаешь, и зачем это клиенту нужно. Особенно, когда речь о том, чтоб на территории кладбища что-то в землю закопать, тем более в чужую могилу. В лопате моей, примерно, метр-тридцать. То есть, копать придётся до самой крышки гроба. Днём нельзя, надо ждать, пока люди разойдутся. Я объяснил ему, что могилу могут в какой-то момент раскопать, если будут прихоранивать урночку из крематория, а когда срок выйдет, может быть повторное захоронение.
– Это не годится, – сказал Степан. – А раз уж ты всё равно докопаешь до гроба, нельзя ли конверт этот положить прямо в гроб? Ведь гроб же не станут трогать?
– Почему это? По правилам при повторном захоронении мы обязаны перехоранивать его на штык в глубину. Тогда, золотишко, конечно, приберут. Можно найти могилу, куда повторного захоронения не будет. Это значит, которая под охраной государства. Но ты пойми, я ж должен знать, в чём дело. Пока я только вижу, что ты прячешь в надёжном месте конверт, а в конвертах, мил человек, иногда бывают такие вещи, что из-под земли даже стреляют не хуже хорошего миномёта. Не обижайся, но это очень неубедительно, на счёт золотых волос. Здесь, на кладбище таких работников, чтобы в сказки верили, вряд ли найдёшь, и я не исключение.
– Так ты посмотреть хочешь?
– Должен посмотреть. Не обижайся, – повторил я. – Ты тут пока посиди, я схожу отпрошусь у бригадира, он здесь, неподалёку. Потом, если у тебя время есть, возьмём бутылку, закусить, за встречу выпьем, и ты мне растолкуй, что к чему. А так, незнамо что, я закапывать в чужую могилу не могу ни за какие деньги.
Я сходил к своим, объяснил, что наметились неплохие бабки, но проверить придётся, нет ли подлянки какой. Потом купил бутылку «Гжелки», кое-что закусить и вернулся к Степану. Он ждал с виду спокойно, только полно окурков вокруг набросал, пока я ходил. Нашёл я укромную оградку со столиком и скамеечкой, кругом сирень, и совсем не видно нас. Стакан был у меня один.
– Ну, ты покажи мне своё чудо, пока я не выпил ещё.
Степан открыл конверт и осторожно потянул из него. Действительно, рыжие волосы.