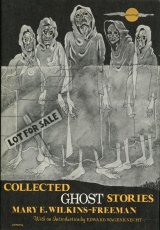
Текст книги "Нежный призрак и другие истории (ЛП)"
Автор книги: Мэри Уилкинс-Фримен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Голос раздался снова. Дианта немного изменила положение тела, с наслаждением потянулась, нащупала что-то, висевшее у нее на шее под ситцевым платьем, но не сняла. «Дианта! Дианта!» – настойчиво звал голос.
Дианта лежала так же неподвижно, как лоза ежевики, змеей изогнувшаяся около нее. Затем она услышала, как хлопнула входная дверь и прислушалась. Она снова почувствовала предмет, висевший на ее шее. Странное выражение дерзости, страха и ликования появилось на ее лице. Вскоре она услышала пронзительные детские голоса, но продолжала лежать неподвижно, словно ее целиком поглотили тень и тишина.
Мимо пробежали две маленькие девочки в розовых платьицах; они почти коснулись ее своими башмачками, но не заметили ее.
Когда они убежали достаточно далеко, она осторожно перевела дух и снова ощутила на своей шее сокровище.
Спустя некоторое время она услышала мягкий топот множества копыт по земле, пронзительный собачий лай, звон колокольчика, рассеянные крики уставшего человека. Наемный работник гнал коров домой. До нее доносился запах свежего молока, дыхание, подслащенное клевером и луговыми травами. Внезапно о ее лицо потерся холодный нос: ее отыскала собака. Но собака была ее другом. Она погладила ее и мягко оттолкнула; собака поняла, что она хочет остаться незамеченной, и с лаем вернулась к стаду. Коровы прибавили шаг, мужчина что-то крикнул. Дианта почувствовала запах дорожной пыли, клубившейся над полем, подобно дыму. Она слышала, как дети бегут по дороге позади стада. Когда какая-нибудь из коров вдруг пускалась галопом, они принимались визжать от восторга. Потом стадо прошло, она услышала звон колокольчика на ферме.
Дианта вытащила то сокровище, которое висело у нее на шее, на старенькой голубой ленточке, протянула его по направлению к низко склонившемуся закатному солнцу, и чудесные красные, синие, фиолетовые, зеленые и оранжевые сполохи заплясали перед ее глазами по лугу. Это была призма, которую она стащила из самой лучшей лампы в гостиной, – из лампы, принадлежавшей ее матери, купленной ею на деньги, полученные за преподавание в школе, до замужества, и перенесенной ею, в качестве украшения, в новый дом.
Дианта, в отношении родственников, находилась в любопытном положении. Ее мать умерла, когда она была еще маленькой, всего несколько месяцев от роду; потом ее отец женился снова, подарив ей мачеху; спустя два года отец умер, и мачеха вышла замуж, подарив ей отчима. Потом умерла мачеха, и отчим женился на вдове с замужней дочерью, двое детей которой бежали по дороге за коровами. Дианта часто задумывалась над своим положением. У нее не было даже двоюродного брата; самой близкой ее родственницей была дочь вдовы, на которой двоюродный брат ее матери женился вторым браком. Двоюродный брат давно умер. Жена его была жива, а троюродная сестра Дианты, – по ее счету, – жила в старом доме, принадлежавшем деду Дианты, через дорогу от фермы Мэй. Дом был старый, покосившийся, с огромными кустами сирени, росшими перед ним, а на крышу почти облокотилось своими ветвями большое ореховое дерево.
Дианта хорошо знала, что, «не услышав» зова к ужину, она вызовет раздражение мачехи, но продолжала лежать неподвижно. А потом пришла Либби – маленькая кузина, ступая очень осторожно и изящно; на ней были туфли матери, спадавшие с ее маленьких ножек, так что она уже дважды их теряла.
Она остановилась перед Диантой. Ее тоненькие ручки, оканчивавшиеся казавшимися слишком большими ладонями, были вытянуты по бокам, и прятались в складках выцветшего муслинового платья с голубыми цветами. На ее хорошеньком, раскрасневшемся от тепла личике, не было никакого выражения. Она казалась цветком, расцветшим в этом году, который затем расцветет в следующем, затем – через год, и так будет до самой смерти. На ее лице, когда она смотрела на Дианту, раскачивавшую призму в лучах солнца, отражалось только какое-то безразличное любопытство и восхищение.
– Это капелька с вашей лампы, которая в гостиной, – сказала она тонким, нежным голосом.
– Посмотри на поле, Либби! – взволнованно воскликнула Дианта.
Либби посмотрела.
– Скажи мне, что ты видишь? Быстрее!
– Что я вижу? Траву и прочее.
– Нет, я спрашиваю не об этом; а о том, что ты видишь.
Дианта яростно потрясла призму.
– Я вижу танцующие цвета, – ответила Либби, – такие же, какие видишь и ты. У Эдди Грин в ухе была такая же капелька, отколовшаяся от их лампы в гостиной. Ее мама отдала ее ей.
– Ты не видишь ничего, кроме разноцветных огней?
– Конечно, нет. Это все, что можно увидеть.
Дианта вздохнула.
– Капелька целая, – сказала Либби. – Как могло случиться, что она позволила тебе взять ее? – Под словом «она» девочка имела в виду мачеху Дианты.
– Я сама взяла ее, – ответила Дианта, снова вешая призму на шею.
Либби ахнула и уставилась на нее.
– Не спросив разрешения?
– Если бы я спросила разрешения, то не получила бы его. К тому же, это лампа моей матери. Я имела на это право.
– Что она с тобой сделает, если узнает?
– А почему она должна узнать? Я ничего ей не скажу.
Дианта надежно спрятала свое сокровище под льняное платье. Потом она встала, и девочки, по стерне, направились к дому.
– Я не пошла, когда она звала меня, и когда она звенела в колокольчик к ужину, – сказала Дианта.
Либби с удивлением взглянула на нее. Она никогда в жизни не испытывала желания ослушаться, а потому не могла понять идущую рядом с ней девочку. Она шла очень осторожно в своих больших туфлях.
– Что она с тобой сделает?
Дианта тряхнула головой, точно жеребенок.
– Думаю, ничего, или же оставит без ужина. Я не боюсь этого, потому что она вряд ли это сделает; но я лучше останусь без ужина, чем буду являться на ее зов, когда мне этого не хочется.
Либби взглянула на нее с восхищением. Дианта была одета аккуратно и строго, – но не со вкусом. Ее темно-синее с белым клетчатое платье было накрахмалено; оно имело строго необходимую длину; на ней был чистый белый воротничок; ее светлые волосы были аккуратно заплетены и перевязаны голубым бантом. Странным контрастом с почти идеальным внешним видом выглядело выражение ее личика, раскрасневшегося, пылкого, почти дикого, с блестевшими голубыми глазами, чего, согласно общепринятому мнению, у маленьких новоанглийских девочек быть было не должно, с румянцем на щеках, которые должны были быть бледными и холодными. Однако, личико ее стало таким тогда, когда она начала раскачивать призму в лучах заходящего солнца.
– Что ты думала увидеть, когда снимала капельку с лампы? – спросила Либби, но без особого любопытства.
– Цвета; красный, зеленый, и, конечно, желтый, – коротко ответила Дианта.
Когда они подошли к двери дома Дианты, Либби пожелала ей спокойной ночи и поспешила через дорогу к своему дому. Она немножечко побаивалась мачехи Дианты. Она знала, как та будет смотреть на саму Дианту, и по опыту знала, что этот взгляд, с тем же выражением, может быть направлен и на нее. От своих предков-пуритан она унаследовала некоторое упрямство, но не отвагу и вызов, и поэтому сбежала.
Дианта поднялась на крыльцо. Она совершенно не боялась.
Ее мачеха, миссис Зенас Мэй, мыла посуду в раковине на кухне. По всему дому разносился высокий нежный голос, нещадно фальшививший, напевавший колыбельную двум маленьким девочкам, которые должны были лечь спать сразу после ужина.
Миссис Зенас Мэй обернулась и посмотрела на Дианту, когда та вошла. Ее взгляд не сулил ничего хорошего, это был взгляд человека, твердо придерживающегося определенных взглядов, на другого, взгляды которого изменчивы, – взглядом женщины, сидящей в коляске, какой она бросает на стоящего на тротуаре. В этом не было никакого смысла, но, предполагалось, этот другой должен испытать дискомфорт.
– Где ты была, когда прозвенел колокольчик к ужину? – спросила миссис Зинас Мэй. Она была довольно симпатичной женщиной с изысканным профилем. Ее голос был очень ровным, почти совершенно лишенным интонации. Ее ситцевое платье также было тщательно накрахмалено. Ее светлые волосы были тщательно расчесаны и убраны назад.
– В поле, – ответила Дианта.
– Значит, ты его слышала?
– Да, мэм.
– Со стола уже убрано, – сказала миссис Мэй. Она продолжала полировать стаканы, ополаскивая их аммиачной водой.
Дианта заглянула в открытую дверь и увидела обеденный стол, покрытый скатертью из шенили. Ничего не сказав, она поднялась к себе. Ее комната была очень удобной – с большим окном, выходившим на юг. Она была необыкновенно чистой; пуховая перина напоминала сугроб. Дианта села у окна и принялась смотреть на сгущающиеся сумерки. Она пощупала призму, висевшую на шее, но не стала ее доставать, поскольку в тусклом свете она была бесполезна и не давала изумительной игры цветов. Дверь ее комнаты была открыта. Вскоре она услышала, как открылась дверь гостиной, и хорошо различимый голос мачехи. Та разговаривала с отчимом.
– От лампы в гостиной оторвалась капелька, – сказала она.
В ответ раздалось неразборчивое мужское ворчание.
– Я подержу лампу, а ты взгляни, может быть, она лежит где-то на полу, – сказала мачеха. Ее голос был по-прежнему ровным. Потеря стеклянной капельки от лучшей лампы, висевшей в гостиной, не могла поколебать ее самообладания.
– Не видишь? – спросила она немного погодя.
Снова послышалось неразборчивое мужское ворчание.
– Очень странно, – сказала миссис Мэй. – Ладно, хватит искать.
Она не спрашивала Дианту о призме. Сказать по правде, она считала, что это одна из ее внучек, – которых она обожала, – причина утраты капельки, а кроме того помнила, что лампа изначально принадлежала матери Дианты. Поэтому она ничего не сказала, решив, по-видимому, купить новую, когда представится возможность, так что Дианта могла не тревожиться за свое сокровище.
Она и не тревожилась, пока поиски велись внизу. Она была готова защищаться. С точки зрения справедливости, как она ее понимала, она поступала правильно. Она может сказать, что лампа принадлежала ее матери, следовательно, теперь – ей самой, и она имеет полное право распоряжаться ею по своему усмотрению. Она нисколько не боялась тех слов, какие могла сказать ей миссис Мэй. Она знала, что телесного наказания ей не грозит, но даже если бы и грозило, она его не боялась и не стала бы менять своего поведения.
Она не ложилась спать долгое время. Взошла полная луна, девочка сидела у окна, облокотившись на подоконник, сложив руки лодочкой, уперев в нее подбородок, и смотрела наружу.
Было около девяти часов, когда кто-то, тяжелыми, мягкими шагами, подобно тому, как ступает большая собака, вошел в комнату. Это был ее отчим; в руке он держал большой кусок яблочного пирога.
– Дианта, – произнес он громким шепотом, – ты не спишь?
– Нет, сэр, – ответила Дианта. Ей нравился отчим. Она чувствовала, что он очень хорошо относится к ней, даже любит.
– Вот, – сказал он, – кусок пирога. Не следует ложиться спать, не поужинав. Но в следующий раз, когда будут звонить к ужину, тебе нужно прийти.
– Спасибо, папа, – сказала Дианта, протягивая руку за пирогом.
Зенас Мэй, большой, с всклокоченными светлыми волосами, с добродушным лицом, тяжелой рукой ласково погладил ее по голове.
– Съешь пирог и ложись спать, – сказал он. После чего очень тихо спустился по лестнице, чтобы не услышала жена.
Дианта послушно съела пирог, легла в постель, а с первыми лучами утреннего солнца сняла с шеи призму и подставила под них, увидев то, что увидела, или ей это только показалось.
Дианта хранила призму и никто, кроме Либби, не знал об этом, поэтому секрет ее был в полной безопасности. Либби ничего не понимала, но хранила молчание. Даже когда она стала старше и у нее появился возлюбленный, она ничего не сказала ему; она продолжала молчать, даже выйдя за него замуж, – о том, что Дианта Филдинг постоянно носит на шее стеклянную капельку от лучшей лампы в гостиной, принадлежавшей ее собственной матери, и, когда подставляет ее под солнечные лучи, ей кажется, будто она что-то видит. Либби держала это в секрете. Она вышла замуж раньше Дианты, даже до того, как у той тоже появился возлюбленный. Молодые люди почему-то сторонились Дианты, хотя у нее было собственное небольшое состояние, унаследованное от отца и матери, и, кроме того, она была хорошенькая. Однако ее красота была не такой обычной, как красота Либби, и не привлекала деревенских молодых людей. Дианта была маленькой и худенькой, цвет ее лица напоминал фарфор, и она производила впечатление чего-то таинственного, хотя на самом деле, ничего такого в ней не было.
Но настало и ее время. Выпускник деревенского колледжа, сын фермера, поступил в среднюю школу. Увидев Дианту, он влюбился в нее, хотя и попытался противостоять своему чувству. Он говорил себе, что она слишком хрупка, что он беден, что ему следует жениться на крепкой девушке, у которой было больше шансов исполнять без затруднений свои обязанности жены и матери. Он был умен и благоразумен. Чувство к Дианте вступило в схватку с разумом, и одержало верх. Однажды, августовским днем, когда Дианте было почти двадцать, он, проходя мимо ее дома, увидев ее, сидевшую на крыльце, остановился, предложил прогуляться по лесу и там попросил ее выйти за него замуж.
– Я никогда не задумывалась о замужестве, – сказала Дианта. А затем наклонилась к нему, словно повинуясь какому-то инстинкту. Она говорила так тихо, что он не расслышал, и снова попросил ее выйти за него замуж.
– Я никогда не задумывалась о замужестве, – повторила Дианта.
Он рассмеялся торжествующим смехом и обнял ее.
– В таком случае, самое время подумать, дорогая, – сказал он.
Дианта была счастлива.
Они долго бродили по лесу, а когда вернулись домой, молодой человек, которого звали Роберт Блэк, пошел вместе с ней к ее мачехе.
– Я попросил вашу дочь выйти за меня замуж, миссис Мэй, – сказал он, – и она ответила мне согласием. Надеюсь, что вы тоже будете согласны.
Миссис Мэй сухо, без улыбки, ответила, что не возражает. Она никогда не улыбалась. Она без улыбки, как-то вопросительно, смотрела даже на своих любимых внучек. Они жили с ней с тех пор, как умерла их мать, две хорошенькие девочки-непоседы, соученицы Роберта Блэка, у которых были свои маленькие мечты о нем, впрочем, как и о каждом молодом человеке, с каким им приходилось сталкиваться.
Когда бабушка сообщила им, что Дианта выход замуж за героя, населявшего невинные воздушные замки их девичьих грез, они сначала вздрогнули от потрясения, вызванного крушением надежд; а затем задумались о своих нарядах, в каковых им надлежало предстать в качестве подружек невесты.
Миссис Зенас Мэй твердо решила, что свадьба Дианты должна быть такой же пышной, как если бы она была ее собственной дочерью.
– Люди не должны сказать, что ее свадьба и наряд были хуже, чем если бы о них позаботилась ее родная мать, если бы была жива, – сказала она.
Что касается Дианты, то она мало задумывалась о своем наряде и свадьбе, но много – о Роберте. Внезапно ею завладело чувство, о возможности испытывать которое она даже не подозревала. Она изливала душу, раскрывала самые потаенные ее уголки честолюбивому, верному, но, увы, лишенному воображения молодому человеку. Они были помолвлены уже две недели, когда, однажды, прогуливаясь с ним, она показала ему свою призму.
Она больше не носила ее на шее, как прежде. Ее охватывало все большее недоверие к ней, и все же, случались моменты, когда ею овладевали сомнения относительности справедливости такого отношения.
В тот день, когда они гуляли вдвоем по пустынной проселочной дороге, она остановилась в ярко освещенном солнцем месте, где дорога некоторое время тянулась между полями, поросшими дикой морковью и горчицей, с порхающими бабочками, вынула призму из кармана и поднесла ее к глазам своего возлюбленного.
Он удивился, даже рассердился, а потом рассмеялся с каким-то нежным презрением.
– Дорогая, какая же ты все-таки еще девочка! – сказал он. – Зачем тебе это?
– Что ты видишь, Роберт? – воскликнула девушка, и в глазах ее вспыхнул огонек, не свойственный ее времени и поколению, возможно, унаследованный от какого-нибудь далекого кельтского предка, – отражение воображения, одержавшего верх над обыденностью.
Он с изумлением посмотрел на нее, потом перевел взгляд на цветные пятна и сполохи над полем.
– Вижу? Я вижу игру цветов в призме. А что еще я должен увидеть? – спросил он.
– Ничего больше?
– Нет. Что еще я должен увидеть? Я вижу цвета, возникающие от преломления солнечных лучей в призме.
Дианта посмотрела на танцующие краски, затем на своего возлюбленного и заговорила с торжественной искренностью, словно миссионер, проповедующий уложения веры.
– С самого детства я видела, или думала, что вижу... – начала она.
– Что, во имя всего святого? – с нетерпением воскликнул он.
– Ты читал... о фэйри... о чем-то подобном?
– Разумеется. Но что ты имеешь в виду, Дианта?
– Я видела, или мне казалось, что я видела, красивых маленьких существ, которые двигаются и танцуют на искрящемся многоцветье полей.
– Ради Бога, хватит шутить! Не говори глупостей, Дианта! – воскликнул Роберт почти грубо. Он слегка побледнел.
– Я говорю правду, Роберт.
– Ты говоришь ерунду. А я-то считал тебя за разумную девушку, – сказал молодой человек.
Дианта убрала призму обратно в карман.
Весь обратный путь Роберт был молчалив и мрачен. Его старые сомнения ожили. Его рассудок на время взял верх над его чувством. Он начал подумывать, стоит ли ему жениться на девушке с такими нелепыми фантазиями. Он даже начал сомневаться, в своем ли она уме.
Он холодно попрощался с ней, а когда пришел следующим вечером, пробыл недолго. Потом несколько дней не приходил. Зашел в воскресенье, и не появлялся четыре дня. В пятницу Дианта пришла в отчаяние. Она шла по залитому солнцем полю, утопая по щиколотку в цветах и траве, пока не оказалась на краю маленького пруда, по которому зимой катались дети. Здесь она достала из кармана призму, подставила ее под солнечные лучи и впервые за много лет не увидела того, что видела, или воображала, что видела.
Она видела только игру прекрасных цветов, вспыхивающих на поле полосами и кляксами, розового и фиолетового, оранжевого и зеленого. Только и всего. Она нагнулась и выкопала в илистом грунте рядом с прудом, своими чистыми белыми руками, ямку, нечто вроде могилки, и похоронила в ней свою призму. Потом вымыла руки в пруду и размахивала ими, пока они не высохли. Затем быстро направилась через поле к дороге, по которой должен был пройти ее возлюбленный, возвращаясь из школы, и, вскоре увидела его, вздрогнувшего и покрасневшего при ее виде.
– Я хочу извиниться, Роберт, – сказала она. – На самом деле я ничего не видела; мне просто показалось.
На дороге, кроме них, никого не было. Он с сомнением посмотрел на нее, потом рассмеялся и обнял.
– Все хорошо, девочка, – ответил он, – но не позволяй подобным фантазиям поселиться в своей голове. Это простой, обычный мир, и в нем нет места таким придумкам.
– Я ничего не видела, мне просто показалось, – повторила она. Затем положила голову ему на плечо. Продала она свое первородство или нет, но она получила полную порцию любовной похлебки, наполнившей блаженством ее женское сердце.
Они с Робертом поженились и зажили в красивом новом доме, из западных окон которого был виден пруд, на берегу которого она похоронила свою призму. Она была очень счастлива. По крайней мере, на какое-то время мистическая таинственность на ее лице уступила место откровенному земному блаженству. Люди стали говорить о том, как изменилась в лучшую сторону Дианта со времени замужества, какой стала прекрасной хозяйкой, сколько в ней появилось здравомыслия, и какую они составили замечательную пару с ее обожаемым мужем.
Иногда Дианта, глядя в западное окно, видела пруд за полем, в котором отражался свет заходящего солнца, похожий на потаенный глаз земли; она вспоминала ключ к утраченным видениям и вере в сокровенное, похороненный рядом с ним. После чего, с улыбкой на лице, отправлялась готовить ужин.
САЙЛЕНС
К дому лейтенанта Джона Шелдона Сайленс спустилась по Дирфилдскому мосту уже в сумерках. Она укутала голову красным одеялом, плотно прижав его к подбородку, отчего ее белое лицо казалось еще белее между алыми складками. Весь день она пряла, и клочки шерсти местами прицепились к ее нижней юбке цвета индиго; время от времени какой-нибудь из них уносило северным ветром. Было очень холодно, глубина снега достигала четырех футов. Пар от дыхания клубился перед ее лицом, снег скрипел под ногами. По всей деревне наст был настолько прочным, что по нему можно было ходить не проваливаясь. Дома наполовину утонули в сугробах; крыши с трудом выдерживали тяжесть снега; с карнизов свисали сосульки. Вязы надели огромные белые шапки; они успели замерзнуть, так что их не могли стряхнуть даже яростные порывы ветра.
В воздухе стоял приятный запах горячей еды, хозяева готовили ужин. Сайленс уже поужинала; она, и ее тетка. Вдова Юнис Бишоп ужинала рано. Дом лейтенанта Шелдона располагался неподалеку. Она уже почти пришла, когда услышала за собой быстрые шаги по скрипучему снегу. Ее сердце забилось быстрее, но она не оглянулась.
– Сайленс, – произнес кто-то. Она остановилась и, поджав губы, ждала, пока Дэвид Уолкотт подойдет к ней. – Что ты делаешь здесь в такую холодную ночь, дорогая? – спросил он.
– Я иду к миссис Шелдон, – ответила Сайленс. – О, Дэвид, что это у тебя на плаще? Что это?
Дэвид с недоумением осмотрел свой плащ.
– Не вижу на своем плаще ничего особенного, кроме отметин, оставленных погодой, – сказал он. – Что ты имеешь в виду, Сайленс?
Наступила тишина.
– Это исчезло, – наконец, произнесла она.
– Но что ты видела, Сайленс?
Сайленс взглянула на него, ее губы дрогнули.
– Я увидела кровавое пятно, – прошептала она. – Я вижу их повсюду, весь день. Я видела их на снегу, когда шла сюда.
Дэвид Уолкотт с недоумением взглянул на нее. Он нес на плече мушкет и был закутан в плащ; его густые льняные усы были твердыми и побелевшими от мороза. Его только что сменили с поста часового, а патрулирование деревни Дирфилд в такой день, вовсе не было детской забавой, вот уже значительное время. Погода стояла такая суровая, что даже французы и индейцы, притаившиеся где-то неподалеку, подобно голодным волкам, не решались напасть на деревню и оставались в лагере.
– Что ты имеешь в виду, Сайленс? – спросил он.
– Что я имею в виду? – напряженным голосом ответила Сайленс. – Я весь день вижу пятна крови. Враг нападет на нас.
Дэвид громко рассмеялся, Сайленс схватила его за руку.
– Не смейся так громко, – прошептала она. Дэвид снова рассмеялся.
– Ты слишком взволнована, милая, – сказал он. – Я весь день стоял на страже у северного частокола и не видел на лугу ни одной рыжей лисицы. Говорю тебе, французы и индейцы вернулись в Канаду. Нет нужды их бояться.
– Я весь день и всю ночь слышала их боевые кличи, – сказала Сайленс.
– Бедняжка, у тебя голова идет кругом. Да, время нынче трудное... Но тебе следует поскорее идти в дом лейтенанта Шелдона, иначе ты попросту замерзнешь.
– Нет, моя голова в полном порядке, – ответила Сайленс, когда она поспешно двинулись дальше. – Враг прячется в лесу позади луга. Дэвид, они не ушли.
– Говорю тебе, они ушли, милая. Думаешь, мы не увидели бы дыма их лагеря, если бы они были там? Кроме того, мы высылали разведчиков. Входи, моя тетя, Ханна Шелдон, подтвердит тебе, что твои страхи напрасны.
Окна в доме Джона Шелдона горели красным – в камине пылал огонь. Дэвид распахнул дверь, они вошли. Большие поленья в камине пылали так ярко, что красным казалось все: тени в дальних углах большой комнаты казались темно-красными, лица людей – ярко-красными.
Ханна Шелдон стояла у огня, помешивая овсянку в большом котле, висевшем над огнем; несколько светловолосых детей сидели вокруг корзины, лущили кукурузу, юная девушка в желтом платье пряла, а старуха в стеганом капюшоне сидела на корточках в углу камина, вытянув к огню худые руки.
Когда дверь открылась, Ханна Шелдон обернулась.
– Добрый вечер, мисс Сайленс Хойт, – произнесла она, и голос ее был приветлив, но похож на мужской. – Проходите к огню, вы, должно быть, умираете от холода.
– Я думаю, к утру огня будет столько, что хватит согреть весь город, – сказала старуха из угла. Ее маленькие черные глазки ярко блестели из-под огромного капюшона, желтое лицо было вытянутым и сморщенным, губы криво улыбались.
– Замолчи, старушка Крейн! – воскликнула Ханна Шелдон. – Подвинь табурет ближе к огню, Дэвид, чтобы Сайленс могла присесть. Я не могу перестать помешивать, иначе каша сгорит. Как поживает в такую погоду твоя тетушка, Сайленс?
– Хорошо, если бы не ревматизм, – ответила Сайленс. Она села на табурет, поставленный для нее Дэвидом, и откинула одеяло с головы. Ее красивое лицо, исполненное серьезной и изящной величавости, склонилось к огню; ее прямые светлые волосы были уложены вокруг ушей, подобно листьям лилии; она носила высокий, прозрачный черепаховый гребень, напоминавший корону в собранных в пучок на затылке волосах.
Дэвид Уолкотт снял плащ и шляпу и стоял, глядя на нее сверху вниз.
– Сайленс все время думает об индейцах, – заметил он, и его обветренное лицо залилось румянцем, потому что его голос прозвучал слишком нежно.
– Индейцы вернулись в Канаду, – твердым голосом произнесла миссис Шелдон. Она принялась быстрее помешивать кашу, повалил густой пар.
– Я ей так и сказал, – кивнул Дэвид.
Сайленс взглянула на серьезное, властное лицо Ханны Шелдон.
– Могу я поговорить с вами наедине? – почти шепотом спросила она.
– Как только я сниму кашу с огня, – ответила миссис Шелдон.
– Дай Бог, чтобы это был не последний раз, когда она готовит кашу! – пробормотала старуха.
Ханна Шелдон рассмеялась.
– Гуди Крейн, – сказала она, – не в настроении. Подождите, пока она отведает этой вкусной каши, и, ручаюсь, через полчаса она также отправит индейцев в Канаду.
Ханна сняла кашу с огня. Поставив на стол глубокие тарелки, она пригласила всех садиться, после чего повернулась к Сайленс.
– А теперь, – сказала она ей, – идемте в спальню, если вы хотите поговорить со мной.
Сайленс последовала за ней в маленькую северную комнату, соседнюю с гостиной, много лет служившую спальней лейтенанту Джону Шелдону и его жене Ханне. Было очень холодно, толстый слой инея на оконных стеклах искрился в свете свечи. Женщины остановились у огромной кровати с балдахином, задрапированной ситцем, Ханна держала в руке свечу.
– Итак, в чем дело? – спросила она.
– Ах, миссис Шелдон! – воскликнула Сайленс. Лицо ее оставалось неподвижным, но, казалось, внутри нее трепещет душа.
– Вы просто переволновались, как сказал Дэвид, – покачала головой миссис Шелдон, и в голосе ее прозвучала материнская суровость. У Сайленс не было матери, и у ее возлюбленного Дэвида Уолкотта – тоже. Ханна приходилась ему теткой; она любила его, как собственного сына, а к Сайленс относилась, как к его невесте.
– По правде говоря, я не знаю, как это назвать, – произнесла Сайленс с каким-то сдержанным ужасом. – Весь день я чувствую на душе тяжесть, а в последнюю ночь мне приснился страшный сон. Целый день мне кажется, что я повсюду вижу кровь. Иногда, когда я смотрела в окно, снег вдруг становился красным. Миссис Шелдон, как вы считаете, французы и индейцы и в самом деле вернулись в Канаду?
Миссис Шелдон некоторое время колебалась, а потом, веселым голосом, произнесла:
– Воистину, так оно и есть! В полдень Джон сказал, что их давно уже никто не видел.
– Дэвид сказал так же, – ответила Сайленс, – но тяжесть по-прежнему гнетет меня. Вы знаете, что пастор Уильямс предупреждал нас с кафедры, умоляя не терять бдительности. Он полагает, что дикари никуда не ушли.
Ханна Шелдон улыбнулась.
– Пастор Уильямс – благочестивый человек, но он склонен всегда видеть темную сторону, – сказала она.
– Если индейцы придут этой ночью... – сказала Сайленс.
– Говорю вам, дитя мое, они не придут. Я лягу в эту кровать, уповая на Господа, и буду спокойно спать, надеясь на Него, пока не настанет время вставать.
– Если индейцы придут... миссис Шелдон, не сердитесь, выслушайте меня. Если они придут, умоляю вас, скажите Дэвиду, чтобы он остался в вашем доме и защищал вас, пусть он не ищет меня. Вы хорошо знаете, что наш дом защищен от стрел и мушкетных пуль, мы давно решили, что наши соседи, у которых дома не столь надежны, поспешат к нам и помогут обороняться. Умоляю вас, не позвольте Дэвиду выйти из дома, если сегодня вечером что-нибудь случится. Умоляю вас, пообещайте мне это, миссис Шелдон.
Ханна Шелдон рассмеялась.
– Если хотите, я пообещаю вам это, дитя мое, если это вас хоть немного успокоит, – сказала она. – При первом же воинском кличе я привяжу Дэвида к углу камина веревкой от своего фартука, если вы не одолжите мне свой. Но, ни сегодня ночью, ни завтра, ни послезавтра, мы не услышим никаких воинских кличей. Господь сохранит тех, кто верует в Него. Сегодня я выткала на ткацком станке основу, завтра я наделаю свечей, а послезавтра у меня будет готово стеганое одеяло. Я не думаю об индейцах. Если они придут, я заставлю их поработать. Не бойтесь за Дэвида, дорогая. Сказать по правде, у вас должно быть храброе сердце, если вы когда-нибудь собираетесь выйти замуж за солдата.
– Лучше бы я никогда не была для него кем-то, и он не подвергал себя опасности, защищая меня, – произнесла Сайленс, и ее слова слетели с ее губ белым облачком.
– Нам не стоит оставаться здесь на холоде, – сказала миссис Шелдон. – Идемте отсюда, отведайте горячей каши, а потом Дэвид проводит вас домой.
Сайленс послушно съела чашку горячей каши, а затем укутала голову красным одеялом. Ханна Шелдон ей помогла.
– Очень холодно, – сказала она. – Не бойтесь, мисс Сайленс, индейцы не придут сегодня ночью. Приходите завтра, и мы вместе будем делать свечи.
– Гостей будет много, целый дом, – пробормотала старуха в углу, но никто не обратил на нее внимания. Это была одинокая, несчастная старуха, которую приютили из жалости, хотя немного побаивались и считали, что у нее не в порядке с головой. Ходили также слухи, что она хорошо разбирается в некоторых вещах, особенно в общении с духами и колдовстве. Деревенские дети косо поглядывали на нее и цеплялись за своих матерей, если встречали ее на улице, поскольку шептались между собой, что старая Гуди Крейн по ночам летает на метле.







