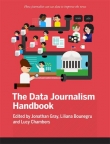Текст книги "Истоки человеческого общения"
Автор книги: Майкл Томаселло
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
4.4.2. Использование языковых конвенций
Как правило, первые признаки отсылки к внешним объектам с помощью речи появляются у детей в возрасте от 14 до 18 месяцев. До этого, в подавляющем большинстве случаев, дети на протяжении нескольких недель или месяцев общаются при помощи жестов. В исследовании Карпентер, Нэйджелла и Томаселло (Carpenter, Nagell, Tomasello 1998), все дети (а их было 24) до появления словесных обозначений предметов использовали какие-нибудь коммуникативные жесты, в основном указательные. Теоретически возможно, чтобы дети пользовались речью в контексте каких-либо совместных знаний еще до того, как они начинают употреблять какие бы то ни было жесты. Однако примечателен тот факт, что подавляющее большинство детей сначала начинают жестикулировать, тем самым создавая при помощи доречевых жестов ту базовую структуру совместных намерений, на которой основывается речь.
С самого начала детей побуждают к использованию речи в общении те же самые мотивы, что и в случае указательных жестов, а именно: проинформировать другого, попросить что-нибудь (в том числе, потребовать предоставить информацию) и поделиться своим отношением к чему-либо[15]. Младенцы часто используют свои первые речевые обороты, просто копируя взрослых и меняясь с ними ролями в аналогичных или похожих ситуациях. Например, Ратнер и Брунер (Ratner, Bruner 1978) наблюдали за тем, как маленький ребенок, которому совсем недавно исполнился год, играл со своей мамой в игру «спрятанная кукла». Раз за разом в ходе игры, в одно и то же время, когда кукла исчезала, мама, как правило, говорила: «Ничего нет». Поэтому неудивительно, что в первый раз ребенок произнес «Ничего нет», когда делал то же самое, что до этого делала его мама, и в тот же самый момент. Кроме того, поменявшись со взрослым ролями в игре с называнием предметов, ребенок сам может начать называть ему предметы. Но дети могут также перенимать от взрослых элементы речи для обозначения предметов и явлений окружающего мира, а затем использовать их не только для того же, для чего взрослый, от которого они узнали это выражение, но и для других целей. Например, многие родители, кормя ребенка, спрашивают его: «Хочешь еще?», но, когда дети начинают использовать части этого выражения, они делают это, чтобы потребовать: «Еще!» Таким образом, ребенок усваивает референциальное средство на основе родительской модели, но затем начинает использовать его для достижения своих собственных целей.
В том, как дети используют указательные жесты и речь на ранних этапах своего развития, одинаково проявляется принцип взаимной дополнительности между той информацией, которая должна быть выражена посредством отсылки к внешнему объекту-референту, и тем содержанием, которое благодаря совместным знаниям может только подразумеваться. Другими словами, указание на что-либо и речевое высказывание обладают одинаковой «информационной структурой». Так, в большинстве случаев указательный жест предполагает, что контекст, основанный на совместном внимании (уже известная обоим собеседникам, общая для них информация), будет выступать в качестве топика, а действие указания будет некоторым фактическим утверждением или фокусом, информирующем реципиента о чем-то новом, достойном его внимания. В других случаях указательный жест нужен для того, чтобы обозначить новый предмет обсуждения, о котором в дальнейшем можно будет сообщить что-нибудь еще. В речевой коммуникации обе эти функции обеспечиваются целыми высказываниями (см. в работе Lambrecht 1994, конструкции с предикативным фокусом и фокусом на предложении). Когда малыши только начинают разговаривать – то есть, когда они все еще ограничены высказываниями из одного-двух слов – они, как правило, предпочитают обозначать сложные ситуации, используя наиболее «информативное» из имеющихся в их распоряжении средств. Например, если в поле зрения появляется новый объект, или уже присутствующий объект начинает делать что-то новое, начинающие осваивать язык дети предпочитают отметить этот новый элемент наблюдаемой ситуации (Greenfield, Smith 1976). Самые последние данные свидетельствуют о том, что, начиная уже со второго года жизни, то есть на достаточно ранней стадии развития, дети определяют новый элемент ситуации, основываясь на его новизне не для них самих, а для слушателя (Campbell, Brooks, Tomasello 2000; Wittek, Tomasello 2005; Matthews et al. 2006)[16] Кроме того, многие из ранних детских высказываний представляют собой комбинации жестов (по большей части указательных) и слов, между которыми различными способами распределяются функции топика и фокуса (Tomasello 1988; Ozcaliskan, Goldin-Meadow 2005; Iverson, Goldin-Meadow 2005). А это также подразумевает существование общей психологической базовой структуры для речи и жестикуляции.
4.4.3. Выводы
Многие животные могут ассоциировать звуки с переживаемым опытом, и младенцы тоже могут это делать, начиная с возраста нескольких месяцев. Если бы освоение языковых конвенций происходило только благодаря процессам ассоциации или «установления соответствия», то речь была бы распространена среди всех животных, а младенцы начинали бы разговаривать в три месяца. Но на самом деле ни животные, ни новорожденные младенцы не усваивают и не используют речевые условные средства. Это происходит потому, что произвольно созданные конвенции можно усвоить только в контексте обобщенных совместных знаний, разделенных с уже говорящим взрослым человеком. Часто для этого необходимо включиться вместе с этим человеком в совместную деятельность. Нужно формировать совместные цели и вместе направлять на что-то внимание, а это становится возможным в ходе индивидуального развития ребенка только в возрасте около одного года, поскольку требует опоры на уникальные видоспецифические навыки и мотивы, связанные с формированием способности к совместным намерениям.
4.5. Заключение
В этой главе я попытался обосновать положение, что структура жестовой коммуникации младенцев, особенно в случае указательных жестов, приближается к той полноценной структуре коммуникации, которая есть у взрослых, и в дальнейшем, возможно, лишь немного усложняется с возрастом. При этом я предоставил эмпирические доказательства в пользу многих компонентов кооперативной модели в целом, а также в пользу трех указанных ранее частных гипотез.
Во-первых, кооперативная базовая структура оказывается уже практически полностью сформированной до того, как начинается освоение речи. Это было показано в различных рассмотренных здесь исследованиях указательных жестов у двенадцатимесячных детей. Конечно, дети погружены в речевую среду с рождения, и можно предположить, что это как-то влияет на них, даже если сами они при этом еще не разговаривают. Но глухие младенцы, не имеющие систематического опыта ни устной речи, ни языка глухонемых, выполняют свои первые Указательные жесты абсолютно так же, как и нормально слышащие Дети (Lcderbcrg, Everhart 1998; Spencer 1993). И поэтому мы можем утверждать, что видоспецифические человеческие формы кооперативной коммуникации впервые проявляются в онтогенезе в виде доречевой жестовой коммуникации, в частности, в виде указательных жестов, и поэтому не опираются на порождение и понимание речи.
Во-вторых, несмотря на то, что указательные и другие жесты, как правило, проявляются до начала освоения языка, они возникают лишь вслед за своими неотъемлемыми составляющими – навыками реализации индивидуальных и совместных намерений. Действительно, как мы отмстили, начиная с самого раннего возраста, у младенцев уже имеются, по крайней мере, два мотива, способные побудить их к выполнению указательных жестов: потребовать что-нибудь от взрослого и поделиться с ним своими переживаниями – и, кроме того, младенцы уже умеют придавать руке характерную для указательного жеста позу. Но первые указательные жесты появляются только после того, как младенцы начинают воспринимать других людей в качестве целенаправленно действующих субъектов и вступать с окружающими во взаимодействие, требующее совместного внимания. Такой онтогенетический паттерн предоставляет существенные доказательства в пользу многих гипотетических положений, входящих в кооперативную модель человеческой коммуникации, в том числе, утверждения о критически важной роли рамки совместного внимания и других видов совместных знаний.
В-третьих, то, как младенцы начинают осваивать и использовать речевые конвенции, также свидетельствует в пользу кооперативной модели. Как только мы изолируем акт референции от всех контекстов совместных намерений, в рамках которых протекает нормальное освоение речи, возникает проблема неразличимости референтов. И действительно, если взрослый использует условное речевое средство вне подобного контекста, то наблюдающий за этим ребенок не извлекает никакой информации. Но если взрослый использует языковую конвенцию внутри такого осмысленного по определению контекста, то столкнувшийся с этим ребенок часто оказывается способен понять сообщение без опоры на речь, и, таким образом, может научиться продуктивно использовать такое речевое средство. То, как дети применяют эти средства, с функциональной точки зрения не так уж сильно отличается от употребления указательных и изобразительных жестов – и, безусловно, ранняя речь часто используется вместе с жестикуляцией. Первые языковые конвенции вытесняют скорее не указательные жесты, которые часто сопровождают и поддерживают речь, а изобразительные жесты, имеющие сходные с речью механизмы функционирования в плане символизации и категоризации.
5. Филогенетические корни
Когда я хочу показать кому-то дорогу, я указываю пальцем в том направлении, куда ему следует идти, а не в противоположном… Человеческой природе сообразно истолковывать указательный жест именно так. Поэтому человеческий язык жестов в психологическом смысле первичен. Л. Витгенштейн
Утверждая, что человеческая коммуникация в основе своей кооперативна, мы сталкиваемся с одним затруднением. А именно, это затруднение состоит в объяснении её эволюции, поскольку, как известно, современной биологии требуются специальные изыскания в области эволюции кооперации, чтобы обнаружить хотя бы намеки на то, что особь альтруистично подчиняет собственные интересы интересам других особей – например, в акте помощи. Следовательно, мы должны объяснить, почему человек-реципиент с готовностью уступает просьбам коммуниканта о помощи и почему коммуникант с готовностью предлагает помощь реципиенту, безвозмездно предоставляя информацию, которая пойдет тому на пользу. Почему особи, совершающие подобные альтруистичные поступки, оставляют больше потомства?
Мы предполагаем, что человеческая кооперативная коммуникация исходно носила приспособительный характер в связи с тем, что возникла в контексте взаимовыгодных форм сотрудничества, в рамках которых особи, помогавшие другим, одновременно помогали и себе. Это не столь очевидно, как кажется на первый взгляд, поскольку в наши дни кооперативная коммуникация может использоваться в любого рода эгоистичных, нечестных, соревновательных и иных индивидуалистических целях – а значит, все они чисто теоретически могли стать контекстами, в которых закладывалась коммуникация человеческого типа. Однако обсуждаемое здесь предположение состоит в том, что исходно навыки кооперативной коммуникации возникали и использовались лишь исключительно внутри видов деятельности, направленных на сотрудничество (и, следовательно, выстраивавшихся в соответствии с совместными целями и совместным вниманием, которые, в свою очередь, обеспечивали формирование совместных знаний). И только впоследствии другие виды деятельности, не предполагающие сотрудничества и направленные на достижение некооперативных целей (таких, как обман), вобрали в себя кооперативную коммуникацию.
Непосредственная связь между совместной деятельностью и кооперативной коммуникацией наиболее ярко проявляется в том, что они обе опираются на один и тот же фундамент из рекурсивно организованных совместных целей и совместного внимания, мотивов и даже норм помощи и обмена, а также иных проявлений способности к совместным намерениям. Наличие такого общего фундамента со всей очевидностью следует из того факта, что для человекообразных обезьян характерны некооперативные формы как групповых видов деятельности, так и преднамеренной коммуникации, основанные на навыках понимания индивидуальных намерений другого, тогда как даже у очень маленьких детей складываются кооперативные формы как совместной деятельности, так и коммуникации, опирающиеся на мотивы и навыки создания совместных намерений (причем, доречевые). Поэтому нам представляется, что наше эволюционное объяснение – это нечто большее, чем очередная «мифология», поскольку общая базовая структура совместных намерений, лежащая в основе как совместной деятельности, так и коммуникативной активности современного человека, несет на себе отчетливую печать их общего эволюционного происхождения.
Чтобы продолжить рассмотрение кооперативной коммуникации за пределами взаимовыгодных контекстов, нам придется в какой-то момент обратиться к ситуациям непрямой обоюдности, когда индивида волнует его репутация среди остальных членов социальной группы, поскольку репутация хорошего помощника, всегда готового к сотрудничеству, оказывает значимое влияние на социальную успешность. Нам это понадобится прежде всего для того, чтобы объяснить склонность людей предоставлять другим информацию просто с целью помочь, вне тех контекстов, где они сами они могли бы получить обоюдную выгоду. Далее, нам в какой-то момент потребуется также прибегнуть к понятиям социальной идентификации, принадлежности к группе и конформности, чтобы объяснить потребность делиться переживаниями, функция которой, согласно нашей гипотезе, состоит в том, чтобы увеличить количество совместных знаний и усилить чувство социальной причастности, что, в свою очередь, обеспечивает своего рода внутригрупповую гомогенность, необходимую, чтобы естественный отбор мог работать на уровне культурной группы. Обращение к тем же процессам социальной идентификации необходимо и для объяснения того факта, что человеческая коммуникация подчиняется социальным нормам, диктующим, как следует поступать полноценному члену социальной группы (например, удовлетворять разумные просьбы, не лгать и тому подобное).
Наконец, в этой главе мы начнем, а в следующей – продолжим объяснять, как человеческие навыки речевой коммуникации надстраиваются в ходе эволюции над этим уже заложенным базисом кооперативной коммуникации, наделяя человека предельно гибкой, ничем не ограниченной и самой мощной формой коммуникации на планете. Для этого нам также понадобится, в дополнение к базовой структуре совместных намерений и навыкам культурного научения и подражания, включая подражание со сменой ролей, допустить возникновение общегрупповых коммуникативных конвенций. Мы покажем, что произвольно выбранные коммуникативные конвенции – сначала жестовые, а потом и голосовые (причем сосуществовавшие в течение некоторого времени) – могли возникнуть только на основе тех жестов, которые основывались на конкретных действиях (например, указательные и изобразительные жесты) и тем самым оказывались «естественным образом» осмысленными.
5.1. Возникновение сотрудничества
Обсуждаемая здесь гипотеза состоит в том, что кооперативная коммуникация человека возникла как неотъемлемая составляющая специфически человеческих форм сотрудничества. Мы не беремся здесь объяснить эволюционное происхождение повышенной предрасположенности человека к сотрудничеству вообще (прекрасный обзор см. в работе Richerson, Boyd 2005), однако беремся показать, что между характерной для человека совместной деятельностью и групповыми формами деятельности человекообразных обезьян существует точно такое же различие, как между кооперативной коммуникацией человека и целенаправленной коммуникацией обезьян. А именно, специфически человеческие формы сотрудничества и кооперативная коммуникация, в отличие от групповых форм деятельности и намеренной коммуникции человекообразных обезьян, основываются на таких факторах, как рекурсивное «считывание намерений» и склонность безвозмездно предлагать другим помощь и информацию.
5.1.1. Групповые виды деятельности у шимпанзе
В качестве человекообразных обезьян мы рассмотрим шимпанзе (именно на представителях этого биологического вида на настоящий момент проведено больше всего исследований). Шимпанзе – очень социальные существа, для них характерен целый ряд групповых форм деятельности (например, охота). Однако здесь мы должны ответить на вопрос, способны ли они к сотрудничеству в более узком смысле слова, а именно, к таким видам деятельности, когда множество индивидов преследуют совместную цель (при этом понимая, что это именно совместная цель) и берут на себя взаимосвязанные, взаимодополнительные роли. Проведенный нами анализ показывает, что этот род совместной деятельности требует навыков и мотивов для создания и реализации совместных намерений, включая в качестве базовой социально-когнитивной предпосылки рекурсивное «считывание намерений».
В естественной среде обитания шимпанзе иногда небольшими группами охотятся на мелких животных – например, на других приматов. Особенно впечатляет, как самцы шимпанзе в тайских лесах охотятся группами на черно-красных колобусов (Boesch, Boesch 1989; Boesch, Boesch-Achermann 2000; Boesch 2005). Бёш и Бёш полагают, что у животных есть общая цель и что в процессе охоты они берут на себя взаимодополнительные роли. Согласно их описанию, одна из особей, которую они именуют загонщиком, гонит жертву в определенном направлении, тогда как другие, так называемые блокирующие, забираются на деревья и не дают жертве изменить направление бегства. Потом перед жертвой появляется еще одна особь, сидевшая до этого времени в засаде, и бегство становится невозможным. Разумеется, когда охота описывается на языке взаимодополнительных ролей, она производит впечатление истинной совместной деятельности: взаимодополнительные роли сами по себе предполагают наличие совместной цели, общей для тех, кто берет на себя эти роли. Но вопрос в том, насколько здесь применим этот язык.
На наш взгляд, более правдоподобным будет выглядеть следующее описание процесса охоты (см. Tomasello et al. 2005). Один из шимпанзе начинает гнаться за обезьяной при условии, что его сородичи находятся неподалеку от него (что, как он знает, необходимо для успешной охоты). Остальные шимпанзе, в свою очередь, стремятся занять наиболее благоприятные пространственные позиции, доступные в каждый отдельно взятый момент времени в ходе разворачивающейся охоты. При этом каждый участник пытается максимизировать свои собственные шансы поймать жертву, и здесь нет ни предварительного совместного плана, ни договоренности о совместной цели, ни разделения ролей. Такая охота со всей очевидностью представляет собой довольно сложную форму групповой деятельности, в которой отдельные особи, окружая жертву, чутко реагируют на пространственное положение друг друга. Но ведь у волков и львов во время охоты происходит нечто очень похожее, и при этом большинство исследователей отнюдь не приписывают им совместных целей и/или планов (Cheney, Seyfarth 1990а; Tomasello, Call 1997). Здесь следует также отметить, что в других сообществах шимпанзе групповая охота, судя по всему, носит намного менее скоординированный характер (напр., Нгого – Watts, Mitani 2002; Гомбе – Stanford 1998): не исключено, что определяющую роль здесь играют различия в среде обитания, связанные с тем, насколько легко охотиться в одиночку, изыскивать альтернативные источники пищи и тому подобное.
Эта более правдоподобная с когнитивной точки зрения интерпретация подкрепляется также исследованиями способности шимпанзе к совместной деятельности в экспериментальных условиях. Перечислим основные факты:
• В классических работах Кроуфорда (Crawford 1937; 1941), которые иногда цитируются как свидетельства наличия у обезьян совместной деятельности, шимпанзе, работавшие в парах, не могли скоординировать свои действия до тех пор, пока не подвергались весьма существенной дрессуре. В ходе этой дрессуры особи разделялись и по отдельности обучались начинать тянуть по команде, благодаря чему обеспечивалась синхронизация действия, когда животных вновь объединяли в пару и давали команду, по которой они начинали тянуть одновременно – получается, что, по сути, случайно. Когда тем же шимпанзе впоследствии дали задачу, несколько отличающуюся от предыдущей, чтобы исследовать перенос, все пары вернулись к некооперативному поведению. (Описание исследования с еще более существенной дрессурой см. в работе Savage-Rumbaugh, Rumbaugh, Boysen 1978.)
В более успешных опытах с незначительной дрессурой или без нее в большинстве случаев координация действий между шимпанзе заключалась в том, что они обучались воздерживаться от действия (то есть ждать) до тех пор, пока партнер не окажется на своем месте и не выкажет готовности действовать (Chalmeau 1994; Chalmeau, Gallo 1996; Melis, Hare, Tomasello 2006a, b). Нет ни одного опубликованного экспериментального исследования (однако есть несколько неопубликованных работ с отрицательным результатом, включая два исследования, проведенных мною с коллегами), где шимпанзе сотрудничали бы, играя разные взаимодополнительные роли. Результативными оказались только такие исследования, где от шимпанзе требовалось параллельно выполнять идентичные роли, например, одновременно что-то тянуть.
В успешных опытах с параллельными ролями практически не наблюдалось коммуникации между партнерами (Povinelli, O’Neill 2000; Melis, Hare, Tomasello 2006a, b; Hirata, Fuwa 2006), хотя Кроуфорд в своей работе отмечает, что норовистой особи могло и достаться от партнера (Crawford 1937). В группах шимпанзе, охотящихся в естественной среде обитания, намеренная коммуникация также наблюдается крайне редко, если вообще имеет место (т. е. в коммуникации нет ничего такого, что заставило бы усмотреть за ней функцию координации действий).
Согласно этим данным, совместной деятельности, подобной той, что наблюдается у человека (групповой деятельности, в интенциональную структуру которой входят как совместная цель, так и взаимодополнительные роли), у человекообразных обезьян не бывает. И в самом деле, трудно вообразить себе двух шимпанзе, которые добровольно решили бы сделать вместе даже что-нибудь нехитрое: например, перетащить тяжесть или изготовить орудие.
Почему же шимпанзе и другие человекообразные обезьяны не сотрудничают друг с другом так, как люди? Одно из возможных объяснений состоит в том, что они не рассматривают своего партнера как отдельного участника событий и не понимают, что он воспринимает и каковы его цели (Povinelli, O’Neill 2000). Поскольку цели и содержание восприятия других индивидов не воспринимаются непосредственно и, следовательно, требуют умозаключения, мы и сами поначалу полагали, что постижение чужих целей и представлений и раскрытие их взаимодействия в рамках целенаправленного акта доступно только человеку (Tomasello, Call 1997). Однако новые исследования, многие из которых обсуждались выше, в разделе 2.4.1, заставили нас кардинально изменить свою точку зрения. Человекообразные обезьяны понимают, что у других есть цели и представления, и даже понимают, как эти составляющие соотносятся друг с другом в рамках преднамеренного, а быть может, и разумного действия. Следовательно, причина того, что они не способны к такому же сотрудничеству, как люди, коренится в чем-то еще. Для читателя не будет неожиданностью наше предположение, что хотя человекообразные обезьяны и понимают действия другого как независимого субъекта, обладающего собственными намерениями, у них нет ни навыков, ни потребности ставить совместные с другими цели, участвовать в актах совместного внимания или в иных формах проявления совместных намерений.
Эту интерпретацию подтверждают результаты наших недавних экспериментов. Варнекен, Чен и Томаселло (Wameken, Chen, Tomasello 2006; см. также Warneken, Tomasello 2007) вовлекали детей в возрасте 14–24 месяцев и трех выросших в неволе шимпанзе-подростков в выполнение четырех заданий, требовавших сотрудничества: это были две задачи на достижение конкретной цели и две социальные игры, в которых не было никакой конкретной цели, кроме самой игры (например, партнеры использовали нечто вроде батута для совместного подкидывания мячика в воздух). Партнер-взрослый в определенный запланированный момент переставал участвовать в процессе, что было необходимо для того, чтобы оценить степень вовлеченности испытуемого в совместную деятельность. В исследовании были получены вполне однозначные и внутренне согласованные результаты. В заданиях, предполагавших решение конкретной задачи, шимпанзе относительно успешно координировали свое поведение с поведением партнера, подтверждением чему стал тот факт, что они часто добивались успеха в достижении желаемого результата. Однако интереса к социальным играм они не выказывали и, как правило, отказывались принимать в них участие. Что наиболее важно, когда партнер-человек прекращал играть свою роль, ни один из шимпанзе не предпринял коммуникативной попытки вовлечь его вновь, даже в тех случаях, когда шимпанзе были, казалось бы, высоко мотивированы достижением Желаемого результата – и, следовательно, совместной с партнером Цели у них не было. Дети, напротив, сотрудничали с экспериментатором как в задачах на достижение конкретной цели, так и в социальных играх. Более того, иногда они даже пытались превратить задачу на достижение конкретной цели в социальную игру, засовывая полученное вознаграждение обратно в аппарат, чтобы начать сначала. Само по себе сотрудничество с экспериментатором оказалось для них важнее, чем достижение конкретной цели. А главное, когда взрослый переставал участвовать в процессе, дети активно пытались вовлечь его снова, вступая с ним в коммуникацию: следовательно, у них складывалась совместная с партнером цель, к которой они теперь пытались его вернуть. В общем и целом, дети вступали в сотрудничество ради сотрудничества, тогда как участие шимпанзе в совместной деятельности было более индивидуалистичным.
Эта интерпретация подтверждается также и данными недавнего лонгитюдного исследования, где у тех же самых трех шимпанзе оценивалось развитие целого спектра социально-когнитивных навыков (Tomasello, Carpenter 2005; см. также Tomonaga et al. 2004). Было обнаружено, что шимпанзе не слишком отличаются от маленьких детей по социально-когнитивным навыкам, носившим более индивидуалистичный характер: например, таким, как понимание того, что воспринимают и какие цели перед собой ставят другие. Но в наборе простых задач на сотрудничество, где человек и шимпанзе должны были играть взаимодополнительные роли (например, человек протягивал дощечку, а шимпанзе клал на неё игрушку), если человек понуждал шимпанзе обменяться ролями, то шимпанзе этого не делали, либо просто продолжали осуществлять свои действия безотносительно к тому, что делает человек. Маленькие дети в аналогичных опытах не только с готовностью брали на себя противоположную роль, но еще и выжидательно смотрели на взрослого, предвосхищая, что он тоже будет играть новую для себя роль в их совместной деятельности (Carpenter, Tomasello, Striano 2005). Мы интерпретируем это так, что ребенок способен увидеть совместную деятельность, включая совместную цель и взаимодополнительные роли, «с высоты птичьего полета», в формате единой репрезентации, что позволяет ему в случае необходимости осуществить обмен ролями. Шимпанзе, напротив, способны взглянуть на свои действия только со своей собственной точки зрения, а на действия партнера – со стороны, но целостной картины взаимодействия у них при этом нет – а значит, по сути, для них нет ни ролей, ни смысла в обмене ролями в рамках «той же самой» деятельности.
Что касается совместного внимания, наиболее систематическое сравнительное исследование было проведено Карпентер, Томаселло и Сэвидж-Румбо (Carpenter, Tomasello, Savage-Rumbaugh 1995; сходные наблюдения см. также в работе Bard, Vauclair 1984). В этом исследовании осуществлялось наблюдение за взаимодействием восемнадцатимесячных детей, шимпанзе и бонобо со взрослым экспериментатором и с некоторыми предметами. Интерес исследователей был сфокусирован на объективно регистрируемых устойчивых особенностях зрительного поведения испытуемых. В данных условиях все гри группы испытуемых вступали во взаимодействие с предметами и в то же самое время умеренно часто возвращались к слежению за поведением взрослого. Однако младенцы гораздо больше времени, чем обезьяны, проводили, глядя то на предмет, то на взрослого, и они в среднем вдвое дольше обезьян смотрели на его лицо. Взгляды младенцев иногда сопровождались улыбкой, в то время как обезьяны нс улыбались. Эти различия создавали такое впечатление, что обезьяны смотрели на человека, чтобы что-то «проверить» (посмотреть, что он делает или собирается сделать), в то время как младенцы глядели на взрослого, чтобы чем-то с ним «поделиться» (разделить свой интерес). Обезьяны знают, что у окружающих есть свои цели и представления о мире, но неспособны, да и нс испытывают желания делиться ими. Обезьяны-испытуемые взаимодействовали с окружающими по поводу предметов, но не участвовали в совместной деятельности, которая характеризовалась бы совместными целями и переживаниями. Томаселло и Карпентер (Tomasello, Carpenter 2005) столкнулись с очень похожим явлением. В их исследовании экспериментатор в процессе игры с предметами пытался разными способами побудить трех выращенных в человеческом окружении шимпанзе включиться вместе с ним в акт совместного внимания. Шимпанзе иногда бросали на взаимодействующего с ними человека взгляд, чтобы проверить, чем он занимается, но они не смотрели на него так, как если бы хотели разделить с ним интерес и внимание к какой-то третьей сущности. Кроме того, они не пытались создать ситуацию совместного внимания при помощи жестовой коммуникации. В данном эксперименте они не использовали сложившийся у них совместный с человеком опыт для того, чтобы определить, что будет для него новым, и, следовательно, удивительным (как это делают младенцы: см. Moll et al. 2006).
С учетом этих и других результатов (обзор см. в работе Tomasello et al. 2005), становится очевидным, что человеческие дети создают с окружающими совместные цели и, сотрудничая с другими людьми, исполняют взаимодополнительные роли. Наши ближайшие родственники среди приматов так не поступают. Необходимым условием для совместной деятельности является наличие совместной цели и готовности всех участников деятельности преследовать эту цель сообща. При этом каждый из них должен понимать, что он разделяет эту цель и готовность с другими (Bratman 1992; Gilbert 1989). Совместные цели также определяют структуру совместного внимания, поскольку, когда мы вместе с партнером пытаемся достичь какой-либо общей цели, причем мы оба понимаем, что мы это делаем, то это совершенно естественным образом приводит нас к отслеживанию состояния внимания друг друга. И, следовательно, важнейшая причина того, что обезьяны не участвуют в совместной деятельности и не включаются во взаимодействие, основанное на актах совместного внимания, как люди, заключается в том, что хотя у них и есть сопоставимые с человеческими навыки распознавания индивидуальных намерений окружающих, у них нет мотивов и навыков разделения намерений, присущих человеку.