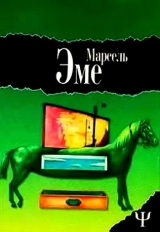
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Я решил проиллюстрировать конкретным примером замечание доктора Карреля для того, чтобы представить его в привычном свете, когда явственно видно то, чем оно шокирует некоторые наши привычные представления. Отчего что-то шевелится в животе Эпонины, когда она сталкивается с Шаполье? Оттого, что он мужского пола? Несомненно, и тем не менее мы знаем, что если бы Шаполье был не сыном знаменитого отоларинголога, а приказчиком колбасника, Эпонина ничего бы не почувствовала. И этого достаточно, чтобы доказать, что социальное положение мужчины в глазах женщины имеет большее значение, чем его внешность, поскольку воздействие мужского обаяния зависит от таких неожиданных факторов, как наличие спортивного автомобиля, заполненная адресами записная книжка, монокль, галстук, некоторая небрежность, членство в каком-нибудь клубе, дворянская фамилия, родственные и другие связи, золотая цепочка, фамильный герб, несколько пар перчаток, футляр для сигар, в общем, все вещи ясно различимого диапазона. Меня могут упрекнуть в намеренной экстраполяции, мне могут бросить в лицо, что любовное поведение богатых девиц нельзя применять как мерку для девушек из народа. Но я, человек, живущий на улице Сен-Мартен, я мог заметить, что последние ведут себя точно так же. Меня зовут Эпонина. Я работаю машинисткой в лаборатории Бессьер, где мой папа был по очереди чернорабочим, посыльным и наконец ночным вахтером, когда он достиг возраста, в котором годился только на это. У меня большие глаза, маленькие зубы, тугие икры и уютный бюст – без хвастовства могу назвать себя милашкой. Мужчины со мною любезны, и немало их подъезжает ко мне со всякими предложениями. В конторе их можно разбить на две категории: с одной стороны, работники нижнего уровня, с другой – инженеры и управленцы. Я не сноб и ни капельки не ханжа, я вовсе не молюсь на дипломы да на «вольных художников». Мне легко и свободно с шоферами, рассыльными, кладовщиками – в большинстве молодыми. У меня с ними дружеские, часто непринужденные отношения, но красавцы они или нет, ни к одному из них я не испытываю физического влечения. А рядом со всеми ними – можете смеяться – я вижу инженера-химика Лепандье, с которым мне часто приходится иметь дело; старик лет под шестьдесят и вовсе не красавец, с усами грязно-рыжего цвета, и все же, когда временами он смотрит мне в глаза, то от его взгляда у меня внутри все сжимается. И Лепандье этот не один, там есть и другие – среди техников или администрации. Человек, от которого у меня кровь бурлит, вот с кем бы я могла построить свою жизнь, и при этом главное не деньги, а все, что относится в его поведении, манерах к его профессии и среде. Поэтому-то вечное женское начало – это не обязательно быть тихой жертвой, которых нам описывают в книгах и дамских журналах, жертвой, постоянно томящейся на огне фатальности, со вздохами и проникновениями отдающейся на съедение самцу. Скорее всего это противоположное начало. Не будем заблуждаться – в любви отношения между полами прежде всего социальные.
IVДойдя до конца первой главы синей тетради, я услышал, как открылась и закрылась входная дверь квартиры. Мишель поднял голову и крикнул: «Какого черта!» Но в проеме двери столовой уже стоял парень лет двадцати пяти, не по сезону одетый – в рубашке когда-то зеленого цвета поверх серых вельветовых штанов, стянутых черным кожаным ремнем. Симпатичная внешность, красивые голубые глаза, взъерошенная копна светлых волос, тщательно неухоженная светлая борода, вся съехавшая влево, как от порыва ветра.
– Прости, – сказал Мишель, – я не знал, что это ты.
– Я просто принес тебе деньги.
– Хорошо. Положи там.
Парень положил на стол три тысячефранковые банкноты и вышел из комнаты, а потом и из квартиры.
– Странная на нем одежда, – заметил я. – Ему вряд ли жарко.
– Он всегда в этом – и летом, и зимой.
– Чем он занимается?
– Изучает какой-то восточноафриканский диалект, на котором говорит всего несколько тысяч туземцев.
На мой вопрос, что побудило парня на это дело, он добавил:
– Ему интересно это занятие, хоть он и знает, что оно никогда ему не пригодится.
Столь краткое объяснение не пробудило во мне любопытства, но позднее, после определенных размышлений, оно посетило меня. Я чувствовал себя несколько потерянным в жизни своего брата и неловко пытался вновь открыть его для себя, не зная, как воспользоваться предоставлявшимися возможностями. Я заговорил о первой главе, даже не подумав как-то похвалить его, ибо он был абсолютно нетщеславен и даже несамолюбив.
– Я бы не сказал, что твой принцип главенствующего «социального» начала двигал Валерией, когда она решилась стать моей невестой.
– Ты, конечно, не персидский шах, однако и главный бухгалтер был для нее хорошей партией. Во всяком случае с тобой она чувствовала себя надежно, знала, что можно рассчитывать на крепкую семью.
– А с тобой?
– Со мной все наоборот. Она поняла, что я человек никудышный, неприспособленный к жизни, и потому, не задавая себе никаких вопросов, решила не дать мне потонуть. Так что главное – социальное начало, и это верно для всех. Кстати, как ты собираешься жить? Если хочешь, можешь забрать ее себе. И вообще, я сплю в этой комнате, на диване, а тебе придется делить спальню с ней: ты на большой кровати, а она – на медной.
Это предложение застало меня врасплох. В тюрьме мне в голову не приходило, что я смогу вернуться в свой дом. После всего, что произошло, и несмотря на мою привязанность к Мишелю, мысль о совместной жизни с Валерией и с ним показалась бы мне абсурдной, но он говорил об этом так естественно, что я засомневался, был ли я прав в своих суждениях.
– Все не так просто, как ты, может быть, думаешь. Надо же считаться с Валерией, вряд ли ей понравится жить со мной в одной комнате.
– Эка важность! Она рассказала мне о вашей встрече в гостинице. Раз уж ты считаешь ее уродкой, то и проблем никаких не будет.
– Да, но ведь есть еще и жильцы. Мне повезло, что я сейчас никому не попался на глаза. Но неизвестно, как они поведут себя, если я останусь здесь жить.
Тут Мишелю удалось меня успокоить. Жильцы дома не очень переживали из-за смерти Шазара, так как всем им приходилось испытывать в свое время на себе всплески его раздражительного характера. Некоторые думали даже, что поскольку у него была мания преследования, он становился опасным, и хотя никто не заявил об этом на суде, все они были уверены, что я просто защищался. Мне подумалось, как одинок Шазар остался даже в своей смерти, и у меня слегка защемило сердце.
– Ты переедешь сейчас же? – спросил Мишель.
Я ответил, что нет, как будто речь шла только о времени моего переселения. Перед тем как уйти, я пошел в спальню взять кое-какое белье из шкафа. Эту спальню наши родители купили почти новой году в 30-м у жильца, уезжавшего на Мадагаскар. Большая кровать стояла слева от окна мансарды, дальше был зеркальный шкаф, а напротив, у правой стены, – туалетный столик с овальным зеркалом над ним. Стулья и кресло были обтянуты красным бархатом, который уже пообтерся и выцвел до розового цвета. Справа от двери, находившейся прямо против окна, стояла медная односпальная кровать, купленная в 37-м году, когда родители предложили приютить у нас кузину Анжель из Бержерана, которая благодаря политическим связям поступила продавщицей в универмаг «Бон Марше», а через полгода вышла за капитана жандармерии, получившего вскоре назначение в Тунис.
Я попытался представить себе совместное житье в этой комнате. Часам к девяти вечера, после ужина, Мишель уходит, а Валерия и я остаемся одни в маленькой двухкомнатной квартире. Желание жить с братом было так велико, что присутствие Валерии не казалось мне препятствием. Я подумал, что хотя и был когда-то ее любовником, а потом женихом, все-таки ее не любил, и тут же, как Мишель в своей тетради, я задал себе вопрос, а что же такое любовь. Наверное, я знал об этом не больше него.
Выходя из квартиры, я столкнулся с довольно хорошо одетым молодым человеком, круглолицым и розовощеким, в очках с толстыми стеклами. Видя, что я закрываю за собой дверь, он спросил: «Носильщик дома?» Я весьма кстати вспомнил, что Носильщик – это актерский псевдоним Мишеля, и ответил, что Носильщик никого не хочет видеть, а затем, припомнив предыдущего гостя, спросил, не деньги ли он принес. Молодой человек покраснел, застеснялся и после небольшой паузы ответил:
– Такое невезенье, я совершенно пуст. Конечно, я мог бы дать франков двести, хотя… Поймите, я учусь в Высшей нормальной школе, родители мои – тупые рабочие, социалистишки и патриотишки (долой рабочий класс!), но с набитой мошной. Они были против моей учебы, и учителю из начальной школы пришлось биться за меня. Теперь же, когда мне двадцать два года, а я все еще не зарабатываю себе на жизнь, им противно. В результате – у меня ни копейки.
– Не подумайте, что Носильщик сидит и ждет, когда ему что-нибудь принесут.
– Мне это незачем объяснять. Я его никогда не видел, но знаю, какой он. Я у нас в школе организовал группу имени Носильщика. Ну, группа – это, может быть, громко сказано, нас всего трое.
Мы пошли вместе вниз по лестнице, и я при этом не скрывал сильного удивления, пылкими чувствами, которые Мишель внушал будущему педагогу.
– Вы говорите, что никогда Носильщика не видели. Но что же заставило вас прийти к нему?
– Мне трудно это сейчас объяснить. Не помню точно, когда я услышал о нем впервые. Так или иначе, я знаю нескольких ребят, которые видели его и говорили с ним. Да, говорили!
Лицо моего мордастика вдруг сделалось пунцовым, и глаза его засверкали за толстыми стеклами очков.
– Но все-таки, – спросил я снова, – что вас зацепило в том, что вам о нем рассказывали? Может, его подход к некоторым творческим и политическим вопросам?
– Скажите еще, что у него есть собственная теория! – Студент презрительно усмехнулся. – Нет, старина, не трудитесь. Носильщика так по косточкам не разбирают. Носильщик – это глыба. Он Носильщик, и этого достаточно.
Мы спустились на первый этаж. Консьержка увидела меня в окошко, и я услышал, как она отворила дверь своей каморки. Но я был не один, и любопытство ее осталось неудовлетворенным. Я лишь повернул голову в ее сторону и улыбнулся в знак приветствия. В свое время она свидетельствовала в суде в мою пользу с горячей симпатией и отвечала на въедливые вопросы обвинителя с агрессивным презрением.
На улице мой студент внезапно схватил меня за руки и воскликнул:
– Скажите, вы ведь были у него, вы его знаете! Расскажите.
– Что вам рассказать? Тут нечего рассказывать.
– Нечего рассказывать! Да-а. Это уж точно Носильщик! Не-че-го рас-ска-зы-вать! Когда я скажу это Форлону и Кутюру, у них глаза на лоб вылезут. Они ведь говорят о нем без умолку. Нечего рассказывать!
С этими словами он отпустил мои руки, и мы расстались: я двинулся в направлении заставы Сен-Мартен, а мордастик какое-то время неподвижно стоял на тротуаре, провожая взглядом человека, знавшего Носильщика.
Я вернулся на улицу Эжена Карьера часов около семи. Татьяна была уже дома и очень кстати, сказала она, потому что ее мать забыла положить ключ под половичок, как мы условились, а возвратиться должна была Бог знает когда.
Мне нужно было много чего рассказать, и начал я с визита к Лормье. Как он тебе? Морда его мне не очень понравилась, но в нем есть какая-то сила. Он тебе нравится, потому что сказал, что ты красива. С полчаса мы спорили, есть ли у Лормье достоинства, кроме богатства, и есть ли у него другие выпуклости, кроме тела. Я чувствовал, что Татьяна увлечена. Днем Лормье прислал ей корзину орхидей. Я издал сигнал тревоги и сказал ей:
– Ты посмотри на себя, задери юбку, одни твои ноги стоят всех царств земли, а про остальное можно думать, только приняв все меры предосторожности. Ты же не собираешься попадаться в сети этому жировику, этому пузырю?
Татьяна сухо заметила:
– Если меня что и возбуждает, так это мысль об этой стотридцатикилограммовой туше на моем теле.
Мы сидели на диване в столовой, и ее большие зеленые глаза, устремленные прямо в мои, были полны вызова. Устав от многих лет напряжения, бедности, от проблем с пальто она готова была сдаться, втягиваемая в перспективу легкой жизни. Продолжая настаивать на своем, я взял ее за плечи, но она высвободилась и с такой силой влепила мне пощечину, зацепив ребром руки по носу, что у меня хлынули слезы, а она уже размахнулась другой рукой, но я так резко поднял руку, защищаясь, что больно ударил ее по шее. Она побледнела и, казалось, сейчас упадет в обморок. И тут я почувствовал к ней большую нежность, обнял ее и тихо заговорил. Постепенно лицо ее вновь обрело нормальный цвет. Она бросилась к моим ногам, крича, что она мерзость, негодяйка, как она могла поступить так со мной, только вчера вышедшим из тюрьмы, она призывала на свою голову все небесные кары. Впрямь по Достоевскому. Ей вдруг самой пришло это в голову, и мы вместе рассмеялись. Затем я рассказал о встрече с Валерией, о гостиничном номере, о стриптизе. Татьяна захлопала в ладоши и расцеловала меня. Мне от этого стало только легче продолжать. Не осмелившись признаться, что я понапрасну прождал Мишеля в кафе, я сказал, что ходил к нему домой. Татьяна нахмурила брови: ну и что? как он там?
– Довольно странный. Еще более странный, чем два года назад. В общем, – добавил я с улыбкой, – очень смахивает на Носильщика.
– Он очень похож на Носильщика? Этот тюфяк без сердца и внутренностей? Не смеши меня. К счастью, Носильщик – это совсем другое. Не терпится с ним познакомиться. Кстати, мне уже пообещали встречу с ним. Но Носильщик – это целый мир, его собственный мир! И если твой брат заговорит с тобой о Носильщике, пошли его куда подальше.
Татьяна, разумеется, не интересовалась короткой театральной карьерой Мишеля и не знала, а может, и забыла его театральный псевдоним. Я спросил, что она знает о Носильщике. Немного, как я понял, но он представлял для нее – то ли как предчувствие, то ли как желание – некоторую мораль, основанную на очевидных эстетических принципах. Я не счел нужным разуверивать ее относительно подлинной личности ее героя. Мне показалось, что будет лучше и здоровее восхищаться более или менее воображаемой личностью, выделанной лучшим, что есть у тебя самого.
Оставалось сказать самое трудное: о предложении Мишеля вернуться в семейное гнездо. Возвращение я постарался изобразить как нечто само собой разумеющееся, я ожидал, что Татьяна враждебно отнесется к этому, но не мог и подумать, что она взорвется от возмущения. У тебя что, никакой гордости нет? Ты что, предпочитаешь провести остаток жизни, ползая в грязи, барахтаясь в нечистотах? Неужели ты так глуп и не понимаешь, что брату твоему надоела Валерия и он думает, как спихнуть ее тебе? Не говоря уж о том, что за те копейки, которые ты будешь зарабатывать у Лормье, тебе придется содержать их обоих.
– Ты просто телок, олух, тряпка, слабоумный, но я не могу позволить тебе опуститься, не могу допустить, чтобы ты завшивел. Я попрошу тебя там больше не появляться. Я запрещаю тебе ходить туда!
Вот что я выдвинул в противовес ее доводам: во-первых, квартира на улице Сен-Мартен моя, а во-вторых, надо же мне иметь хоть какое-нибудь жилье, пусть даже комнату прислуги, которую тоже не так просто найти. Что до Валерии, то после гостиницы с ней покончено раз и навсегда. Татьяна встала и заходила взад и вперед по комнате, осыпая меня ругательствами и поношениями. Валерия, говорила она, предала тебя, перейдя к Мишелю, поэтому пусть выкручиваются сами. Но если же ты решишься, то дело ясное – учитывая твою мужскую натуру, не пройдет и трех дней, как случится то, чего стоит опасаться. А если тебе негде жить, то живи здесь. Зачем искать что-то другое?
– После того как ты провел эти два года в каталажке, тебе, чтобы приспособиться к нынешним тяжелым условиям, нужна забота, тебе нужна обстановка доверия и тепла. Где еще ты можешь на это рассчитывать, если не здесь, рядом с двумя такими женщинами?
Татьяна стала коленями на диван и прижала мою голову к своему плечу. Это было хорошее средство убедить меня. Я вдыхал чуть резковатый запах ее тела и одним глазом видел в ее пеньюаре начало груди, натягивавшей ткань. Я уложил ее на диван и сам стал на колени рядом с ней.
– Ты думаешь, я смогу жить вот так рядом с тобой и не потерять голову? Или ты согласна с тем, что рано или поздно я влезу к тебе в постель?
Татьяна не ответила и посмотрела на меня с вызывающим любопытством.
– Если я поселюсь у тебя, мне не надо быть ни красивым, ни соблазнительным. Достаточно просто того, что я буду здесь. И это окажется удобным. И это может оказаться удобным.
– Что бы ни случилось, Мартен, дело ведь совсем не в этом.
– Представляешь, Мишель вздумал взяться за перо. Он начал писать (но, правда, потом бросил) нечто вроде эссе о любви.
Не обращая внимания на смешок Татьяны, я вкратце рассказал ей содержание первой главы и процитировал заключение: «В любви отношения между полами прежде всего социальные». И когда я произносил эту фразу, вошла мадам Бувийон.
– Все верно, – подтвердила она, – прежде всего социальные. Когда я впервые встретилась с Адрианом в 19-м году, мне сразу же захотелось, чтоб он женился на мне, и не только потому, что он был красив, но и потому, что на нем была красивая форма. Я подумала тогда: такой красавец, так хорошо одет и все эти его медали, он должно быть богатый. Нет, я не рассчитывала на его деньги и не пыталась узнать о его состоянии – какой ужас! – но один вид всего этого богатства зачаровывал меня, вскружил голову и затронул сердце. И еще скажу, потому что это правда, Адриан мне казался очень умным, пока я считала его богатым, а потом – нет. Пусть он простит, если только слышит мои речи, что у меня такая мелкая душонка.
– Мама, что если ты нас накормишь ужином? Кстати, сообщаю, что, уходя, ты забыла положить ключ под коврик. Хорошо, что я рано вернулась, а то Мартену пришлось бы торчать у входа.
– Так вот оно что! – воскликнула Соня. – Весь вечер мне было не по себе. Я хотела сходить в кино, но на Елисейских полях повстречала Дуню Скуратову, и она пригласила меня выпить чаю. Несколько часов подряд она рассказывала о своем внуке – он поступил в этом году в Политехникум – и о внучке, которая уже стала кинозвездой. Бедная старая сорока, она так гордится ими. А я вовсе не тщеславна, но все же сказала Дуне, что ты защитила кандидатскую по математике.
– Как можно, мама? Это так глупо. Я часто вижусь с Пьером Скуратовым. Он прекрасно знает, что я провалилась и работаю манекенщицей.
– Ты права, но Дуня вряд ли знает, что такое кандидатская, а кроме того, она уже забыла, о чем мы говорили. Это все равно, что твой отец. Как-то он попросил рассказать о дворянстве моей семьи, а я, чтоб он отвязался (и это было так плохо), сказала, что мы были в родстве с Толстыми. Но Адриан не знал, кто такой Толстой, и все это забыл. Он был такой добрый. Как бы я хотела никогда не лгать, но вот нет-нет, и ложь сама вылетает из меня, да еще без причины.
За ужином, призвав мать в свидетели, Татьяна ругала меня за наивное желание вернуться в квартиру на улице Сен-Мартен.
– Если он любит брата, – ответила Соня, – то понятно, почему он хочет жить с ним.
– С братом, который сначала бросил его, а потом и предал?
– Близкие люди быстро забывают обиды.
VНа следующее утро в девять часов я представился начальнику кадров СБЭ Келлеру, который принял меня холодно, как проныру, навязанного ему вышестоящими, от которого фирме не будет никакого проку. Впрочем, он тут же сплавил меня секретарше, выдавшей мне чистые бланки анкет. В графе о месте жительства я указал дом на улице Сен-Мартен. Когда с формальностями было покончено, она проводила меня в пустой кабинет – малюсенький, с одним-единственным столом и стулом. Я должен буду сидеть здесь, объяснила мне секретарша, пока начальник отдела кадров не подыщет мне должность, но когда это случится, она не может сказать даже приблизительно, так как на данный момент штаты заполнены, и это означало, что я – нахлебник на шее у СБЭ. Выработанная в тюрьме привычка очень помогла мне переносить одиночество и бездействие в этой комнатушке, по размерам мало отличавшейся от камеры. На первый взгляд достаточно было минуты, чтобы осмотреть все, что есть в этом убежище, но нужно долго прожить в тюрьме, чтобы научиться досконально обследовать такое замкнутое пространство. Я посмотрел в окно, выходившее во двор, и сел на стул, задвинув колени под стол. В тумбах слева и справа от моих ног было по три ящика. Все они были совершенно пусты, кроме шестого – правого нижнего, в котором я обнаружил шариковую ручку. Поразмышляв минут пять, я вытащил ящик из стола, перевернул вверх дном и увидел то, что, собственно, и ожидал: с этой стороны ящик был полностью исписан шариковой ручкой. Я задвинул ящик и повторил операцию с первым – левым верхним, обратную поверхность которого покрывал тот же почерк. Не тратя времени на проверку остальных ящиков, я принялся читать:
«Первую машину я угнал в шестнадцать лет. Наш шофер научил меня на каникулах водить „бьюик“ отца. Я увидел, как какой-то тип остановился на Университетской улице и направился к табачной лавке. Я быстренько уселся в машину и погнал. Поехал по западной автостраде, туда, обратно, гнал на всю катушку, а потом бросил его драндулет недалеко от нашего дома, на улице Пасси. Большого кайфа я не получил. Чтобы как следует позабавиться, нужно быть в машине вчетвером или впятером, предварительно хорошенько поддав, а потом можно пореветь и покататься со смеху, обгоняя другие машины, да при этом еще и цепляя их. Надо сказать, что в те времена жизнь мне казалась довольно нудной. Я тогда поговорил с предками и объявил им, что учеба моя движется кое-как. „У тебя нелады с правописанием“, – заметил отец. „Я от этого не комплексую“, – был ему ответ. „Но все ж таки, чем ты собираешься заняться?“ – „Буду жить, как мама, за твои бабки. Устрою себе небольшую светскую жизнь“. Разговор на этом закончился, но из коллежа я ушел. И что меня стало беспокоить, так это то, что нудился я, как и раньше. Сидеть дома – нет, ни за что, там пустота, матери никогда нет, отец всегда на работе, как он говорил, ответственного работника. Старый шнурок. Я еще пешком под стол ходил, а он уже был ответственным работником. Хотя и тогда все было, как сейчас. Я оставался один с бонной и гувернанткой моей сестры флоры (что за идиотское имя), которая к тому же присматривала и за моей учебой. Эта мадемуазель была низенькой костлявой брюнеткой, от которой в доме не прибавлялось уюта. В один из четвергов флора спала (мне уже было двенадцать лет), и мадемуазель повела меня в кабинет поговорить о моем правописании, а я, чтобы учинить что-то возмутительное, запустил руку ей под юбку. Я ожидал, что она закричит или отхлещет меня, но она раздвинула ноги и, бледная, смотрела, как моя рука, скользнув по чулку к застежке, замерла на трусиках. В конце концов я завалил ее на ковер, все повторилось на следующий день и во все последующие, но бонна, которая на дух не переносила гувернантку, поняла, что происходит. Как-то, когда мы голые лежали друг на друге, она вошла в кабинет вместе с моей сестрой Флорой, которой шел тогда пятый год. Хорошенько рассмотрев нас, они удалились. И тут я почувствовал себя так, словно остался один во всем мире и как будто все из меня вытекло. Мадемуазель, сказал я ей, одевайся, мерзавка, а потом засадил ей кулаком прямо в рожу. С тех пор я не слишком расположен к женщинам. Время от времени мне случается переспать с какой-нибудь, но потом хочется плевать на нее. После истории с мадемуазель у меня пропала охота торчать дома. Кино каждый день. Чему только я не научился в киношке, а раньше всего узнал, что никакой любви нет, а все это просто слащавые штучки для толстых теток. Я всегда смывался, не дожидаясь финального поцелуя и панорамы широких горизонтов. Но я узнал и много такого, что мне пригодилось. И все же, как я только что говорил, после того как бросил коллеж, нудился я так аж до самых каникул. У отца есть замок в Бургундии, но мы там почти не бываем. Накануне каникул у матери всегда возникает какая-нибудь новая идея. Два года подряд мы ездили в Сен-Тропе. Но поскольку берется она за дело слишком поздно, то нам достается одна комната тут, другая там или угол на чердаке – вшивые каморки по баснословной цене. Ей подавай каждый вечер танцы, вечеринки, друзья наперебой зовут ее к себе. А я в это время болтаюсь по улицам. Вечером в Сен-Тропе не очень-то разгуляешься. Я ходил по кабакам, по подвальчикам, где танцуют. С Жерменом я познакомился на лестнице одного подвала. Мы оба поднимались по ней под звуки музыки, доносившейся сзади, он шел прямо передо мной, и уже в самом верху навстречу ему спускался какой-то тип в белых фланелевых штанах. „Я же запретил тебе ходить сюда“, – сказал ему Жермен и тут же стукнул его головой в живот, от чего тот сел прямо на ступеньки. „Тащи его за руку“, – бросил мне Жермен. Выволокли его на улицу. Было два часа ночи. Ни души. Пацан этот, Жермен, отдубасил того кулаками, ногами. Мы бросили его на мостовой и пошли на мол, не говоря друг другу ни слова. Назавтра, часов в четыре-пять ночи, мы с ним пришли на большую автостоянку и там камнями разбили ветровые стекла штук пятидесяти машин. Там же, в Сен-Тропе, к концу каникул я познакомился и с Эрмеленом – генеральным директором СБЭ. Это случилось в первую неделю августа. Отец только что приехал к нам. Его устроили на надувном матраце рядом с тюфяком шофера в углу чердака. Он тоже считал это забавным.
Как-то вечером мы все вместе – родители, флора и я – шли ужинать и встретили Эрмелена. Отец знал его немного, отдаленно, но на матери было красивое платье, и по глазам Эрмелена я понял, что он готов. Я это тут же учуял. Лицо, голос, размеры игрока в регби – красавец-мужчина лет пятидесяти, нагловатый, несмотря на всю его благородную внешность, я сказал бы даже, похожий на гуляку. У него неподалеку была вилла, и он пригласил нас на ужин на следующий день. Я сразу же отказался, а на вопрос отца, почему, ответил: „Мне не по душе башка твоего мсье Эрмелена“. И пока родители, изгибаясь, благодарили его за приглашение, я слинял в ресторан.
В Париже я продолжал видеться с Жерменом. У него были приятели, я их знал, но больше всех он любил меня. Мы угоняли машины и разбивали их где-нибудь. Жермен знал превосходные трюки для раскурочивания двигателей. Ночью мы нападали на одиноких прохожих и задавали им трепку. Как-то в полночь мы повезли одну девицу в лес Рамбуйе. Высокая блондинка, из тех, у которых все на месте. Мы с Жерменом не болтуны, она же только и ждала момента, чтобы раскрыть рот. Забеспокоилась она только однажды: „Далеко еще это ваше югославское кабаре?“ Жермен затормозил. Мы вышли втроем на узкую дорогу в самой гуще леса. Жермен начал с пары пощечин. Тогда девица задрала подол и сказала: „Вы этого хотите?“ И тут мы накинулись на нее оба, но били не сильно, а потом раздели, оставив на ней лишь туфли, и Жермен ударом кулака свалил ее в какую-то яму. Когда мы выехали на дорогу, она уже там стояла. Мы проехали метров двести, и он остановил тачку. „Щас повеселимся“, – объявил он. Девица, голая, побежала за нами. При свете луны ее было отлично видно. Мы же так тащились, что аж в животе заболело. Она бежала с раскрытой пастью, гребя обеими руками, и сиськи ее болтались по сторонам. А нас от смеха скрючило. Подпустив ее метров на десять, Жермен снова тронулся и опять проехал метров двести. И так три раза. В конце концов она упала на колени, сложила руки и завопила, заревела. Зрелище, скажу вам. В чем мы с ним разошлись, так это в том, что Жермен хотел бросить ее в лесу голяком на ледяном ветру. Неплохо быть шутником, но надо же и контролировать себя. Я настоял, чтобы вернуть ей ее тряпки, и он уступил.
Эрмелен, директор СБЭ, спал с моей матерью и постоянно приходил к нам то обедать, то ужинать. Отец же ничего не видел и ничего не знал. Мать могла бы носить на перевязи дюжину мужских членов, а он все равно бы ничего не заметил, надень он даже и очки поверх своего монокля. В один из выходных мы обедали дома с Эрмеленом, и мать вдруг сказала, что решила отправить флору в пансион в Нейи. А все потому, что одиннадцатилетняя дочка Эрмелена была в том же пансионе. Я-то флору не очень переношу. Хоть ей всего одиннадцать, но чувствуется, что это уже почти что женщина, вся такая неуверенная, а характер проявляется между ягодицами. Но все же. Я не выдержал и говорю отцу: „Ты что, больше не хозяин в собственном доме? Почему устройством флоры занимается любовник твоей жены? Да, да, любовник твоей жены. Разуй глаза! Это именно он. Но я против и заявляю, что флора в пансион не поедет“. Тут раздались страшные крики, даже флора, вшивотина малая, тоже заорала. Вечером я встретился с Жерменом и ни с того ни с сего все ему выложил. Никогда до этого я ни слова не говорил ему о своей семье, а он мне – о своей. Но у него, как оказалось, тоже накипело на душе. Семейка его была не из бедных – полдюжины слуг в Париже и столько же в доме на Лазурном берегу. Его мать – дама сорока лет, метр восемьдесят роста и соответствующая фигура, золотые очки – овдовела через год после рождения Жермена. Что касается мужчин, то они ее не слишком заботят. Ее опустошающая страсть – благотворительность, всякие там комитеты, собрания, конгрессы, забота о бедных. Все время бегала из одной комиссии в другую или разъезжала по заграницам, изучая жизнь бедноты то в Японии, то в Аргентине, а дома почти не бывала, а если и оставалась на обед, то всегда с целой сворой благотворительных матрон. Сколько Жермен помнит свое детство, он постоянно получал тумаки от слуг, которые в глазах его матери всегда были правы, поскольку одним из направлений ее благотворительности была защита достоинства людей подневольного труда. Вся эта доброта, эти благие намерения – он их просто не выносил. Когда я рассказал ему про Флору и пансион, он понял, что и моя жизнь не была гладкой. „Не бери в голову“, – сказал он. На следующий вечер он дождался с дружками Эрмелена возле его дома, и они так отходили этого прыща, что он восемь дней не мог встать с постели. Я же в тот вечер сидел дома с флорой и с Папашей – типа не очень хорошо себя чувствовал. С таким алиби не поспоришь, но и Эрмелен был не из последних дураков. Но все же выступать не стал. Однако после Пасхи флора в пансион не поехала. А мы с Жерменом продолжали наши развлечения. Как-то поздно вечером взяли с собой трех девиц, которых мы хорошо знали, и дернули в сторону П**, где Жермен подметил одну виллу, этакий богатенький домик с решетчатыми воротами, метрах в пятистах от села да еще и отделенный от него лесополосой. Когда наша тачка остановилась перед входом в эту хижину, нас осветила фарами быстро ехавшая машина, и мы подождали, пока она скроется. Жермен раздал инструмент – по большому молотку мне и девчонкам. Себе он взял фомку. Ворота открыли без труда. Над входной дверью дома пришлось повозиться, но и тут вышло без задоринки. Мы сразу же поднялись в ванную, на второй этаж. Ванна, раковина, зеркала, биде – все разлетелось на куски. Мы били и орали, как ослы. В спальнях расколотили трюмо, комоды, выливали в белье бутылки с хлорной моющей жидкостью, разрывали одеяла, вспарывали матрацы, подушки и все вместе помочились на ковер. На первом этаже нашли бутылку виски и выдули ее из горла. Было жарко, собиралась гроза. Девчонки расстегнулись, выставили груди. Малышка говорила, что никогда ей еще не было так клево. И правда, все было чертовски здорово. После того как мы разодрали картины и обои в гостиной, мы свалили в середине комнаты все, что нашли: посуду, фарфоровые и фаянсовые безделушки, стаканы, бутылки. Стали все бить и дошли до полного экстаза, но в это время появились жандармы с револьверами в руках. Нас завезли в тюрьму П**. Жандармы, тюрьма – все это было отвратительно. Поскольку у предков наших были длинные руки, дело замяли, тем более, что мать Жермена щедро заплатила за все побитое, но прокурор согласился закрыть глаза на определенных условиях. Пришлось Жермену уехать в интернат при каком-то английском колледже. Меня же запихнули в СБЭ, где Эрмелен сулил мне золотые горы. Я не очень-то этому верил, но все же тюрьма меня сильно испугала, и я побоялся ослушаться. В то утро, когда я прибыл в СБЭ, секретарша проводила меня в пустой кабинет – тот, в котором я пишу, – и сказала, что я буду сидеть здесь, пока мне не подыщут должность. Я ушел на обед, так никого и не дождавшись. Вернулся в два часа, а через десять минут в кабинет вошел Эрмелен и изнутри запер дверь на ключ. Он прошел к окну, отрезав мне путь в этом направлении, и, тихо смеясь, стал рассказывать, как нанял частных детективов, которые за мной следили около месяца, пока не застукали на горячем. Я пытался было похорохориться, сказал ему, что он грязная бычья морда. Тогда он заткнул мне рот ударом кулака прямо в хлебало, после чего принялся обрабатывать меня по всем правилам. По сравнению с ним я был букашкой. Напоследок он свалил меня под стол, и я упал головой на перекладину стула, опрокинувшегося вместе со мной. Удар был силен, но чувствовал я себя не совсем ужасно. На всякий случай, однако, я сделал вид, что лежу в ауте, чтобы лучше встретить его. Он же, сволочуга, расстегнул штаны, спустил трусы ниже живота и, глядя на меня, вытащил все свое богатство. Ты, недоносок, сказал он мне, сейчас мы тебя поимеем, как твою мать, как твою сестру флору. От одних только слов он возбудился, и эта его штуковина встала прямо у него в руках. Не больно мне улыбалось, чтоб он поимел меня, как он говорил. Я медленно поднялся на ноги, притворяясь, что все еще оглушен, и без лишних слов воздел вверх стул, целясь ему в голову. Пока изумленный Эрмелен поднимал руки, чтобы защититься, я отпустил ему в пах точный удар ногой с такой силой, которой раньше у меня, очевидно, не было. Он подавил крик и стал белее полотна – так ему было больно. Сжав зубы, немного наклонившись вперед, он держал руки на бедрах, не осмеливаясь прикоснуться к больному месту. На мгновение он закрыл глаза. И тогда я направил еще один удар в ту же точку. На этот раз он потерял сознание. Я достал из кармана его пиджака ключ, отпер дверь и оставил ее приоткрытой. Когда он стал приходить в себя, я открыл окно, готовый спрыгнуть на первый этаж, если ему вздумается снова ринуться на меня, но он застегнул ширинку и медленно удалился, широко расставляя ноги. Я запер за ним дверь, но ключ предусмотрительно оставил в замочной скважине. До вечера я размышлял о том, что со мной произошло. Эрмелена я отключил на два-три дня, но я знал, что он будет мстить. Назавтра, одолеваемый постоянными мыслями и чувством глубокого одиночества, я испугался и именно поэтому решился написать обо всем на тыльной стороне ящиков: если со мной что случится, то, по крайней мере, будут знать, что произошло это не случайно. Естественно, я каждый раз запираюсь на ключ, но он ведь вполне может проникнуть в этот кабинет до моего прихода и поджидать меня здесь. Правда, больше всего я боюсь не этого. Уже четыре дня я сижу в СБЭ. Вчера вечером и сегодня в обед я встречал его в главном коридоре. Он на меня не взглянул. Если со мной ничего не случится, если я спокойно выйду из этой комнаты, я нарисую крест под столом между ящиками. Если креста не будет, молитесь за меня. Нет, я, вероятно, утрирую. Когда вчера вечером я вернулся домой, родители наводили марафет, собираясь на какой-то званый ужин. „А что, флоры нет дома?“ – спрашиваю я. „Нет, – отвечает мать, – за ней недавно заехал шофер господина Эрмелена и отвез ее на ужин к Жанин“. Жанин – это дочка Эрмелена. Я молчу, но тут же бегу на другой конец квартиры звонить директрисе пансиона. Говорит секретарь господина Эрмелена: „Нет, не беспокойтесь, скарлатины у нас нет и т. д.“ „Я хотел бы сообщить господину Эрмелену, что говорил с его дочерью“. Через минуту я говорю с Жанин. Она никуда из пансиона не собиралась. Я вешаю трубку и мчусь стрелой в ванную. Мать красит губы кисточкой, а отец выскабливает себе подбородок электробритвой. Я выдергиваю шнур из розетки. „Я только что звонил в пансион, – говорю ему, – Жанин – она там, а вовсе не ужинает сейчас с флорой. А правда такова, что Эрмелен натягивает твою дочь“. Папаша мой съежился, как сморчок. Мать говорит: „Поеду за ней“. А я ей: „Заткнись, зараза, шлюха. – И поворачиваюсь снова к отцу. – Ну так что ты собираешься делать?“ „Да как же это, как же, как же“, – лепетал мой создатель. Я вывел его из ванной и повел к телефону, чтоб он позвонил Эрмелену. Лицо его было хмурое, но когда тот ему ответил, он тут же расцвел светской улыбочкой и начал отпускать всякие там „дорогой друг“ и прочее. „Малышки весело проводят время“, – говорил ему Эрмелен. А мой Рогоносиков во фраке все улыбался. И только когда я сунул ему локтем под ребро, он стал серьезным. Он закашлял в трубку, прочищая себе горло, и тут ворвалась мамаша, выхватила у него из рук трубку. „Алло! Мы уже очень опаздываем… Спасибо, вы очень любезны. Всего доброго“. И они быстренько свернули разговор. Я обзывал их навозниками, сволочами, сутенерами, все это я вылил им на голову. Ладно, пусть мои старики не хотят видеть, не хотят понимать, что собой представляет Эрмелен, но я-то знаю, и я не забуду. Сегодня, в субботу, в половине двенадцатого дня ко мне в дверь постучали. Я сказал: „Войдите“, зная, что дверь заперта на ключ, однако никто не попытался повернуть ручку, и я больше ничего не слышал».








