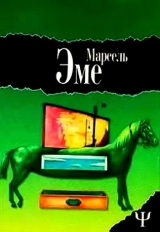
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Сидя на террасе своего домика на западном склоне Монмартра, Джонни с наслаждением вдыхал свежий утренний воздух, оживляя в мечтаниях ушедшие годы и ощущая приближение старости с грустью, больнее всего сжимающей сердца, порабощенные все еще пылающей страстью. У его ног при нем посаженное дерево вздымало на высоту террасы округлую крону, еще благоухающую от ночного ливня и смягчающую косые утренние лучи. Он видел себя сидящим пятнадцать лет назад под таким же утренним солнцем за беседой в компании людей столь приятных, будто он их нарочно тщательно подбирал. Тогда ему было сорок пять, и в зрелости своей он был еще совершенно молод и лицом, и телом. Его вежливость и обходительность, так привлекавшие к нему, были непритворны. Чтобы приковать к себе внимание и возбудить интерес желанных ему людей, незачем было выказывать преувеличенную услужливость и предупредительность куртизанки, сменившиеся затем теми женоподобными манерами, которые он пускал в ход, чтобы быть замеченным. В то время он был бескорыстно щедр, и молодые люди приходили к нему безо всякого расчета – им было приятно нравиться ему. Сейчас они уже не приходили. Жизнь больше не преподносила ему нежных сюрпризов.
Милу выскочил на террасу в пижамных брюках и с обнаженным торсом. Солнце еще не пригревало, и, прислонившись к балюстраде, он поежился, но не без удовольствия, как при входе в прохладную воду. Джонни меланхолично любовался молодым телом, изящным и мускулистым.
– Ты что-то поздно вернулся этой ночью, милый, – мягко сказал он.
– И что с того, – буркнул Милу. – Если я поздно прихожу, это мои коврижки.
Джонни вздохнул. Вульгарность этого юноши его удручала.
– Почему ты отвечаешь в таком тоне? Уверяю тебя, с таким лексиконом твою красоту скоро перестанут замечать.
Милу почувствовал угрозу и смягчился.
– Совсем еще не поздно было, – стал он защищаться. – Только начало первого. И ничего плохого я не делал, клянусь.
– Я об этом даже знать не хочу. Сейчас меня волнует только то, что ты начинаешь терять форму. К тому же ты уже почти не ходишь на тренировки. Я уверен, если ты не одумаешься, твоя боксерская карьера пропала.
Милу заявил, что бокс ему осточертел.
– Ты очень ошибаешься, – холодно сказал Джонни. – От праздности добра не жди. Поверь мне, я достаточно навидался молодых людей из твоего круга. Ты – маленький плебей, которого тянет на еду, выпивку и автомобильные моторы. Если не принудишь себя к труду и дисциплине, то быстро растолстеешь. Я могу себе представить тебя года через два – краснолицый коротышка с брюшком, толстыми ляжками, двойным подбородком, усиками коммивояжера, одутловатыми небритыми щеками. Короче, настоящий мужчина в женском понимании. Повторяю, это наступит очень скоро. Ты относишься к такому латинскому типу, который, повзрослев, растет в ширину. А главное – ты страдаешь прожорливостью, жуткой ненасытностью бедняка, вдруг оказавшегося у накрытого стола. Не забывай, Милу, ты – самый обыкновенный маленький бедняк. Если завтра из-за твоей вульгарности или твоего ожирения я начну тяготиться твоим обществом, ты станешь опять тем Мимилем Ленуаром, которого я полтора месяца назад вытащил с завода. Сам знаешь, что твои чудесные костюмы быстро износятся. Подумай хорошо. У тебя есть шанс стать красивым малым, но это хрупкий шанс. Береги его. Может быть, ты не замечаешь, но за последние десять дней у тебя уже немного изменилась фигура. О нет, это пока еще ничего не значит. Небольшое утолщение у основания шеи и, может быть, чуть меньшая подвижность мышц грудной клетки. Но это уже предупреждение. И потом, попытайся наконец вылезти из своей кожи или, по меньшей мере, навести на себя глянец, который поможет забыть, из какой среды я тебя извлек. Временами я действительно не могу помешать себе сравнивать тебя с другими юношами, которых я знал – утонченными, чувствительными, прелестными и сердцем, и умом. Ты не представляешь, до какой степени тебе еще надо отмываться.
Изумленный этим неожиданным выпадом, Милу опустил глаза, чтобы не выказать хозяину свой гнев и страх. До сих пор Джонни старался скрасить его рабство, обращаясь с ним, как с равным. Его нежная предупредительность, восторженные комплименты и щебет нимало не подготовили Милу к выслушиванию столь жестоких речей. По правде говоря, Джонни и сам удивлялся.
– Ладно, не будем спорить. Ты сегодня с утра не в настроении, – сказал ему молодой человек.
– Сегодня – день, когда я себя не насилую. Надеюсь, такое будет со мной случаться часто.
– Ты приглашал меня пожить у тебя вовсе не затем, чтобы: уговаривать заниматься боксом, – заметил Милу. – Скажу тебе откровенно, боксом я никогда особо и не увлекался. Что за радость молотить кулаками.
– Ну, а чем же ты рассчитываешь заняться?
Этот вопрос, похожий на ультиматум, возмутил Милу, как могут возмутить лицемерие и хамство, поскольку он и не собирался ничем заниматься. Не получив ответа, Джонни сказал:
– Я подумывал о литературной карьере для тебя, но здесь, конечно, надо хорошо потрудиться.
– Литературной? – с недоверием спросил Милу.
– Писатель. Будешь писать книги. Я уверен, что у тебя очень хорошо получится. Ты фотогеничен, ты – сын могильщика, что еще нужно? Остальное само придет. Естественно, ты будешь обличать обнищание народа, социальную несправедливость, восторгаться поэзией масс и благородством их инстинктов. Я бы на первых порах тебе немного помог. Думаю, для дебюта подошли бы воспоминания детства. Будешь писать просто, так, как тебя учили. Я уже вижу эти короткие рубленные фразы, вроде этой: «Мой отец служил в похоронном бюро. Мать была поденщицей. Нас было семеро братьев и сестер. Вечером, за столом, отец рассказывал, как прошел день. „Я тут, – говорил он, – хоронил одного малого. Этот кабан весил по меньшей мере фунтов сто восемьдесят“. Все смеялись. Он был доволен. Я восхищался им. Он был повелителем жизни и смерти». Знатоки будут в восторге от волшебной лаконичности твоего стиля: твердость и блеск алмаза. Левые газеты заговорят: великий писатель, истинный пролетарий. Да и в газетах правого толка, когда узнают, что ты – мой друг, отнесутся к твоему творчеству доброжелательно. Для первого произведения можно заказать предисловие у какого-нибудь видного писателя. Скажем, у Люка Пондебуа. Он наверняка будет рад взять под опеку сына могильщика. Кстати, я думаю, еще лучше звучало бы: сын гробокопателя.
Милу, казалось, был не в восторге от мысли о писательском ремесле, напоминавшем ему канцелярскую работу. Он осведомился безвольным голосом:
– А заработать на этом деле можно?
– По правде, вряд ли можно надеяться на этом обогатиться, но некоторым удается с этого прожить. Конечно, эта работа приносит меньше, чем бокс, но имеет некоторые приятные моменты. Прежде всего, радость творчества.
– Скажу тебе прямо, ведь многие поэты подыхают с голоду. Мне как-то совсем не хочется. Да и похоронные истории – может это и поэтично, но я ими сыт по горло, даже думать о них не хочу. И потом, я сейчас припомнил, у Ансело я уже видел троих писателей. Мне показалось, они со странностями. Не очень-то приятно очутиться среди таких коллег.
– Есть еще журналистика, – сказал Джонни, – но это уже потруднее. От редакторов обычно требуют грамотности.
– Все это не то, что я привык звать работой, – заявил Милу, потягиваясь на солнышке. – Если ты в самом деле считаешь, что мне нужна профессия, я бы скорее поискал себя в кино.
– Мне этот круг не очень нравится, – возразил Джонни.
– Ну и что, это же для меня. Да, кино, как по мне, – это неплохая работенка. На днях я вместе с малышками Ансело был на одной студии на пробах. Режиссер ходил в одной рубашке, надвинув козырек на глаза. Скажешь, мелочь – этот козырек, но ты себе не представляешь, как он кокетливо смотрелся. Непохоже было, чтобы он работал на износ. А с тем, что он делал, думаю, и я бы справился.
Опасаясь, как бы Милу не нашел в кино средства к существованию, которые позволят ему обрести свободу, Джонни пожалел, что поддался сиюминутному раздражению и затронул карьерный вопрос. Он принялся шельмовать кино как профессию, увидел, что это безрезультатно, и сменил тему:
– Ты будешь обедать у Ансело?
– Да, я позавчера обещал. Об этом я и переживаю. После обеда придется их вывезти. Представляешь, это же четыре женщины, и никак не отговориться. Да и цветы чего стоят. Не идти же с пустыми руками. Все это выливается в кругленькую сумму.
На самом деле, гуляя с дамами Ансело, Милу всегда платил только за себя, а частенько и вовсе предоставлял расплачиваться за себя мамаше или даже девушкам. За полтора месяца, прожитых у Джонни, он сэкономил из карманных денег и денег, выданных на покупки, более двух тысяч франков, из которых полторы тысячи положил в сберегательную кассу. Очередную просьбу о деньгах Джонни удовлетворил без возражений. Он по природе был щедр и терпеть не мог торговаться. С другой стороны, ему нравилось усердие Милу в доме Ансело. Он почти не сомневался, что его протеже имеет виды на одну из сестер, но готов был на такую жертву. Главное же, как он думал, ему нечего опасаться ни со стороны Бернара, ни со стороны мсье Ансело.
Обед был почти что скучным, и Милу стало не по себе. Бернар, который теперь всегда ел дома, отнесся к нему холодно и даже несколько раз проявил живую антипатию. Мариетт выказывала явно наигранную любезность, что было несколько подозрительно. Атмосфера стала еще более леденящей с приходом мсье Ансело, которого никто не ждал. Он собирался пообедать где-нибудь возле биржи, но вдруг ему расхотелось идти в ресторан, и возникло неосознанное желание увидеть своих детей. Увидев постороннего за семейным столом, он нахмурился и сделался агрессивным.
– Кто это такой? – спросил он у служанки, ставившей на стол прибор.
– Это мсье Милу.
– Что-то не нравится мне его физиономия. И чем же вы, молодой человек, занимаетесь?
– Я боксер.
Мсье Ансело уселся перед своим прибором, развернул салфетку и произнес, глядя на сына:
– И то лучше, чем ничего не делать.
Он вытащил из кармана газету и стал есть, читая новости, как всегда делал в ресторане, не обращая внимания на соседей. Кажется, только однажды он заметил, что не один за столом, и то лишь для того, чтобы спросить Милу пропитым голосом:
– Так это вы любовник мсье Джонни?
Милу густо покраснел и проглотил язык, а мадам Ансело обозвала мужа хамом. На лице Бернара появилась вызывающая улыбка, к его большому сожалению оставшаяся без последствий. Инцидент привел лишь к дальнейшему замедлению застольной беседы. Мсье Ансело вновь взялся за газету. Поев, он не стал дожидаться десерта и молча вышел из столовой. В такси по дороге на биржу он вытащил из кармана пиджака ручку и блокнот, с которыми никогда не расставался, и написал письмо клиенту. Он собственноручно писал их не меньше полусотни в день и в каждое вставлял несколько слов, касающихся адресата лично. У него было около тысячи клиентов, рассеянных по провинции, и эта цифра из года в год почти не менялась, несмотря на все его усилия по изучению рынка, хотя теоретически возможности были гораздо шире. Проблема была в том, чтобы выжать из каждого клиента путем прилежной переписки франков двести-триста в год. Секретарша печатала значительную часть корреспонденции на машинке, а циркуляры, касающиеся, например, держателей одинаковых бумаг, печатались на ротаторе, но ничто не могло заменить от руки написанного письма, где выражался интерес к каждому конкретному случаю. Он был почти всегда уверен, что получит ответ на такое письмо. Рукописный текст, дышащий симпатией, был способен вырвать признания у клиента и сделать его уязвимым. Поэтому мсье Ансело писал неустанно, где бы он ни находился – в конторе, дома, в кафе, в поезде или такси. Он писал, диктуя циркуляр машинистке или принимая клиента. Ночью, если не шел сон, он вставал, чтобы составить полдюжины писем. Ему хотелось бы уметь писать обеими руками одновременно. Всякое послание, отпечатанное на машинке или на ротаторе, было для него укором совести, и когда приходилось рассылать сотню циркуляров, он всегда отбирал из них два-три, переписывал и отправлял в рукописном виде.
Контора агентства на улице Вивьенн занимала половину четырехкомнатной квартиры, а во второй половине помещалось бюро по трудоустройству, имевшее целью выкачивание денег у безработных конторских служащих. Коридор по всей длине был разделен надвое дощатой перегородкой из простого некрашеного дерева, доходившей до потолка. Мсье Ансело работал в меньшей из двух комнат. Несмотря на картотеки и стеллажи с папками, она выглядела, со своим пожелтевшим умывальником и изъеденными ржавчиной кранами, как невзрачная меблирашка. Мадемуазель Логр, секретарша, занимала бывшую кладовку для грязного белья, шириной с пишущую машинку, где не было окна и с утра до вечера горел свет. Другая комната, большая, была обставлена с небезуспешными потугами на элегантность, сулившими предприятию неплохое будущее. Там принимали клиентов, которые, будучи в Париже проездом, заходили взглянуть на контору. Встретив посетителей у входа, мадемуазель Логр говорила с извиняющейся улыбкой, указывая на шелестящую дощатую перегородку: «Вы видите, мы в самом разгаре ремонта», тем самым давая понять, что за временной перегородкой ведутся грандиозные преобразования. Мсье Ансело, который, как считалось, был занят важной беседой, заставлял гостя ждать сорок пять минут, после чего выходил к нему поговорить. «Я не хотел держать вас больше в ожидании, – любезно говорил он, – а поскольку я и сам хотел с вами встретиться, я ненадолго прервал разговор». Он держался с привычной серьезностью, в которой лишь чуть-чуть ощущалась дистанция, и умел рассматривать надежды и тревоги мелкого деревенского бакалейщика или старой девы-пенсионерки с таким видом, будто ему приходилось укреплять экономику целого континента. Клиент всегда уходил польщенным, довольным, надолго уверившись, что к его услугам честный, знающий советчик, постоянно движимый отеческой заботой о состоянии его кошелька.
Мадемуазель Логр, обедавшая на месте сухим пайком, уже была за работой, когда прибыл мсье Ансело. Он рассеянно поздоровался, проходя мимо ее клетушки, и направился прямо в свой кабинет, где вначале, чтобы войти в ритм, написал одним махом три письма. Перед тем как взяться за четвертое, он снял трубку и сказал: «Логр, наберите Дагессона. Когда я закончу с ним говорить, зайдете». Он только начал четвертое письмо, когда секретарша его соединила. Не переставая писать, он взял трубку. «Дагессон? Это Ансело. Я сегодня утром узнал, что вы сунули нос в мою клиентуру. Незачем отпираться, у меня в руках одно письмо за вашей подписью. Прекратите это немедленно. Да заткнитесь вы, мне не нужны ваши объяснения. Если я еще раз увижу вас в своем огороде, то приду в ваш хлев на пару слов и схвачу вас за задницу, как в прошлом году. Но на сей раз вам это обойдется дороже. Кроме того, сообщаю, что у меня есть полный список тех ваших клиентов, у которых на руках акции Орвальских карьеров. Вы меня поняли?»
По окончании разговора мадемуазель Логр вошла в кабинет и уселась напротив мсье Ансело, чтобы писать под диктовку. Она была примерно одного с ним возраста, но в вытянутом варианте, с худым острым личиком и с пышной седой челкой, доходившей до бровей. Логр была ангельским созданием, всегда готовым жертвовать собой и своими денежками и мчаться на помощь страждущим, но она так страстно интересовалась делами агентства, что кидалась обирать клиентов с беспощадным пылом и невинно радовалась, ввергая их в отчаяние. В этой комнатке с низким потолком, куда свет проникал только в полдень, можно было задохнуться от жары. Мсье Ансело снял пиджак и сказал, небрежно вытаскивая пристегивающийся воротничок:
– Если вы не против, Логр, мы сейчас немножко потрясем кокосовую пальму рудников Чандернагора. Я только что за обедом подумал, что на этом можно кое-что снять.
– Еще бы! – одобрила Логр с улыбкой гурмана.
– Тогда поехали. «Мсье. С тех пор, как наше агентство успешно развивает свою деятельность к удовлетворению подписчиков, наши специальные службы принимают близко к сердцу нужды бережливых держателей обесценившихся бумаг и стремятся оказать им содействие. Сегодня наш долг велит нам привлечь Ваше внимание к совокупности фактов, которые прямо касаются Вас. Действительно, существует проблема, которой текущие политические и экономические события придали жгучую актуальность. Это – биметаллизм. Во всех странах Европы и Америки компетентные круги возвращаются к той очевидной истине, что здоровая валюта не может долгое время без серьезного риска опираться только на один металл – золото. И вот уже все четче вырисовывается некое движение на всех чернорудных предприятиях, которые, вопреки кризису и благодаря предусмотрительности правления, в состоянии отреагировать на возникший спрос на другой металл – серебро. Здесь будет уместно отметить необычайно благоприятное положение фирмы, за осторожными, но в то же время смелыми действиями которой мы наблюдали: это рудники Чандернагора. История этой фирмы такова…»
Мсье Ансело диктовал медленно, с паузами, с повторами, и мадемуазель Логр участвовала в этом оттачивании стиля с религиозным рвением – иногда она даже прервала диктовку, чтобы вставить замечание, например, такое привычное для хозяина: «По-моему, здесь надо найти более ласкающую формулировку». Иногда в поисках подходящего оборота она высказывала идею, которая преобразовывала начальный замысел или давала почву для новой мысли. Когда циркуляр был отредактирован, мсье Ансело сказал секретарше:
– Когда отпечатаете, скорее несите один экземпляр на ротатор и скажите Мютерну, что пакет мне нужен сегодня вечером. Пусть он проследит, чтобы наши циркуляры не валялись и не попадались на глаза всяким. Я уверен, что Дагессоны и компания своего не упустят.
Видя, что мадемуазель Логр встает, он добавил:
– А если увидите у него какую-нибудь бумажку со сведениями о деятельности конкурентов, не стесняйтесь. Надо уметь защищаться.
– Можете мне этого не говорить, – сказала Логр с милым звонким смехом святой девственницы, расставляющей капкан на демона.
Мсье Ансело опять принялся писать письма. В этот день после обеда не пришел ни один клиент. С того времени, как начались взятия рабочими заводов, провинциалы не осмеливались ездить в Париж, который готов был вот-вот обрушиться в крови и динамите. В глубине души деревенские бакалейщики и рыболовы открещивались от этой столицы катастроф и молили Бога, чтобы процент ренты зависел только от состояния почвы, изгиба реки и неба над деревней. Такой душевный настрой был для агентства небезвреден, и мсье Ансело чувствовал, что следует в каждом отдельном случае развеивать опасения или, напротив, подхлестывать их, чтобы воспользоваться ими с большей выгодой. И стопка писанных от руки писем на столе росла. Уже с неделю он по вечерам оставался в конторе и писал, задерживаясь далеко за полночь, пока не начинала отказывать рука. Он даже пытался, положив перед собой часы, увеличить производительность в час, но отказался от этой мысли, обнаружив, что от гонки на время страдает качество.
Была половина восьмого, и Логр, которая охотно осталась бы до полуночи, еще не ушла, когда в контору вошел Бернар. Он редко заходил, всего раз или два в год, и всякий раз беседы его с отцом были бурными. Логр, уже знавшая, какой оборот принимали эти свидания, поспешила надеть шляпу и ретироваться, испытывая легкое беспокойство за этого высокого грустного молодого человека, смущенно идущего на муки.
Мсье Ансело, уже на тридцатом или сороковом письме, взглянул поверх очков и, узнав сына, спросил, не прекращая писать:
– Какого тебе рожна?
Бернар с отсутствующим видом крутил в руках пресс-папье и рассеянно смотрел на обширную багровую отцовскую лысину и слегка согнутые широкие плечи с прилипнувшей к ним мокрой от пота рубашкой.
– Ни гроша, ни сантима, ни капли, – прорычал мсье Ансело, не отрываясь от письма. – Я вам всем вообще перестану выдавать карманные деньги.
Он свирепел от собственных слов. Подписав письмо гневным росчерком, прежде чем перейти к следующему, он бросил еще один взгляд поверх очков.
– Ну, так что? Чего ты хочешь?
– Ничего, – сказал Бернар. – Вот пришел…
Он отвечал с поспешностью и оборвал фразу на полуслове, будто заслушавшись. Мсье Ансело ухмыльнулся:
– А-а, пришел? Может, кафе позакрывались? Или бордели забастовали? Не переживай, уладится.
Он уже начал следующее письмо и, казалось, перестал замечать сына. Бернар постоял, опустив руки, следя глазами за ручкой, и сказал:
– Ну, я пошел.
Ответа не последовало. Перо продолжало скрипеть по бумаге. Он повернулся к выходу и опять пробормотал голосом, похожим на болезненно-вымученный стон то ли ребенка, то ли умирающего:
– Я пошел.
При звуках этого голоса у мсье Ансело перевернулись все его отцовские внутренности. Свалив открытую папку, он выскочил из-за стола, как черт из табакерки, нагнал сына у дверей. Схватив за лацкан, он притянул его к себе и, немного стыдясь такой эмоциональности, которая претила его естеству, спросил тихим, еще немного грубым голосом:
– Что стряслось?
Бернар уронил голову ему на плечо и бесшумно расплакался. Отец на мгновение оцепенел, ничего не понимая, и при виде слез издал рев, полный испуганной нежности, от которой мадемуазель Логр похолодела бы, оставайся она в своей кладовке. Он подхватил сына на руки, прижал к себе, как добычу, и, усадив на колени, стал жадно осыпать его голову поцелуями, называя его своей белой розочкой, своим ягненочком, своей заморской птичкой. Он весь преобразился, сердце захлестнул прилив чувств, он бредил от радости, и голос его дрожал от нахлынувшей любви. Бернар, укачавшись, как малое дитя, почувствовал, как боль его притупляется, и расслабился в теплых волнах этой бьющей ключом нежности. Когда первый восторг схлынул, мсье Ансело осведомился тающим голосом:
– Ну, расскажи же мне, что случилось? Ты сделал большую глупость, да? И нужны деньги? Ничего не бойся, малыш, я с тобой.
– Нет, – сказал Бернар. – Дело не в деньгах. Это было бы слишком просто.
– Женщина, вот оно что! Я должен был догадаться. Она тебя не любит, вернее, тебе кажется, что не любит. Как! Любит? И что? А-а, ясно. У нее муж, общественное положение, моральные принципы. Ну так знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы ее попросту выкрадем. Обожаю похищения. Ты, наверное, и не подозреваешь, что мне, чтобы жениться на твоей матери, пришлось ее выкрасть. Сейчас в это поверить невозможно, однако это чистая правда. Отец предназначил ее в жены молодому судебному исполнителю, да и, между нами, это было как раз то, что ей нужно. Конечно, тогда твоя матушка не была той палкой с колючками, которой позже стала. У нее была пара прелестных сисичек и премилая мордашка, честное слово. Ну, могло такое быть, Господи? Ну да ладно, что толку сравнивать и оглядываться назад. Некогда разводить меланхолию. Не будем терять времени.
Мсье Ансело стукнул линейкой по столу и в шутку заорал:
– Логр, седлайте мне коня и готовьте седельные пистолеты!
Довольный жизнью, он громко расхохотался, так что даже пузо затряслось.
– Я смеюсь, но говорю серьезно. Вилять тут нечего. Ну, расскажи мне, что это за пастушка?
– Похищение тут ни к чему. Она готова требовать развода, чтобы выйти замуж за меня.
Мсье Ансело изумленно поднял брови, ожидая услышать разгадку ребуса. Бернар, усевшись на столе, долго описывал свою пастушку, ее совершенства, чистоту и довольно кратко, чтобы не приплетать к делу своих сестер, объяснил, почему он недостоин молодой женщины.
– Как видишь, – закончил он, – положение безвыходное, так как уклоняюсь я.
Мсье Ансело, ушам своим не веря, смотрел на сына обалдело, затем возмущенно вскричал:
– Да кто ж это мне породил такого сына? Ну нет, это уж слишком. Ты влюблен, любим, и прелестной девушке, готовой идти за тобой на край света, способен подарить одни угрызения? Я пойду к ней, к этой Мишелин, даже если это окажется бесполезно. Я не хочу, чтобы она думала, будто тебя зачал какой-нибудь ризничий. И будь так добр, переспи с ней. Если за неделю не управишься, посажу тебя на рыбий жир с гемоглобином.
Но ни шутки, ни гнев, ни разумные доводы не переменили чувства Бернара. Его сознание было твердо, как каменная глыба, и, глядя на этого томного и смирившегося юношу, мсье Ансело, исчерпавший все аргументы, с болью подумал: «Мой сын – болван, в сто раз тупее, чем я мог подумать».








