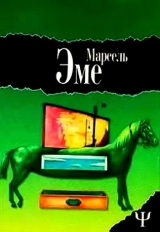
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Пытаясь поймать передачу, Мишелин ударила себя ракеткой по щиколотке. Она закусила губу и заскакала на одной ноге. Бернар Ансело перелез через сетку, взял ее за локоть и, уложив в один из гамаков, висевших в глубине двора, склонился над больной щиколоткой и легко погладил ее пальцами. Он любовался ее ногами и, прежде чем подняться, прижался щекой к колену, выглянувшему из-под белого фланелевого платья. Мишелин взглянула на него из-под полуприкрытых век, и лицо ее зарумянилось. Он взял ее за руку. Она сжала его руку, затем отпустила и смущенно опустила глаза. На лице Бернара появилась ласковая, немного глуповатая улыбка. Он чувствовал себя с ней, как мальчик с девочкой, сердце переполнялось по-детски дружеским чувством, и ему хотелось оставаться в этом блаженном состоянии. Обычно ему это удавалось без особых усилий. Провинциальное очарование этого уголка, казалось, благоприятствовало невинным обманам и спокойствию сердец.
Теннисный корт был устроен на участке под застройку, который мсье Ласкеном купил в 1920 году в Отее. Окружавшие участок сады давали ему тень и свежесть. В конце корта между тремя старыми сливами, ощетинившимися молодыми побегами, треугольником были натянуты гамаки. С улицы можно было войти через маленькую прогнившую и проржавевшую дверь в конце ограды, тоже ветхой и оканчивавшейся решеткой для улавливания мячей. Корт был очень ухоженным, но вокруг все отдавало заброшенностью и ветхостью, которые нравились Бернару. В перерывах они разваливались в гамаках и вели серьезные разговоры о теннисе, моде, преимуществах низкого каблука или прохладительных напитках. У Бернара никогда не возникало желания придать этим разговорам приятное направление или даже легкость. В словах Мишелин звучала мягкая добродетель. Казалось, они черпали ее из садов, перенимали от сливовых деревьев. Без четверти двенадцать у двери сигналил шофер, и они возвращались на улицу Спонтини, где Бернара усаживали обедать.
Мишелин, казалось, забыла о своей больной щиколотке.
– Бернар, я хочу вас кое о чем попросить.
– Все, что вам угодно, Мишелин.
– Я стеснялась. Так вот, я хотела бы познакомиться с вашими сестрами.
Бернар покраснел и замотал головой, изображая категорическое нет. Увидев смущение Мишелин, он попытался объяснить свой отказ.
– Я не могу. Мои сестры вам ни за что не понравятся. Я боюсь, что вы подумаете, будто я на них похож. Ну и вообще, я правда не могу.
Шофер, оставшись на улице, просигналил.
– Надо идти, Мишелин, я обещал мадам Ласкен не опаздывать к обеду.
Упали крупные капли дождя, и к маленькой двери они бежали уже под ливнем.
Дома был Пондебуа, который начинал жалеть, что согласился остаться отобедать. Узнав, что рабочие «Рено» заняли заводы, он примчался, чтобы обменяться впечатлениями и немного подпитаться тревогой правящего класса, но ему пришлось так и остаться при своей горячке. Мадам Ласкен, с которой он решил заговорить об этих серьезных событиях, совсем не удивилась, что заводы «Рено» заняты рабочими. Она не видела в этом ничего особенного и жалела забастовщиков, которым, наверное, там не на чем спать. Пьер Ленуар же предпочитал вообще ничего не слышать, опасаясь, что его отец решит воспользоваться этим движением, когда оно станет всеобщим, и дрожа при мысли, что в суматохе его катапультируют на какой-то важный пост.
– Ну, – спросил его Пондебуа, – так что же говорят об этом на заводе?
– Знаете, из конторы много не увидишь.
– Вы видели Шовье?
– Да. Он более в ударе, чем обычно. Мысль о сидячей забастовке его как будто завораживает.
Обед, как обычно, был очень семейным, в меру оживленным. Бернар не посмел бы даже в мыслях назвать разговор пустопорожним. Пьер расспросил об их утренней теннисной партии, затем заговорил с тещей о важном матче по регби, который должен был состояться в воскресенье в юго-западном округе. Мадам Ласкен отвечала ему с чуть меланхоличной мягкостью, присущей людям, которые носят в сердце неисцелимую рану. Пондебуа слушал в тихом бешенстве, думая о всех тех блестящих и ужасающих вещах, которые мог бы высказать среди менее ограниченных собеседников. Он опять с нежным сожалением вспомнил о Ласкене. С ним бы разговор принял совсем другой оборот.
Бернар покинул улицу Спонтини около трех, когда Мишелин пошла переодеваться в черное для посетителей, которых ждали во второй половине дня. Обычно он отправлялся в долгие одинокие прогулки за город, ужинал где-нибудь по дороге в захолустном кафе, затем возвращался пешком домой и ложился спать, как правило, не повстречавшись ни с кем из своих – мать уже спит, сестер нет дома, отец работает при свете лампы. Выйдя на улицу, он оказался в нерешительности насчет дальнейшего времяпрепровождения. Небо было грозным, а в лесу, должно быть, еще мокро после сильного ливня, прошедшего в полдень. Гуляя, он дошел до центра и, остановившись ненадолго в кафе, решил вернуться домой на рю де Мадрид и закрыться в своей комнате.
В прихожей он наткнулся на Жермен, старшую из сестер, и Мариетт, самую младшую. Они встречали подругу, девушки смеялись и нежно щебетали. Они были прелестны, элегантны, особенно Мариетт, с немного помятыми, сильно нарумяненными лицами и красивыми живыми глазами. При виде Бернара подруга возопила:
– А-а, дружище, явились наконец! Что это вы нас в последнее время как-то подло бросили, а?
– Да, ты же не в курсе, – сказала Жермен. – Ты даже не знаешь, что этот засранец теперь посещает только крупную буржуазию и промышленников. Я тебе точно говорю. Ну не смех? Но учти, надо держать ухо востро, а то и впрямь ускользнет.
Бернар весьма неохотно пошел за девушками. В салоне полдюжины гостей расположились вокруг дивана, где покоилась младшая сестра Лили. Она лежала на спине, чуть приподняв голову на подушечку. Ноги ее до пояса были укрыты пледом, образовывавшим ощутимый горб внизу живота. К осунувшемуся лицу румяна плохо приставали, а крашенные в платиновый цвет волосы, непослушные и черные у корней, придавали ей какой-то старушечий вид. Лили помахала рукой новоприбывшей:
– Ты умница, Мэг, что пришла. Я так рада.
– Бедняжка моя, – сказала Мэг, целуя ее. – Я бы уже давно пришла, если бы узнала раньше. Ну, как дела? Мордашка у тебя усталая.
– Это так долго, – пробормотала Лили. – Скорей бы все кончилось.
Кружок друзей разразился возгласами ободрения.
– Считайте, что вам повезло, – сказала зрелая дама с суровым лицом. – Вот если бы вам пришлось делать такую чистку, как мне!..
– А я? – сказала Мэг. – В первый раз, помню, из меня даже через месяц текло, как в первый день.
– У меня еще сильно течет, – заметила Лили.
Киноактер, отращивающий себе острую бородку на роль довоенного фотографа, мягко заявил тоном ложной скромности:
– За три года у моей жены было семь выкидышей с двумя вмешательствами.
Прошел восхищенный шумок. Актер рубанул воздух рукой и добавил:
– В последний раз ей резали трубы.
Бернар не присоединился к кружку и, маневрируя, направился к двери. Он был уже за пианино, когда его заметила Мэг.
– Постойте-ка, dear, куда это вы удираете? Я в конце концов разозлюсь на вас.
Она подхватила его под руку и усадила в кружок.
– Расскажите-ка мне что-нибудь, а то вы еще и рта не открыли. Вы знаете, что у меня через месяц последний экзамен? Вам плевать? Ладно. А захват заводов «Рено» вас ничуть не возбуждает?
– Я газет не читаю, – ответил Бернар.
Лили приподняла голову с подушечки и простонала:
– Какое невезение, что мне нужно лежать, я бы так хотела посмотреть! У меня было сто возможностей попасть на завод. Баге, оператор киножурнала, наверняка бы меня провел. Это, должно быть, так красиво!
– Только что, – сказала дама, которой делали чистку, – я встретила друга, который утром там был. Он рассказал мне, что в одном из цехов увидел рабочего в одной рубашке, который играл на дудочке, а вокруг сидели рабочие в простых позах и слушали его. У них были такие понимающие лица, чистые глаза! Впечатление – потрясающее. Вот бы это заснять. Особенно наезжающей камерой было бы неплохо.
– Действительно, только народ чувствует музыку, – заметила маленькая рыжая женщина, которая обтачивала себе ногти трением об юбку.
– И поэзию тоже, – добавила Жермен.
Начали говорить о политике. Из разговора в атмосфере любовной течки и проклятых поэтов возродился образ революции. Он был похож на фильм «потрясающей красоты», но одновременно и на высокоморальный и умилительный романс. Бернар думал (и не мог развлечь себя этой мыслью) о том, какое зрелище для Мишелин представил бы салон его сестер, и о ее растерянном испуге.
– Вы здесь будто для мебели, – сказала ему Мэг, – ну будьте же поразговорчивей. Если я правильно поняла, вы влюбились в кого-то из семьи крупных промышленников? Но это же не причина, чтобы со мной не общаться. Подумать только, всего пару недель назад вы мечтали заставить меня убрать Альфреда, чтобы приходить ко мне повертеть торсом.
– Я прошу вас. Ненавижу женщин, которые говорят сальности.
– Бернар, вы меня возбуждаете. Посмотрите на мои ноги. Признайте, что они красивы. И потом, знаете, хоть по виду и не скажешь, но у меня большая грудь.
– К черту.
Когда подавали чай, пришел Джонни. Его настоящее имя было Огюст Легрен. Это был шестидесятилетний человек, мягкий и приветливый, с лысым черепом, рыхлым лицом, серой и дряблой кожей. Обычно кончик его языка лежал на нижней губе, тяжелой и отвислой, и это создавало среди припухлостей лица неприятное впечатление сочного блеска. Он был богачом, отъявленным гомосексуалистом и к тому же, как говорили, обладал искусственным анусом. Из-за этой любопытной детали многие искали его общества. Он подошел к изголовью Лили и сказал, давя слова кончиком языка:
– Здравствуй, прекрасная малышка Рекамье. Здравствуй, островная птичка. Покажи мне злодеев, упрятавших тебя в клетку. Я их отругаю. Я не хочу, чтобы мою колибри держали в неволе, не хочу.
– Как он мил, – шепнула Жермен.
– Он всегда обладал даром образного мышления, – заметила вычищенная дама.
Джонни отпустил каждому по любезности и обошел салон, разглядывая стены и взвешивая на руке безделушки. Это была очень известная мания, за которую его уважали не меньше, чем за искусственный анус. Проходя, он заметил японский садик в горшке и стал взрыхлять землю пилочкой для ногтей. Присутствующие повернулись к нему и зачарованно наблюдали за его действиями, перешептываясь: «Он очарователен. – Он восхитителен. – Он делает настоящие находки. – Это действительно потрясающий человек. – Смотрите, он вскапывает землю в японском садике. – Он умеет во все привносить поэзию. – Он неслыханно эзотеричен».
Увидев, что он остановился у хромолитографии с изображением Эйфелевой башни на фоне насыщенно-синего неба, Жермен подошла к нему.
– Не правда ли, моя Эйфелева башня удивительна? В этом, синем цвете есть какая-то честность, берущая вас в тиски.
– Мне редко встречались столь прекрасные вещи, – признал Джонни. – Невозможно сдержать волнение. В этом есть какое-то космическое величие.
– Как пятно – это великолепно. Это грубо, как животное влечение.
Вычищенная дама, которая также приблизилась, была, казалось, потрясена точностью этого сравнения и одобрительно закивала:
– О да, вот именно. Именно так. Грубо, как животное влечение. Как животное влечение.
Джонни занял свое место в кружке и заговорил о молодом боксере, которого он недавно открыл.
– Наилегчайший вес, прелестный, точеный, изысканно-тоненький. На ринге очень задирист, очень цепок. Чего, мне кажется, ему немного недостает, так это дыхания. Все же это паренек, склонный к мечтаниям, нежная душа, ощущающая свое одиночество. Я не думаю, что он очень далеко пойдет. Я именно и хотел попросить тебя, Жермен, и твоих сестер немного заняться им. Я этого малыша только что вытащил из цеха.
Редкая натура, повторяю, но которая все же нуждается в обтесывании, облагораживании. Когда немного побоксирует, я хотел бы, чтобы он сделал карьеру в журналистике или литературе. Он так мил.
– Конечно, непременно пришлите его к нам.
– Я думал сегодня прийти с ним, но его задержали. Думаю, он вот-вот здесь появится. Девочки, вы мне обещаете не развращать его? Да нет, я шучу. Милу – настоящий спортсмен. Женщины для него никогда ничего не значили.
Джонни поднялся, услышав колокольчик у входной двери, и искорки нежности вспыхнули в его серых глазах.
– Это, должно быть, Милу.
– Нет, – сказала Мариетт, – думаю, это мама.
Действительно, вошла мадам Ансело в выходном костюме.
Ростом она была меньше своих дочерей, с узенькой мордочкой, исхудавшей, жестко накрашенной и сверкавшей из-под шляпы, как красный огонек в феврале. Несмотря на стремление быть элегантной и немного жеманные манеры, она так и не смогла избавиться От налета провинциальной неловкости, похожей на угрызения совести. В присутствии всех этих людей, собравшихся на празднование выкидыша у ее дочери, она поначалу как-то стушевалась. Актер с бородкой поцеловал ей руку, и Джонни, смакуя языком, тоже приготовился целовать, но тут во второй раз зазвонил колокольчик у входной двери, и он, не удержавшись, выбежал из салона. На этот раз это он, Милу. Мадам Ансело последовала за ним, увлекая в прихожую своих дочерей и гостей, поспешивших навстречу боксеру. Лица уже разгладились, как перед приветственной улыбкой. Вошел высокий и грузный человек – мсье Ансело, с лицом неистовым и исстрадавшимся, с жесткими чертами и озабоченным взглядом. Он приехал на такси из своей конторы на улице Вивьен за оставленными дома бумагами. При виде этой многолюдной компании, перегородившей прихожую, он остановился в дверях и, обращаясь к служанке как к единственному лицу, с которым разговор был возможен, прогремел с напускным добродушием:
– Ишь, собрали весь цвет сегодня. А что с выкидышем мадемуазель?
– Не знаю, мсье, – ответила служанка с учтивым и скромным видом. – Кажется, мадемуазель лучше.
Джонни, стоявший навытяжку у двери прямо напротив мсье Ансело, оказался в несколько смешном положении.
– Простите, – сказал он, – это я виновен во всей суматохе Услышав звонок, я поспешил встретить одного своего юного друга…
– А это еще кто такой? – спросил Ансело у служанки.
– Прошу тебя, Леонар, не будь таким грубым, – вступила его жена. – Не усердствуй. Джонни, я прошу прощения. Мне очень жаль. Он обычно никогда не возвращается раньше восьми вечера. Это досадная случайность.
Мсье Ансело издал удивленный возглас и, указывая пальцем на ногти Джонни, выкрашенные красным лаком, любезно сказал ему:
– Простите, я не заметил. Так это вы ей делали аборт?
Джонни попытался воспринять это как шутку, но при взгляде на свои красные ногти устрашился и побелел. Увидев, что он вот-вот лишится чувств, вычищенная дама взяла его под руку и с помощью Мэг увела в салон. Мсье Ансело, в восторге от достигнутого результата, расхохотался глубоко отдававшимися раскатами и под конец закашлялся, так как немного страдал астмой. Жена и дочери осыпали его упреками, мадам Ансело особенно, так как было задето ее самолюбие как хозяйки дома. Упреки Жермен и Мариетт, смягченные чувством некоторого восхищения по отношению к отцу, были ласковыми и даже имели целью его задобрить. Впрочем, слова были лишь смутно различимы, так как все говорили одновременно – и мать, и дочери, и гости, тогда как из салона, где Джонни приходил в чувство, доносился сокрушенный шумок.
– Ладно, хватит, – оборвал мсье Ансело, – оставьте меня в покое. Нет у меня времени заниматься вашими гадостями.
Поймав служанку за плечи, он крутанул ее вокруг оси, схватил за ягодицы – по одной в каждую руку – и, толкая пред собой, чтобы расчистить путь, удалился, крича во всю глотку:
– Заткнитесь, черт побери, заткнитесь!
Бернар только что пережил лучшие мгновения за все послеобеденное время. Прислонившись к двери салона, он наблюдал за этой выходкой как зритель. Хоть ему и было хорошо известно, что отец и его не обходит своим презрением, он все же испытал теплое чувство к этому человеку, неистовостью которого был отомщен. Бернар все еще оставался под впечатлением, тогда как мать и сестры, вернувшись в салон, хлопотали вокруг Джонни и вливали ему в глотку что-то крепкое. Прожив последние три недели несколько вдали от своих, он, казалось, взглянул на них новыми глазами. Особенно его поразил отец. До сих пор он привычно воспринимал отцовские громогласные выходки как взрывные выброса анархической натуры, которую втайне радовали беспорядки в семье, так как они давали повод для сарказма и безудержной ярости. Бернар подумал, что, вероятно, ошибался.
Приход боксера окончательно взбодрил Джонни. Милу был красивым брюнетом, маленьким, очень хорошо сложенным, с загорелым лицом, мужественными чертами, мощными челюстями и низким лбом. Смущенный присутствием всех этих людей, которые, как он подозревал, принадлежали к сливкам аристократии, и боясь выказать дурные манеры, он вел себя скромно, говорил мало и осторожно, исподтишка бросая вокруг себя быстрые, как бы изучающие взгляды. На знаки внимания со стороны Джонни, порхавшего вокруг него, молодой боксер реагировал раздраженно, и у него даже вырывались короткие жесткие слова, подкрепленные ненавидящими взглядами. Бернар угадал, как ему казалось, что в присутствии девушек он стыдится своего покровителя и желает дать понять, что у него не такая узкая специализация, как можно заключить по внешним признакам. Впрочем, дамы, окружили его заботливым интересом и превозносили красоту боксерских сражений, которые вводят в действие глубокие инстинкты, великолепные в своей дикости. Жермен даже заговорила о примитивизме и о возвращении к истокам. Милу был слегка ошеломлен, думая, что только богатые и очень культурные люди обладают привилегией так говорить о боксе с боксером, чтобы он ничего не мог понять. Он немного разозлился на этих милых девушек, которые стремились поучать его в той области, где он всегда презирал мнения женщин. Разговор перешел на другую тему, и он почувствовал себя увереннее, с удовольствием констатируя, что в этом салоне, где преобладал женский элемент, довольно часто говорили о заднице и других частях тела. Он последовал их примеру и несдержанно высказался насчет одной знакомой дамы, которую упомянул Джонни. Очевидно, существовали какие-то правила, как и что нужно говорить, поскольку в результате этого выпада в компании почувствовался холодок. В устах Мэг или Жермен такая простота выражений возвышалась до ядовитого и яркого риторического цветка, вырастающего из кислого лимона буржуазных приличий, бросая им вызов с кокетливой непринужденностью. В устах же Милу она звучала с естественностью, режущей цивилизованное ухо. Джонни был сокрушен и встревожен тем, какое впечатление мог произвести милый молодой человек. Он увлек Жермен в уголок салона, составляя с ней совместный план воспитания, который даст его протеже, кроме других преимуществ, умение вставлять неприличные слова с непринужденной изысканностью. Тем временем Мариетт, самая младшая и самая красивая из сестер, увидев, как слабеет симпатия и интерес к боксеру, милосердно пыталась отвлечь его от тяжелого впечатления, которое могло оставить в нем это внезапное понижение температуры (впрочем, он его вовсе и не заметил). Он чувствовал себя польщенным, рассыпался в любезностях и вполголоса отвешивал ей галантные комплименты, вызывавшие у нее улыбку. «Кстати, о спорте, – говорил он, – ваше сложение мне очень нравится». И думал: «Шлюхи, они точно такие же, как все, выпендриваются, на пианинах играют, у родителей бабок полно, культуры выше крыши, но мужика хотят – дальше некуда». Лелея такие мысли, он так поглядывал на Мариетт, что Бернару хотелось его вышвырнуть. Но у Мариетт и ее сестер уже было немало любовников, и это простое соображение придавало некоторую легитимность притязаниям боксера, которые, по правде сказать, были пока только намерениями.
VВ столовой светлого дуба Малинье, положив локти на стол, медленно пережевывал информацию в газете, иногда поднимая голову, чтобы рассеянно уставиться на вид Мон-Сен-Мишеля – хромолитографию, которая могла бы посостязаться с той, что была у Пондебуа, но не претендовала ни на какой художественный дилетантизм. Радио потихоньку наигрывало песни Фрэля. Стоя на коленях на стуле, Жильбер, четырехлетний мальчонка, наблюдал в открытое окно, как медленно дефилировали празднично одетые семейства вдоль мрачной улицы Ла Кондамин. Приближаясь к улице Батиньоль, они, казалось, еще больше замедляли ход, возможно, сопротивляясь зову неинтересных приключений, ожидавших их у места слияния потоков тоскливых гуляющих. Иногда без видимой причины какая-то из семей переходила на противоположную сторону, будто подчиняясь слабому инстинктивному возмущению. Какой-то мужчина, отставший, чтобы зажечь воскресную сигару, на мгновение обрел свою будничную эластичную походку, но тут же вновь погрузился в скучное воскресенье между зеленым платьем дочери и классическим костюмом супруги.
Малинье, в душе кипя от ярости, перечитывал заголовки, возвещавшие о том, что во второй половине дня состоится народное шествие от площади Бастилии до площади Нации. Чем устраивать демонстрации, не лучше ли было бы всем им ради воскресенья спокойно прогуляться всей семьей? Эти периодические демонстрации, имеющие политическую окраску, вызывали в нем отвращение. К тому же они являли зрелище тяжелого хаотичного шевеления, которое сталкивалось в воображении военного с представлением о порядке. Он принялся представлять себе, как шествие переходит в постановку, а затем – в революцию. Мысленно он переносился на место событий, где командовал взводом автоматчиков и ловкими маневрами, без единого выстрела отделял от колонн вождей революции – свору иммигрантов, евреев и арабов, которых заставлял публично покаяться в своих кознях. Впрочем, признания эти принимали совершенно конкретную форму. Малинье совал палец в рот каждому пленнику и вытаскивал оттуда громадную змею, молча размахивая ею перед толпой, так как комментарии тут были излишни. И вот уже дела во франции пошли на лад. Войска были отлично вышколены, а боевой дух солдат – высок. В один прекрасный день, командуя крупными маневрами на восточной границе, Малинье внезапно захватил Рейнскую область, вынуждая врага сдаться без боя. Но это завоевание повергло его в задумчивость, ибо успех его оружия был столь быстрым, что некогда было обдумывать, как его наилучшим образом использовать. Он размышлял, не пересечь ли всю Германию, чтобы уничтожить русский коммунизм, как вдруг в столовую вошла Элизабет Малинье в кухонном фартуке и со стопкой тарелок. Очень красивая женщина, она была моложе его на двадцать лет, эту разницу еще сильнее подчеркивали элегантность Элизабет и небрежность туалета Малинье. Кроме того, она обладала изысканностью речи, ясностью ума и непринужденностью в беседе, которые, по мнению всех их друзей, сильно контрастировали с манерами мужа, человека лояльного и ограниченного, преисполненного добрых чувств, немного вульгарных по форме и по содержанию.
– Это невыносимо, – сказала Элизабет, складывая тарелки в буфет. – Соседи сверху опять мыли только что свой кухонный подоконник и залили нас жавелевой водой.
Малинье поднял на нее немного растерянный взгляд. Он почувствовал, как вдруг лишился чудной власти, которая даже не успела развернуться в полную мощь. Радио все так же тихо наигрывало марш 251-го пехотного полка – мелодию нервную и вдохновенную.
– Это кошмар, – продолжала Элизабет. – У меня прожжено две тряпки, причем одна была совсем новая. И это ведь уже не в первый раз.
– Бессовестные, – прорычал Малинье. – Хамье. Ну и времена настали.
– Я уже ходила ругаться, но им наплевать. На днях на лестнице я говорила с мужем, знаешь, это такой толстяк в котелке. Так он мне разве что не нагрубил.
– Вот черт! – вскричал Малинье.
Он поднялся и, враз побагровев, шагнул к двери, выкрикивая:
– Сволочь! Я научу его жить! Я его задушу! Ей-Богу, своими руками задушу!
Элизабет остановила его и заслонила дверь своим телом, ласково улыбаясь.
– Да что ты, в самом деле. Не будешь же ты поднимать скандал на весь дом, людям на смех. Ну подумай сам.
Жильбер, все так же стоя на стуле, повернул голову и посмотрел на отца с большой надеждой. Но Малинье, ворча, вернулся на свое место и притворился, что опять принимается за газету. Его гнев уже обернулся меланхолией. Провал такого скромного начинания, как намерение поколотить человека в котелке, был знамением его одиночества перед лицом политических событий. Он увидел себя в мыслях боязливым, ныряющим в арку на улице Ла Кондамин, чтобы пропустить бешеную свору визжащих и брызгающих слюной собак, в которых легко было узнать вождей Народного фронта. В конце улицы прямо на мостовой лежало сердце франции – огромное, красноватое и испускающее лучи, как Святое сердце Иисусово. Сейчас иудео-марксистские псы его сожрут. Чтобы этого не видеть, Малинье смял газету и сказал жене:
– Какая мерзость, а, Забет? Эти свиньи ведут нас к разложению.
– Это неважно, – весело отозвалась та. – У нас же нет ни гроша.
Малинье был шокирован тем, как она свела к личным интересам проблему государственной важности, которой он так самозабвенно отдавался. Такой ответ, углубляя его ощущение одиночества, еще сильнее утверждал его во мнении, что женщины – существа низшего порядка, неспособные к воинской службе, а главное – лишенные идеалов. Когда жена вышла из столовой, он вернулся усталой душой к демонстрации на площади Бастилии. При нем уже не было взвода автоматчиков, и орды революционеров, бесчинствуя во всех районах столицы, брали штурмом здание страховой компании «Счастливая звезда». Мелкие конторские служащие, воспользовавшись ситуацией, обрезали уши мсье Папюле, главному бухгалтеру. А Малинье сидел на своем обычном месте и как ни в чем не бывало ожидал хулиганов из Народного фронта, продолжая перебирать документы. Его презрительное хладнокровие удивило погромщиков и даже на какой-то момент остановило их, но в конце концов они стреляют в него из револьвера, и он, умирая, успевает произнести некую пророческую фразу.
От жалости к себе Малинье повел плечами и вздохнул, удивляясь своему бессилию, которое обрекло его на эти смешные мечтания. От вздоха к вздоху гнев его распалялся, и в конце концов он стукнул кулаком по столу и в ярости вскричал:
– Человек нужен, черт возьми, человек!
От этого окрика Жильбер подскочил, слез со стула и, подбежав к отцу, встал перед ним с вопрошающим видом. Элизабет, которая как раз переодевалась, прибежала на крик и, толкнув дверь в столовую, показалась в проеме в одной комбинации. Она испугалась повторного приступа ярости против человека в котелке, ярости, которая на сей раз могла повлечь за собой и действия.
– Да это я все из-за политики, – объяснил Малинье в некотором смущении.
– Слишком уж громко. Жаклин чуть было не проснулась.
Он извинился, Элизабет с милой улыбкой прикрыла за собой дверь. Эта интермедия усмирила его порыв, но видение молодой женщины в комбинации стало новым поводом для меланхолии, которому он предпочел повод более достойный мужчины, связанный с изучением политической ситуации. Жильбер подошел еще ближе, надеясь узнать, что означало вырвавшееся у отца восклицание. Малинье усадил его на колени и, не заботясь о том, понимает его сын или нет, заговорил о годах войны, о своих ранения, обо всем, что он перенес и что вот так закончилось: марксистская сволочь у власти, а рабочие занимают предприятия, чтобы кушать курочку на завтрак, обед и ужин. Дай ему волю, он, Малинье, показал бы им и выборы, и курочку. Коленом под зад – вот как бы он вернул этим жлобам и чувство чести, и почтение к иерархии. Он-то уж нашел бы, как поговорить с ними и о гуманности, и о социальной справедливости, и о прочих глупостях и всяком поповском вздоре.
– И при этом не берут тебя в расчет, как старую старуху, и зарубить это надо на носу. Ах, черт побери! Ты, крепкий, ко всему готовый, чувствуешь, как франция тает в руках, но должен сидеть, как в кино, не в силах что-нибудь сделать!
Жильбер слушал с беспокойством, ничего не понимая, и пытался во взгляде отца уловить разгадку той великой боли, от которой дрожал его голос. Малинье ссадил его с колен и принялся крутить ручки радиоприемника, ловя какую-нибудь передачу на иностранном языке. Концерты оставляли его равнодушным, но иностранные языки, хотя он ни одного из них не понимал (а может, именно поэтому), дарили ему ту толику экстаза и самозабвения, которой не могла дать музыка. Он поймал в конце концов Барселону и стал наслаждаться многословной речью во славу Народного фронта Испании.
Без четверти четыре супруги Малинье были готовы к выходу. Жильбер и его двухлетняя сестренка Жаклин заканчивали свой полдник. Элизабет спросила мужа, есть ли у него еще деньги.
– Ты уже потратил те пятьдесят франков, что я тебе дала в понедельник? – с мягким упреком спросила она.
Он стал что-то сбивчиво объяснять и с покаянным видом сунул в карман пятьдесят франков, которые она вытащила из сумочки. Они вместе спустились на улицу Ла Кондамин, и Элизабет, повторно дав наставления Малинье, отправилась по своим делам, отец и дети, приноравливаясь к шажкам Жаклин, медленно двигались к улице Батиньоль по обычному воскресному маршруту. Уже издали Элизабет обернулась, лаская их нежным и заботливым взглядом.
Пондебуа сам встретил посетительницу в дверях и проводил в свой кабинет. Он имел о ней сведения только психологического и сентиментального характера, почерпнутые из переписки любовников, которые считал к тому же весьма неопределенными свидетельствами. Он написал ей по адресу, который нашел на одном из конвертов, подписанном рукой самого Ласкена, – на улицу Ла Кондамин. Она тотчас же позвонила, чтобы договориться о встрече, и без возражений и колебаний согласилась встретиться у него дома, что показалось Пондебуа самым лучшим предзнаменованием.
С самого начала он заговорил с ней тоном доброжелательной вежливости с оттенком легкого юмора, который принимал обычно в разговоре с незначительными писателями, не очень добродетельными женщинами, теософами, старыми полковниками в отставке и другими несерьезными персонажами.
– Скоропостижно, – сказал он в ответ на вопрос, заданный Элизабет. – Мы обедали на улице Спонтини, и он умер прямо посреди обеда, между форелью и уткой с апельсинами, притом что ничто не предвещало такой внезапной его смерти. Кровоизлияние в мозг. Несомненно, в последнее время мой кузен себя не щадил. Завод тоже занимал не последнее место в его мыслях. Вот так мы в тот день и лишились утки с апельсинами. За несколько секунд до смерти он произнес ваше имя. Поскольку мадам Ласкен звали вовсе не Элизабет, а все гости были людьми бесконечно тактичными, этого последнего «прощай» никто не услышал.








