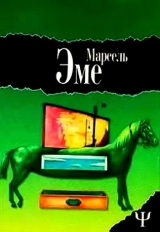
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Солдаты направляются к двери, но Порфир кричит им вдогонку:
– Рядовой Гертруда!
Рослая, крупнотелая девушка возвращается и становится перед ним по стойке «смирно».
– Рядовой Гертруда, у меня осталось благоприятное впечатление от вашего владения матчастью.
Снимает галстук-бабочку и добавляет…
Конец наброска сценария Носильщика.
Через неделю после нашей свадьбы с Валерией я встретил Одетту и узнал от нее, что Валентина сдала экзамены на бакалавра.
Мне было интересно, не грустит ли она, не оставила ли радость успеха тень печали на ее лице, не затуманились ли хоть чуть-чуть от этого ее глаза. Одетта удивилась моему вопросу.
– С чего бы ей печалиться? Во всяком случае я по ней этого не заметила. В день, когда объявили результаты экзаменов, она пришла сообщить эту новость со своим дядей к отцу на работу. Я находилась как раз там, в кабинете. Она была весела, смеялась. Станцевала там же с министром «ча-ча-ча». Нет, не печалилась она вовсе.
Разумеется, Лормье не считает, что смерть волшебника – слишком высокая плата за метаморфозу его дочери. Но сама Валентина? Она, несомненно, слишком рассудительна, чтобы отягощать себя воспоминаниями. Я прошелся немного с Одеттой, и она поинтересовалась, доволен ли я работой, которую она мне нашла. Работа эта была далеко не такой серьезной, как у Лормье, но для моих амбиций достаточной. Больше всего мне не хватало Жоселины, ее тонкого и щедрого сердца. Если б я остался в СБЭ, то, думаю, несмотря на ее неказистую внешность, влюбился бы в нее.
– Передайте Жоселине, что я очень часто ее вспоминаю.
– Она к вам очень хорошо относится. Я очень рада за нее, нашу малышку. Она выходит за молодого химика, который живет с ней в одном доме.
Мы расстались, и я пошел домой. Там я обнаружил Соню Бувийон, беседовавшую с моей женой. Мы пригласили ее поужинать. Уже больше трех месяцев я не заходил к ним. Глядя на ее летнее платье, счастливое и мечтательное лицо, полные руки, я не без удовольствия вспомнил тот вечер, когда сжал ее в своих объятиях.
– Татьяна уехала с мужем на машине, – ответила она на мой вопрос, касающийся ее дочери. – Ален получил отпуск на три недели. Первого июля он заехал за Татьяной в Тоннер, и они отправились в Италию, а я, после трех месяцев, проведенных в этом городишке, решила вернуться в Париж. Вот уже восемь дней, как они уехали, но я беспокоюсь за то, что будет впереди. В день их отъезда она мне сказала в нашей квартирке в Тоннере, пока он был, извините, в туалете: «Твой Ален – настоящий придурок». О! Я знаю, что она имела в виду. Парень-то красавец, всегда одет с иголочки, любит порядок, точность, знает цену своему слову, да и гордый тоже. Володя, такой гордый, что можно сказать: у него один корсет для тела, другой для голоса, а третий для ума. И вот я смотрю на него, слушаю, и он напоминает мне моего бедного Адриана – пусть он простит меня, если слышит, но только образованного, а вы же знаете, какой у мужчины серьезный вид, если он с образованием. Можно подумать, что он по жизни разъезжает верхом на коне и плюет на людей, которые топчут ее своими ногами. Как только они поженились, Татьяна виделась с ним раз в неделю, когда он приезжал по субботам в Тоннер. Меня дрожь берет, как подумаю, что они будут вместе жить три месяца, три недели в Италии, а потом в Париже. Что меня успокаивает, так это его глаза, даже не знаю, как сказать: такие у него горячие глаза, что обжигают лица женщин, да, лица, говорю я, но думаю при этом… И знаете, глаза моего зятя напоминают мне глаза одного человека, который жил в Харькове, а он был маленький такой, учитель, с большим твердым пристяжным воротничком.
– Тот учитель, что нанял Марьюшку себе в горничные?
– О! Я вам уже рассказывала?
– Да нет. Вы несколько раз начинали, но потом переходили на другое.
– Тогда слушайте. Учителя этого звали Пантелей Колышкин, и у него были такие глаза… А у нее, у Марьюшки, было красивое лицо, но она никогда не улыбалась, всегда смотрела зло, и такая была она крупная, такая сильная, что мужчины боялись с ней говорить, и, может быть, поэтому-то она и смотрела так зло. Я помню, как учитель встретился с ней в нашей лавке, чтобы договориться о работе. Марьюшка стирала наше белье во дворе. И вот она входит: руки растопыренные, красные, мокрые. Учитель такой робкий и ниже ее ростом посмотрел на Марьюшку, и глаза его запылали, а она потупилась, и он спросил, согласна ли она приходить к нему убирать каждый день в пять часов вечера. Она сказала, что согласна. А надо вам сказать, что муж Марьюшки оказался в плену в Австрии и никогда ей не писал, потому что не умел писать. У них был мальчик двенадцати лет, Володя, дурачок. Однажды вечером он захотел есть, поднялся к учителю и с площадки позвал свою мать. А Марьюшка вышла и столкнула его с лестницы, своего собственного ребенка, крикнув ему: «Пошел вон, свиное отродье». Назавтра, когда она пришла к нам стирать белье, мама спросила у нее, как ей работается у учителя. А Марьюшка отвернулась, на мать не глядит и отвечает ей: «Марья Степановна, вы не желаете, чтоб я стирала вам и мыла полы, ну так я уйду». Четыре дня подряд Марьюшка ходила прибирать у учителя, а соседи все следили и видели, что она уходит от него в десять часов вечера, и они говорили, что это, мол, позор для всей улицы. И вот, слушайте, на пятый день Марьюшка пришла, как всегда, в пять часов. А тогда вдруг наступила прямо летняя жара. Александра Гавриловна, старая тетка булочника, которая поднялась к себе прилечь на минутку, подошла к окошку подышать свежим воздухом. Да вдруг как закричит. На другой стороне улицы, в третьем этаже, в окне показался учитель, руками размахивает, а сзади подбежала Марьюшка, схватила его за шею своими ручищами и задушила его. Он подергался, язык высунул – и конец. А Марьюшка, я и не должна бы это говорить, но скажу – расстегнула платье и прижала его голову вместе с высунутым языком к своей большой груди, такой, как сейчас модно. Вот так умер Пантелей Колышкин, маленький тихий учитель с большим пристяжным воротничком.
– Ну и кино, но почему же она его задушила? – спросила Валерия.
– Она узнала, что у него есть еще женщина.
Валерия встала и, заметив, что нельзя же так всерьез ко всему относиться, пошла на кухню. Соня обратилась ко мне, понизив голос:
– Ох! Володя, мне так стыдно. Татьяна попросила меня зайти к вам и сказать, что она возвращается через две недели. Она хочет, чтобы вы приходили к ней.
– Да конечно же. С удовольствием.
Соня несколько мгновений молча смотрела на меня, как бы желая убедиться, что я понял смысл ее слов. Успокоившись, она жалобно вздохнула:
– Татьяна меня беспрестанно терзает. Да, вот еще. Я перед вами заходила к бедному Жюлю Бувийону. Он мне рассказал, что сжег рукопись, и это его так опечалило. Столько лет труда. Он дал мне честное слово, что доказал – Бог есть. Возможно ли это, Володя?
– Да, это правда, Бог есть.
– О! Я всегда сомневалась, но надеялась. Люди так хотят надеяться.
Переживая за дочь, переживая за саму себя, Соня расплакалась. К счастью, Бог быстро выскочил у нее из головы. Она начала рассказывать о бездельнике Родионе, который довел свою мать до нищенства, но сумел жениться на очень богатой невесте после того, как украл где-то икону и банку варенья.
Конец

Marcel Aymé. Les tiroirs de l’inconnuПеревод Е. Маричева
Наезжающей камерой

Венчание состоялось в церкви Сент-Оноре д’Эйло. В круг основных гостей вошли семеро крупных заправил тяжелой промышленности, пятеро дворян, один министр и два генерала. Для свадебного путешествия молодые выбрали Египет, где и пробыли два месяца, по истечении которых оказались на улице Спонтини на обеде у родителей молодой жены, где всего собралось восемь человек. Комната была пустой, из мебели – только стол и стулья. Стены цвета холодильника – голые, только на самой длинной из них в уголке висела крошечная картина, на которой было изображено блюдечко с тремя вишенками на нем. Чувствовалось, что все это стоит бешеных денег. Мсье Ласкен, тесть, пятидесяти лет, с лысым черепом, со здоровым цветом лица, узкими седыми усами, по виду человек способный, изысканный, серьезный профессионал, смотрел на своего зятя со смущением, будто не совсем узнавал его, и боролся со внезапным ослаблением памяти, которое он связывал с головной болью, внезапно появившейся в начале обеда. Вот о чем он думал, и не без напряжения: «Красивый парень, пышет здоровьем, зубы неплохие, хорошо воспитан, имеет какой-то диплом, владелец сталелитейных заводов Ленуара, за ним стоит группа… нет, группы нет… Достоинств много. Короче, прекрасная партия и недорого мне обошлась, поскольку часть приданного находится в обороте на моих заводах. Мне кажется… Ну, то есть… красивый парень, пышет здоровьем, зубы неплохие…»
Сам того не замечая, он снова и снова перематывал тот же ролик, за каждым разом теряя несколько слов. Ему помнилось, что он замечал у своего зятя еще до свадьбы некоторые недостатки в характере, и он сейчас злился, что не может припомнить своих нареканий. От усиленной работы памяти на лбу выступили капли пота, а сердце тревожно сжималось при взгляде на молодого человека. Само имя Пьера Ленуара расплывалось в его отяжелевшей голове. Он чувствовал, как между ними утончается нить понимания, вот-вот она совсем порвется. Вдруг в голове раздался щелчок, и Пьер Ленуар как бы стал непроницаемым для его взгляда и ума. Этот переход от материального к нематериальному оставил ему только ненужную, застывшую форму. Успев все же почувствовать, что из его мира исчез зять, мсье Ласкен ощутил боль, поскольку был человеком, привычным к порядку, с обостренным чувством непрерывности. Он провел рукой по лбу, пытаясь прогнать болезненную тяжесть, вдруг возникшую над переносицей, и включился в разговор, который зашел как раз о Египте. Чтобы проверить свое странное открытие и в некоторой надежде, что чары развеются, он заставил себя задать герметичной форме Пьера Ленуара вопрос о пирамиде Хеопса.
– Это действительно здорово, – ответил Пьер. – Мы были там с Мак-Арделлом, ну знаете, знаменитый нападающий шотландской сборной по регби. Для меня – это один из самых выдающихся людей наших дней. Он прямо создан для этой игры. Помню, как раз там, у пирамиды, я не мог налюбоваться его походкой. Чувствуется, что у парня в ногах какая-то прыгучесть…
Мсье Ласкен видел движение губ, слышал звуки, но смысла слов уловить не мог. Он почти ожидал этого, но тем не менее очень испугался. Боль во лбу давила все сильнее и, казалось, овладевала им, погружая в какое-то оцепенение. Настойчивым жестом он еще раз попытался ее прогнать. Пьер наклонился вперед, чтобы взглянуть на Мишелин, свою молодую жену, сидевшую через три стула от него, и проговорил:
– Помнишь Мак-Арделла у Хеопса?
Мишелин с вежливой улыбкой произнесла «да», не выказывая особого интереса к воспоминаниям о Мак-Арделле. Слева от нее сидел друг ее мужа, Бернар Ансело, которого заботливо пригласила мадам Ласкен. Это был юноша двадцати четырех лет с приятным и серьезным, почти грустным лицом. В его взгляде, бесконечно добром, иногда вспыхивал воинственный огонь, будто он внезапно вспоминал, что ничему нельзя доверять. Он мало говорил и часто в глубине души восхищался женой друга. Он видел ее такой красивой, белокурой, румяной, так живо представлял себе гармонию юного тела – даже немного горько становилось оттого, что на такую радость и чистоту для него наложен глупый запрет. С другой стороны, он с удовольствием отмечал, что у Мишелин отсутствует то наивное и вульгарное тщеславие, которое так часто можно заметить у женщин на первых порах удовлетворенной любви, когда они ощущают на себе взгляд возлюбленного.
Остальные гости, все – родственники, ничего не замечали, разве только то, что Мишелин выглядела счастливой. Мать ее часто повторяла, что она довольна ее внешним видом, и была благодарна за это Пьеру. До свадьбы ее бросало в дрожь от разговоров о том, что от современной молодежи неизвестно, чего ждать, и что парни развращаются во все более раннем возрасте. По возвращении дочери она пыталась вызвать ее на откровенность, подстеречь какое-нибудь проявление скрытого гнева, вспоминая собственные вспышки злости в первое время своей супружеской жизни, когда она украдкой бросала на мужа боязливо-возмущенный взгляд, что, впрочем, и сейчас еще случалось, хотя теперь ее больше беспокоило то, что агрессор окончательно умиротворился. Так вот, в поведении Мишелин ничего таинственного не было, и в ответах ее не чувствовалась сдержанность. Она вернулась из Египта порозовевшей, но ничуть не более обеспокоенной и скрытной, чем была бы после поездки на экскурсию со старой гувернанткой. Размышляя над этой удивительной безмятежностью, мадам Ласкен тихо убеждалась, что ее зять в некоторых отношениях неполноценен, и от этого он ей нравился еще больше.
Люк Пондебуа, великий писатель, двоюродный брат мсье Ласкена и тоже лет под пятьдесят, обводил стол проницательным взглядом, не слишком доброжелательным, в котором слегка ощущалась шутливая холодность, присущая его обычной манере держаться, так странно контрастирующей с его произведениями. Это был человек скорее тщедушный, не очень крепко сложенный, с большой головой, живыми глазами и крупным мягким носом. Он был католическим романистом, и во всех его романах витал образ некоего молочного и слегка сникшего Бога, никак не укорененного в этом бренном мире. В разговоре Пондебуа любил высказывать смелые идеи, трубя при этом, что у него есть родственники среди крупных промышленников. Благодаря столь умеренно-смелым выпадам им многие восхищались. Люди его круга побаивались писателя, будто у него в кармане были ключи от революции. Писатели из бывших бакалейщиков тем более дорожили его одобрением – им казалось, что ему приходилось проделывать долгий путь, чтобы до них опуститься.
Он как-то по-особому наблюдал за Мишелин. Она раздражала его сильнее, чем все остальные, вместе взятые, своей созревшей белокурой красотой. Примерно в 1900 году одна пылкая, но малообеспеченная девчонка нанесла тяжелые раны его самолюбию, и с возрастом он не излечился от тайной робости перед красивыми женщинами. Мсье Ласкен, который благодаря связи с одной особой из богемного мира проникся идеями фрейдизма, говорил, что в случае его кузена имеет место подавление. Так или иначе, Пондебуа чувствовал себя непринужденно только в компании коренастых, широкобедрых женщин с короткими ляжками, желательно волосатыми. Неправ он был в том, что не признавался в этой вполне правомерной склонности и скрывал ее как тайный порок. В его романах лучшие героини были гибкими и стройными. Подсознательно он злился на Мишелин за то, что она с таким спокойным изяществом воплощала угрызения его литературной совести, и искал возможности отыграться в разговоре. К сожалению, его самые отточенные реплики, которые вызывали восторг во многих домах, где он бывал, не были понятны ни Мишелин, ни кому-либо из присутствующих. Эти кузены Ласкен, хоть Пондебуа их и любил, были весьма толстокожими. Даже у Мишелин, – думал он, – и у ее брата Роже, четырнадцатилетнего парнишки слишком воспитанного вида, все уходит только в тело. Эти детки – очень красивые животные, но в духовной сфере они ко всему прикасаются будто через кожаные рукавицы. А родители и того хуже. У них даже нет почтения к игре ума, столь присущей простому народу, неловкие похвалы которого трогали самое сердце великого писателя.
И, конечно же – по его мнению, – занятия дяди Альфонса тоже были неспособны направить семью по более духовному пути. Этот Альфонс Шовье, сидевший сейчас между Пьером и Бернаром, был братом мадам Ласкен. В компании своего деверя он занимал место пусть и не самое важное, но дававшее ему двести тысяч франков в год. Это был мужчина сорока пяти лет, среднего роста, с мощными плечами и шеей. Несмотря на более мужские черты его лица, он все же походил на сестру и племянницу, а его фиалковые глаза были полны пламенной меланхолии. Сам он думал, что все его достоинства никогда не обеспечили бы ему даже место помощника счетовода в лавке, и иногда жалел о той жизни пешки, младшего офицера, которую он вел в течение двадцати лет, пока оставался в ссоре с семьей. Пондебуа его слегка презирал, но спокойно терпел. В домах, где могли оценить малейшие проявления независимости его ума, он любил упоминать об этом беспутном шалопае, которому положили двести тысяч франков в год. Дамы с пониманием минут пять пережевывали поданную им информацию, восхищаясь тем, что он даже к своим безжалостен. Альфонс Шовье писателя не презирал – он испытывал к нему полное равнодушие, разве что ему слегка действовал на нервы его назойливый голос. Книги его он тоже не любил.
Мишелин в конце концов раздраженно ответила Пондебуа, изводившему ее разговорами о пирамидах:
– Великие исторические ландшафты, если не можешь на них посмотреть глазами писателя, выглядят весьма монотонно.
Осознав, что такое высказывание не очень уместно по возвращении из свадебного путешествия, она покраснела. За столом тут же возник заговор молчания, чтобы предать забвению то, что каждый считал простой неловкостью, и не углубляться в тему, но Пондебуа обратился к Пьеру Ленуару:
– Современные молодые женщины невероятно здравомыслящи. Бы видите, любовь больше не окрашивает собой все окружающее. Новобрачная зевает перед пирамидами. Любовники в Венеции считают путешествие неудавшимся, если забыли дома «кодак». Конец романтическим бегствам и свадебным путешествиям.
Мишелин еще сильнее покраснела, и все разозлились на Люка Пондебуа. Вся семья скрестила взгляды на писателе, а мсье Ласкен сосредоточил на нем все вниманием, на которое был способен. Его голова совсем отяжелела. Перед глазами роились черные точки. К тому же упрямая непрозрачность зятя сковывала усилия его разума, будто бы оборвался контакт у какого-то реле. Он уже не осознавал, что его дочь вышла замуж, и от него ускользал смысл этого вечера. Несколько раз ему приходило в голову выйти из столовой, сославшись на головную боль, но это решение терялось, каким-то косвенным путем натыкаясь на непроницаемую форму Пьера Ленуара.
Тем временем Пондебуа радовался, что восстановил всех против себя, и на лице его появилось выражение некоторого удовлетворения. Мсье Ласкен, с отчаянным усердием смотревший на писателя, увидел, как его губы вытягиваются в улыбку, а лоб пересекает несколько морщинок. Понимая, что эта игра мускулов соответствует какому-то внутреннему состоянию, он пытался обратиться к своему долгому опыту лиц и выражений. Но опыт этот превратился в его голове в какой-то кошмарный словарь, где значения разошлись со словами. Лицо Пондебуа было оживленным, но ничего не выражающим, безмолвным, как маска чужеземного идола. Мсье Ласкен, борясь с нахлынувшим страхом, пробормотал:
– Люк… Люк…
Его умоляющий голос затерялся в шуме разговора. Пондебуа, привыкший наблюдать за аудиторией и всегда схватывающий реакцию каждого, увидел, как зашевелились губы кузена, и обернулся к нему. Взгляд родственника показался ему страшноватым, но черты лица были спокойными, как всегда, и их неподвижность ничего тревожного не предвещала. «Лицо воспитанного человека, которого схватил ревматизм», – подумал он. Мсье Ласкен слегка подался вперед подбородком, чтобы крепче удержать дружеский взгляд, остановившийся на нем. На какую-то долю секунды он ощутил родственную связь между ними, затем опять услышал щелчок, и контакт полностью оборвался. Пондебуа превратился в безразличную форму подобно Пьеру Ленуару. В глазах мсье Ласкена оба выглядели как две статуи Командора, лишенные при этом всякого символизма и как бы слепленные из какой-то чуждой материи, не заключавшей в себе ничего человеческого, даже тайны.
И тотчас же круг обычных представлений, каждое из которых основывалось на чем-то, связанном с семьей, стал несколько более неопределенным. Кроме тяжести во всей голове, мсье Ласкен вскоре почувствовал, как его лоб сжимает невероятно болезненный обруч, будто кто-то пытается разрезать его череп пополам веревкой, как масло.
Желая вывести мсье Ласкена из состояния замешательства, Пондебуа спросил у него, что он думает о политической ситуации, возникшей весной 1936 года.
– Вчера вечером толпа так и бурлила на Елисейских полях. Я видел, как несколько раз вмешивалась полиция, а пробыл я там не пять минут. Ты же понимаешь, влипнуть в неприятности я не боялся.
Мсье Ласкен, казалось, не слышал. Можно было, конечно, подумать, что он размышляет над словами своего кузена. Однако этот отсутствующий взгляд начинал казаться более чем странным, и Пондебуа хотел уже поделиться своим беспокойством с супругой кузена, но к ней подошел метрдотель и начал что-то нашептывать. У кухарки произошли какие-то осложнения с уткой с апельсинами, поэтому придется немного подождать. Мадам Ласкен была очень огорчена задержкой.
– Виктор, вы не договариваете, – тихо произнесла она. – Утка подгорела. Я уверена, что она подгорела.
– Клянусь вам, мадам, утка не подгорела, именно потому, что она еще не дожарилась, я и обратился к вам с просьбой немного подождать.
Беседа продолжалась. Мсье Ласкен проявлял к ней какой-то жадный интерес. Он пытался вновь уловить ощущения своей семьи через эту выразительнейшую картинку своей домашней жизни и социального положения. Но смысл разговора с глазу на глаз расплывался, как и само лицо Виктора. Метрдотель превращался в представителя персонала офиса, затем в представителя рабочих, представителя правительства, представителя профсоюза, представителя группы инициалов, пляшущих на больших голых стенах столовой. Наконец мсье Ласкен опять услышал щелчок, и Виктор, перестав быть представителем чего бы то ни было живого, изгладился полностью из его памяти. Казалось, хозяйка дома была занята каким-то манекеном, словно обтекаемого жизнью, не проникаемой внутрь, и присутствие которого никак не воздействовало на чувства.
Мсье Ласкена мучили все те же тяжкие боли, но от них отвлекало ощущение, что голова заполнена каким-то пушистым веществом, сквозь которое мыслям было все труднее пробиться. Он перевел взгляд на Бернара Ансело и слегка удивился при виде этого незнакомца. Только существование Пьера Ленуара могло бы объяснить ему присутствие этого молодого человека. Он испытал почти облегчение, отделавшись при очередном щелчке от Бернара Ансело, вместе с которым преобразился и Альфонс Шовье.
Он оказался наедине с женой и двумя детьми. Мир, сведясь к этим трем существам, к которым он чувствовал себя крепко привязанным, показался ему таким четким, выделяясь пятном яркого света на темном фоне забвения. Чтобы подтвердить стабильность этого семейного мирка и окончательно засвидетельствовать его существование, он хотел заговорить с Мишелин, но не нашел слов. Испуганный своей неудачей, он обернулся к Роже, потом к жене, но так и не смог издать ни звука. Мадам Ласкен обратилась к нему каким-то странным голосом, доносившимся издалека, и произнесла что-то непонятное. Дети словно удалялись в сумерки и, казалось, уменьшались на глазах. Он чувствовал, что катится к пропасти, и пытался за что-нибудь ухватиться. Столовая и гости исчезли. Усилием воли ему удалось пробить во мраке своей памяти узкий ход. Несколько мгновений он следовал по нему за семьей, поднимаясь по ступенькам, ведущим в прошлое.
Сначала в дверном проеме появилась мадам Ласкен в выходном платье в сопровождении детей. Мишелин – двенадцатилетняя девочка в короткой юбочке и с косичками. Роже – пятилетний мальчуган в матроске и белых перчатках. Картинка сменилась другой, более давней. Мишелин, сидя на коленях матери, качала белокурой младенческой головкой. Потеряв в воспоминаниях Роже, он чувствовал, что кого-то недостает, и ощупью искал сына в памяти. Но следующее видением отвлекло его от Мишелин. Его жена, совсем юная, в узком платье довоенного фасона, подняла боязливо глаза и смотрела из-под широкополой шляпы с большим кучерявым пером. Во взгляде мсье Ласкена сквозила беспомощная нежность. Только та жизнь, что теплилась в этой хрупкой форме, сдерживала угрозу ночи, подступавшей к нему вплотную. Уже казалось, что образ молодой жены фиксируется, детали одежды становятся более объемными, чем гаснущий свет взгляда. Он почувствовал, что последняя пружина его памяти разжимается, и сделал неимоверное усилие, чтобы вновь запустить механизм. На несколько секунд в его памяти всплыл островок. Другая молодая женщина, смешливая, с серебристыми волосами, в юбке до колен, постукивала указательным пальцем по длинному мундштуку, стряхивая пепел. В изгибе и гладкости ее длинной руки присутствовала женственность, которая вновь тронула мсье Ласкена. Все услышали, как он простонал и отчетливо произнес:
– Элизабет. Производство.
В тот же момент супруга и серебристая женщина канули в кромешную ночь. Мсье Ласкен уже не страдал. Он почувствовал, как силы плавно перемещаются и медленно покидают его. Вытекая, они сгущались перед его лицом, пользуясь темнотой и его слабостью, тогда как он все уменьшался и становился ничем. Наконец он склонился над тарелкой и умер с полным достоинства выражением лица.








