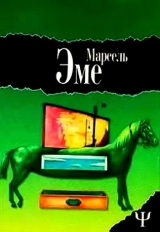
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Придя на следующий день на работу, я первым делом отправился в кабинет, который занимал в течение двух первых дней. Стола в нем больше не было. Я затворил за собой дверь, чтобы поразмыслить об этом. Исчезнувший стол теперь занимал место в гостиной Лормье, в этом не могло быть сомнений, Татьяна открыла Лормье нашу тайну, чтобы расположить его еще больше и придать себе весу. Другого объяснения я не видел. С тех пор как Келлеру влетело от президента за то, что меня держали на карантине, вновь поступавших в СБЭ – я в этом убедился лично – сразу же определяли в какой-нибудь отдел, хотя бы временно, и я был последним, кто занимал этот кабинетик. Сидя на единственном стуле, я на мгновение отдался мыслям о незнакомце, о котором немного подзабыл за последние недели, что не встречался с Татьяной.
Потом я спустился в подвал к Фарамону, чтобы получить обстоятельные разъяснения о случившемся. Он сидел в своей стеклянной клетке и уже стучал на машинке. Со времени нашей с ним первой встречи я несколько раз заходил к нему – не по служебным делам, а ради удовольствия отвлечься на несколько минут от атмосферы фирмы.
– Здравствуйте. Я увидел, что из комнаты № 23 забрали стол. Это вы распорядились?
– Да, я. Дней десять тому назад меня вызвал президент и сказал без всяких объяснений: «В кабинете № 23 ждет мой садовник. Пошлите к нему вашего подсобного рабочего, чтобы забрать оттуда стол и погрузить на машину». Вот и все. В пять минут дело было сделано.
Я не ошибся. В доме Лормье стоял именно стол-рукопись. Я попросил у Фарамона разрешения позвонить. Он оставил меня одного в стеклянной каморке. Сначала отыскал в справочнике телефон дома моделей Орсини.
– Алло! Дом моделей Орсини? Можно ли поговорить с господином Рафаэло? Спрашивает профессор Мартен.
– Сейчас посмотрю, на месте ли он.
Ждать пришлось долго. Мой взгляд невольно остановился на листке, вставленном в машинку.
«…Он замедлил шаг перед трибуной, и депутат от СФИО Форнье передал ему письмо, которое тот сунул в карман пиджака…»
– Алло! Господин профессор? Как я рад, как рад! Ах, профессор, дорогой, такой прекрасный сюрприз…
– Дорогой господин Рафаэло, я собираюсь выступить с сообщением в Академии наук и хотел сказать об этом Татьяне, но я не осмелился бы попросить ее к телефону без вашего любезного позволения.
– Как я взволнован! Академия! Как я горжусь! Сообщение! Это так громко! Профессор, дорогой, разве вы не знаете? Татьяна, наша очаровательная, наша столь любимая, она покинула нас уже месяц тому назад! Птица степей улетела! Ах, как грустно, господин профессор!
Итак, вопреки тому, что говорила Татьяна, не было никаких показов моделей за границей. Пока я обменивался с Рафаэло прощальными любезностями, меня как током дернуло. Рядом с машинкой лежал еще один листок с поправками и добавлениями, сделанными от руки, косым почерком. Единственное слово, вставленное на полях, было написано прямо. Очевидно, рука Фарамона лежала в тот момент так, что иначе писать было нельзя. Этой вставкой было слово «спокойно», и слово это с редкой отчетливостью всплыло в моей зрительной памяти. Я как бы увидел это самое слово «спокойно» во фразе, написанной незнакомцем на дне шестого ящика: «Если со мной ничего не случится, если я спокойно выйду из этой комнаты, я нарисую крест под столом между ящиками». Фразу эту, имевшую такое значение в рассказе, я перечитывал много и много раз, так что запомнил не только слова, но и детали почерка.
– Фарамон, – сказал я, подходя к месту, где хранились стулья, – вы скрыли от меня, что пишете.
– Когда выпадает минутка, я пытаюсь немножко рассеяться. Писать – это все равно, что путешествовать.
– Во всяком случае я прочитал один ваш великолепный рассказ, хотя рукопись довольно громоздкая. Одно замечание. Вы плохо изменяете почерк. Если бы ваши ящики попали не к президенту, а в руки генерального директора, у вас были бы большие неприятности, будьте уверены.
Изумленный Фарамон и не пытался что-нибудь отрицать. Он с беспокойством глядел на меня, переминаясь с ноги на ногу и как бы стесняясь своего длинного тела.
– Скажите, Фарамон, что на вас нашло? Вы не вправе вот так ни за что обвинять человека и наводить на него тяжкие подозрения. Так все-таки, что на вас нашло?
– Трудно объяснить. Должен сказать, что я всегда интересовался литературой и, несмотря на удовольствие, которое я в ней находил, она меня сильно разочаровала. Маркс и Фрейд, например, снабдили нас километрами истории, а простая литература никак не связывается с жизнью. Люди читают стихи Бодлера так, как приняли бы таблетку аспирина, а романы берут для того, чтобы уединиться в каком-нибудь устаревшем мире, в каком-то подобии искусственного рая. Вот почему я придумал себе прикладную литературу. Для меня литературный процесс начинается в тот момент, когда я заканчиваю произведение.
– Мне, знаете ли, литературные теории до лампочки. Зато я ясно вижу, что вы ни за что очернили Эрмелена.
– Я его не очернил. Мне довелось иметь с ним дело, и я начинаю разбираться в нем.
– Уж не хотите ли вы сказать, что ваш рассказ – это абсолютная правда?
– Вовсе нет. Мой рассказ вымышлен от начала и до конца. Но мне кажется, что я нарисовал довольно хороший портрет Эрмелена.
В свою очередь Фарамон расспросил меня про то, как я нашел ящики-рукописи, ключ и резиновую камеру за батареей. Все произошло, как он и рассчитывал. Радость переполняла Фарамона. Я ушел от него в половине десятого и направился в обход основных служб. Без четверти одиннадцать я находился в коммерческой дирекции «Электроники», просматривая почту, поступившую за последние сутки. Мое внимание привлекло письмо, которое означало полнейшую катастрофу для президента. Оно поступило из ССА – фиктивной компании, созданной Лормье якобы для экспорта в Швецию электронной техники. Вот его содержание:
«Стокгольм, 23.11.58.
Директору фирмы „Электроника“.Направляем вам чек на 57 000 крон в качестве выплаты вашей доли прибыли за октябрь.
С наилучшими пожеланиями…»
Письмо это было столь же абсурдно, сколь и приложенный к нему чек, ибо Лормье владел практически единолично всей ССА, а прибыль, по всей вероятности, переводилась на какой-нибудь личный счет, имевшийся у него в Стокгольме. Такое недоразумение могло быль лишь результатом нагромождения ошибок и нелепых действий кого-нибудь из новых служащих. Во всяком случае письмо раскрывало махинации Лормье и вместе с чеком было опасной уликой. Я притворился, что ничего не заметил, а лишь переговорил с заместителем директора Блуайе и выяснил, что Эрмелен утром уже был здесь и ушел в свой кабинет вместе с коммерческим директором Анжюбе. Не приходилось сомневаться, что Эрмелен уже направил чек в кассу. Единственное, что можно было попытаться предпринять, чтобы выиграть время, это добиться телеграммы из Стокгольма, которой бы чек отзывался в связи с ошибкой служащего. Чтобы не звонить через коммутатор, где этот звонок был бы зафиксирован, я пошел на почту на улице Бальзака. После долгого ожидания меня соединили, но я попал там на секретаршу-шведку, которая ничего не понимала по-французски, и я повесил трубку. Потом я позвонил еще раз, и когда после снова-таки долгих минут ожидания мне дали Стокгольм, никто трубку там не снял. Было уже без пяти двенадцать. Я хотел поговорить об этом с Одеттой и Жоселиной, но они уже ушли. Когда я выходил из кабинета, Эрмелен открыл дверь и пригласил меня зайти к нему. Он был один.
– Господин Мартен, вы отсутствовали почти час. Где вы были?
– Я выполнял поручение президента.
– Вы ходили на почту на улице Бальзака и звонили в Стокгольм.
– Вы шпионите за мной?
– Повежливее, грязная свинья. Я ловлю вас на горячем, а вы еще и наглеете?
– На каком таком «горячем», господин генеральный директор?
– Ваш звонок в Стокгольм безоговорочно доказывает ваше соучастие в афере с фирмой ССА. Но вы сами все расскажете.
– Господин генеральный директор, за время от двенадцати до половины второго я не обязан отчитываться ни перед кем.
– Сегодня вы обойдетесь без обеда. И это вам не в новинку, бандитское отродье! Голодранец! Вы обязаны своим положением на фирме лишь какой-то шлюхе, замолвившей за вас словечко президенту, но к этому вопросу у нас еще будет возможность вернуться. А сейчас выкладывайте все!
– Мне нечего вам сказать. Я ухожу.
Я направился к двери, но Эрмелен схватил меня за руку железной хваткой.
– Уберите руки. Вы же не собираетесь удерживать меня силой?
В глазах его светилось желание ударить, но он счел благоразумным воздержаться.
– Бегите, докладывайте Лормье. Мне плевать. Сегодня после обеда здесь будет президент голландской компании Ван дер Хельст. Мы обратимся в прокуратуру, и это не помешает другим акционерам поступить точно так же.
Я поехал на такси в Нейи. В пути я попытался подвести итоги. Лормье на этот раз попался. Самым неприятным мне казалось то, что он, очевидно, решил, что Эрмелен у него в руках из-за стола-рукописи, коего обладателем он стал. Но Фарамон уверенно заявил, что его рассказ вымышлен от начала до конца. Я же не представлял, как смогу рассказать об этом президенту. Если расскажу, то Фарамону конец, его выгонят из СБЭ. Я вошел в особняк президента, не встретив на пути никого, кроме слуги, которому уже не стал представляться. Поднявшись на второй этаж, я постучался в спальню и, не услышав ответа, толкнул дверь. Президент спал с раскрытым ртом. Расслабленное лицо его выглядело до странности искаженным, жирная масса стекла вниз, образовав между подбородком и воротником пижамы огромные фалды мертвенно-бледного цвета. При виде этого широкого, расплывшегося, аморфного лица казалось, что хозяин его начисто лишен какой-либо энергии, что в теле его теплится какая-то уменьшенная жизнь, пружины которой уже распрямились, и я плохо представлял себе его реакцию на опасность. Мне вдруг представилось, что он никогда больше не сможет противостоять угрозе перемены ситуации. Судно в этот раз стояло совсем рядом на маленьком столике и было наполовину заполнено красноватой мочой. Я испытал подлинный укол совести за то, что накануне отказал в помощи больному, который был уже всего лишь побежденным существом. После того как я легонько постучал его по плечу, он поднял веки и обратил на меня мутный взор сонных глаз. Потом пошевелил губами, как делают больные с иссушенным от жара ртом, и веки его вновь смежились. Но тут же вслед за этим он сел в постели, прислонившись к подушке, устремил на меня уже осмысленный взгляд и приказал говорить, поняв, что меня в его спальню привела какая-то опасность.
Я рассказал ему о письме и о чеке, о моих бесплодных попытках связаться по телефону с ССА и о вынужденном разговоре с Эрмеленом. Лормье слушал меня очень внимательно, а я в это время ловил себя на мысли, что становлюсь на его сторону в этом деле и полностью соглашаюсь на соучастие. Причем побуждало меня к этому не желание отомстить Эрмелену. Просто я катился по дорожке преданного служащего.
– Мартен, вы действовали прекрасно.
Эта похвала доставила мне живое, почти сладострастное удовольствие, к которому примешалось ровно столько стыда, сколько надо было, чтобы сделать его еще более острым.
– Господин президент, хочу напомнить, что в половине четвертого в СБЭ будет Ван дер Хельст.
– Я знаю, но вы не беспокойтесь, мы будем вовремя, – ответил Лормье, нажимая грушу звонка.
– И еще, господин президент. Вчера в маленькой гостиной рядом с вашей спальней я увидел стол с надписями из 23-го кабинета. Дело в том, что я много думал над этим и должен вам сказать: я абсолютно уверен, что это разгул чьей-то фантазии.
Лормье иронично кивнул, из чего я заключил, что он мне не верит. Вошел слуга и почти следом мадам Лормье. Президент распорядился приготовить теплую ванну, свежее белье и машину.
– У вас утром было почти 39, – заметила мадам Лормье.
Президент в ответ лишь свел брови. Я вышел вместе с мадам Лормье, которая, едва закрыв дверь, сказала мне тоном смирившегося человека:
– Мой муж попался, правда?
– Но в чем попался, мадам?
– Если уж он собрался ехать туда в таком состоянии, ясно, что дела его очень плохи. Рано или поздно это должно было случиться.
Я попытался успокоить ее, убедить, что речь идет только об интересах СБЭ, но она уже утвердилась в своем мнении. В словах ее, впрочем, не было и намека на какое-либо чувство досады на мужа. Видимо, она считала, что заслужила такое справедливое наказание.
– События развиваются слишком быстро. Ради детей я желала бы оттянуть это на несколько лет, но мы не жалуемся, а вы слишком добры, если сочувствуете нашему несчастью. Нет, не отрицайте, господин Мартен. Я хорошо знаю, что буржуазия прогнила. Я нашла этому лишнее подтверждение позавчера в газете садовника, которую он забыл в кладовке.
– А какую газету читает ваш садовник?
Мы подошли к лестнице. Перед тем как ступить на нее, мадам Лормье повернулась ко мне, и в ее печальных глазах мелькнул, как мне показалось, блеск желания.
– Он читает «Юманитэ». Но не говорите об этом мужу. Он, естественно, защищает гниль и ничего не поймет. А сейчас, когда все погибло, стоит ли его раздражать?
Я мог бы ответить ей, что состояние президента достигает пятидесяти, а то и ста миллиардов и что в любом случае ничто еще не потеряно, но я, очевидно, разочаровал бы ее. Она усадила меня за семейный стол, напротив себя, на место главы. Дети уже сидели. В ответ на мое приветствие Валентина поблагодарила меня улыбкой за перевод с латыни, и от этой улыбки меня переполнило счастье. Мадам Лормье извинилась за отсутствие закуски и за то, что мне приходится начинать обед прямо со второго.
– Муж хочет, чтобы они привыкали к грубой пище. Может быть, завтра им придется есть только хлеб, на который еще нужно заработать.
Я увидел, как потемнели лица детей и как они подняли на меня, пролетария, глаза, выражавшие почтительную тревогу. Это чувство вины у маленькой Беатрисы, которой недавно исполнилось десять лет, тронуло меня тем больше, что я помнил, как сам испытал это чувство, но из-за того, что был ребенком бедных родителей. Через несколько минут мадам Лормье вышла из столовой посмотреть, как там муж. Не считая приличным говорить с Валентиной о ее учебе, я спросил, бывает ли она в театре или в кино. Она весело усмехнулась, вероятно, предвкушая удивление, которое обязательно вызовет у меня ее ответ.
– Я не хожу ни в кино, ни в театр. Папа не разрешает, да и мама тоже.
– Но есть же пьесы и фильмы, которые можно смотреть всем юношам и девушкам.
– Возможно, но дело не в том, плохие они или хорошие. Родители запрещают нам ходить туда потому, что это будет отвлекать нас от занятий. Что вам сказать, сколько бы я ни старалась, а один Бог знает, как я работаю, а в результате – как была, так и остаюсь плохой ученицей. Хорошие оценки у меня только по поведению.
В ее тоне не было никакого притворства, никакого кокетства, и в этом неприкрытом признании своей посредственности не было и намека на вызывающие нотки, которые иногда звучат в голосе плохих учеников из богатых семей. Пока она говорила, я смотрел на ее прекрасное лицо с совершенными чертами и здоровыми зубами. Мне казалось, что ее разум направлен только на обыденные жизненные вещи и не находит себе пищи в поучениях Боссюэ или в трактатах по геометрии. Я был зол на Лормье за его упрямое стремление сделать из Валентины бакалавра.
– Я говорю о себе, но это касается и моих братьев и сестер. Им еще далеко до экзаменов на бакалавра, но в конце года у них будут переводные экзамены, с которыми может быть связано столько трагедий, столько всего страшного… А родители ни о чем другом не думают.
Вернулась опечаленная мадам Лормье и сообщила траурным голосом:
– Муж спустится через четверть часа, но он в таком состоянии!.. Что за безумная идея ехать туда! Я уверена, что он этого не переживет.
Никто не сказал, что нужно помешать отцу ехать, зная, что напрасно было бы пытаться противоречить его воле. Когда с овощами было покончено, хозяйка дома приказала дворецкому подавать сыр, и я заметил на лицах детей выражение изумления, затем веселости. И когда сыр появился на столе, глаза Валентины загорелись от непреодолимого желания съесть кусочек. После сыра были еще мандарины, и я смог заключить, что такой пир вовсе не соответствовал привычкам этого дома. За столом уже ощущалось определенное веселье, и несмотря на увещевания матери, младший из сыновей – Рено – не смог удержаться от взрыва смеха, а за ним засмеялась и Беатриса. Когда в столовую вошел Лормье, сопровождаемый слугой, который, очевидно, боялся, что хозяин вот-вот рухнет на пол, все словно оцепенели. Он был бледен как полотно, страшен, глаза его блестели и, казалось, ничего ясно не видели, рот скривился книзу от усилия, которое он совершал над собой. Дышал он прерывисто, внешне он почти не отличался от того Лормье, которого я застал сегодня в спальне. Он тяжело присел у края стола, рядом со мной, пытаясь отдышаться и глядя на детей воспаленными глазами.
– Валентина, сколько за латинский перевод?
Это был не тот перевод, что я делал накануне, а другой – тот, который она сдала учителю неделей раньше и получила сегодня.
– Пять, – пролепетала Валентина.
Под взглядом отца эта красивая девушка съежилась, плечи ее упали, а молодая грудь поникла в складках свитера.
– Пять из двадцати! Куда как хорошо! – возмутился Лормье. – Посмотрите-ка на эту дуру! И с такими вот оценками ты собираешься в июне…
Приступ кашля остановил поток его нотаций. Все еще кашляя, он ткнул пальцем в Рено.
– Рено, – вместо него произнесла мадам Лормье, – сколько тебе поставили за домашнее задание по французскому?
– Пять с половиной, – робко промолвил несчастный Рено, убитый своей никчемностью.
Полбалла преимущества над сестрой, должно быть, показались Лормье иронией судьбы. Он разразился ужасным смехом, от которого лицо его перекосилось, а шея затряслась волнами жира над воротничком. У меня от вида этих четырех неучей, дрожавших от отцовского гнева, сжалось сердце, и я мысленно пожелал, чтобы смех этот задушил его, чтобы он тут же и издох.
– Пять с половиной! Ха, ха, ха! Пять с половиной! Все вы тупицы! Бездари! Что вас ждет в жизни? Хотите работать продавцами? Чернорабочими, дворниками?..
На этом он выдохся и жестом показал, что больше тут нечего добавить, что остальное он оставляет на следующий раз, когда к нему вернутся силы и он сможет вволю их пропесочить, заставить поползать перед ним на коленях. Наступило долгое молчание, которое нарушало только его прерывистое свистящее дыхание. Дети сидели прямо, не шевелясь, опустив глаза в тарелки. Лормье тронул меня рукой за колено:
– Мартен, вы занимались поисками учителя для этих четырех оболтусов?
– Да, да. Мой брат собирается жениться, и ему нужно срочно заработать денег.
– Он может заниматься с ними ежедневно с четырех до восьми. А по четвергам и воскресеньям – с восьми утра до восьми вечера.
Настало время детям уходить в лицей. Бедные неучи встали, и я получил возможность насладиться элегантностью Валентины, линией ее живота и бедер, длинными ногами, достигавшими, казалось, ее шеи. Один за другим дети подходили поцеловать отца, и он с нежностью прижимал их к себе, при этом во взгляде его было столько отчаяния и такое желание надежды, что меня просто проняло до костей. Я сразу же проникся глубоким сочувствием к этому богатейшему человеку, который, утратив веру в будущее богатства и своего класса, переживал чисто отцовскую тревогу, надеясь все-таки, что к его дипломированному потомству перейдет хоть что-то из роскоши и преимуществ его жизни миллиардера.
Мы приехали в СБЭ в четверть третьего. Несмотря на то, что в кабинете было очень жарко, Лормье дрожал от озноба, но тем не менее снял и пальто, и шарф. Пока Одетта звонила Эрмелену, чтобы пригласить его к президенту, я направился к выходу, однако Лормье приказал мне и Одетте остаться. Выглядел он теперь еще хуже, чем дома, и я боялся, что силы покинут его, когда придется говорить с Эрмеленом. Внезапно глаза его выпучились, он поднес руку ко рту и едва успел донести до туалетной комнаты то, что пошло у него назад от выпитого перед уходом из дома настоя. Как только он вернулся и сел в свое кресло, в кабинет впустили Эрмелена. Лицо его просто светилось от уверенности и удовольствия. Видя жалкое состояние Лормье, он полностью уверовал в близящийся триумф и не смог сдержать улыбку дикой радости.
– Господин президент, я не ожидал увидеть вас сегодня. Рад, что вы выздоровели быстрее, чем ожидали сами.
– Благодарю. Я пришел поговорить с вами о чеке за поставку товара в Швецию. Присаживайтесь.
Эрмелен сел, как обычный посетитель, в нескольких шагах от стола президента. Мы с Одеттой уселись в конце стола, друг против друга, причем мне показалось, что она была полностью в курсе махинаций ССА.
– Я не смел надеяться на ваш приход, господин президент. Мы сможем вместе с вами уточнить несколько моментов, оставшихся неясными, несмотря на признания Мартена.
Мою попытку протестовать остановил взгляд Лормье.
– Перейдем же к фактам, – продолжил Эрмелен и начал пространно излагать то, что подразумевалось под «делом ССА». Он называл цифры, даты, останавливался на некоторых совпадениях в ошибках разных служб и пытался делать выводы. Лормье, осевший в своем кресле, никак не реагировал, и вид этого разбитого человека, казалось, онемевшего от ужаса, удивительнейшим образом придавал уверенности Эрмелену.
– И что же вы намерены предпринять? – спросил Лормье, когда тот умолк.
– Я выложу все, – агрессивно ответил Эрмелен. – Сейчас сюда приедет Ван дер Хельст, и мы, естественно, известим его.
– Дорогой друг, вам лучше забыть об этой истории, от которой у некоторых людей могут быть неприятности.
– Ну и что ж? Пусть будут.
– Господин Эрмелен, прошу вас, не будьте злее, чем вы есть на самом деле.
– Теперь меня ничто не остановит, даю вам слово чести. Я пойду до конца.
Эрмелен чеканил слова и как бы отбивал такт рукой. Лормье вздохнул, медленно повернулся в кресле и устало спросил:
– Скажите, господин Эрмелен, вы помните, что должность генерального директора была предложена вам благодаря мне?
– У меня были все основания получить ее. И вы сами видите это сейчас.
– А знаете ли вы, почему я остановил свой выбор на вас? Нет, вам не догадаться. Потому что меня устраивало, чтобы должность генерального директора занимал дурак.
– Теперь, когда я имею в руках такие сведения, ваше мнение мне безразлично, – отпарировал Эрмелен. – Однако я требую вежливого обращения.
Лормье начинал вести себя вызывающе. Он, разумеется, рассчитывал на оружие, которым в его глазах был рассказ незнакомца. Я хотел предупредить его еще раз, но он вдруг выпрямился и резким, едким голосом заговорил:
– Эрмелен, когда Мартена поместили в кабинет 23, ему пришло в голову вытащить ящики стола, и на нижней стороне этих самых ящиков он прочитал рукописные признания юноши, который находился в этом же кабинете до него.
Этого-то я и боялся, да к тому же он и меня впутал. Я чуть было не сказал ему, что он заблуждается.
– Теперь этот документ у меня дома. Ознакомившись с ним, я провел детальное расследование и теперь знаю все, что случилось с юным Раулем Дюдеваном. Я могу сделать так, что вас арестуют еще до трех часов. Достаточно одного звонка.
– Господин президент! – вскричал Эрмелен испуганно, становясь бледнее, чем Лормье.
– Просите прощения за вашу наглость, Эрмелен. На колени!
Эрмелен встал, показывая всем видом, что отказывается подчиниться. Потом подумал, и полагаю, только наше с Одеттой присутствие помешало ему выполнить приказ. Он приблизился к столу с намерением вступить в переговоры, получить прощение на почетных условиях, но перед ним была стена.
– Становитесь на колени и говорите: «Господин президент, прошу прощения за мою наглость».
Эрмелен пытался протестовать, умоляюще сложив руки, ссылался на свой возраст, на свою должность, на прошлые заслуги, на свою почтенность, на орден Почетного Легиона.
– Ну что ж, вы сами этого хотели, – произнес Лормье и протянул руку к телефону.
Эрмелен рухнул на колени. Сложенные в умоляющем жесте руки делали это зрелище невообразимо тяжелым. Лормье встал с кресла, чтобы лучше видеть.
– Господин президент, прошу прощения за мою наглость.
– Хорошо, встаньте и убирайтесь отсюда, мерзкая личность.
Я отвернулся, чтобы не видеть, как уходит Эрмелен, но заметил отвратительную ухмылку Лормье-победителя – он навсегда вывел из строя своего противника.
После его отъезда я вышел на улицу. Падал небольшой снежок, но тут же таял. По мере того как я шел, настроение мое улучшалось, но мне предстояло теперь все разузнать о Рауле Дюдеване, при одном имени которого, брошенном Лормье, Эрмелен оказался припертым к стенке. Мне казалось удивительным и даже невероятным, что какое-нибудь частное сыскное агентство смогло все раскопать. На самом же деле детективам, вероятно, удалось выяснить только имя Рауля Дюдевана, и Лормье, вооруженный одной этой уликой, блефовал, чтобы уложить Эрмелена на лопатки. Во всяком случае на совести генерального директора наверняка было какое-то черное дело, может быть, даже преступление, и оставалось лишь изумляться, как Фарамон смог быть таким убедительным в своем рассказе, не приведя никаких точных деталей, которых, впрочем, у него и быть не могло. В общем, прикладная литература дебютировала с достаточным блеском. Фарамон изложил мне в двух словах фабулу своей новой рукописи, несколько строчек из которой я прочитал, когда звонил от него Рафаэло. Речь шла о плане уничтожения правительства. Вечером в ресторане кто-то подкладывает бомбу под стол министра. К несчастью, политическая ситуация развивалась так, что операцию эту провести стало невозможно, и Фарамон продолжал свою работу лишь для того, чтобы поупражняться. Можно было, впрочем, надеяться, что когда-нибудь и эта рукопись пригодится. Я предавался таким размышлениям на улице Боэси в толпе прохожих, когда взгляд мой остановился на длинной низкой машине цвета зеленого миндаля, остановившейся в пятидесяти метрах. Это был то ли «ягуар», то ли «идея» – я в них не разбираюсь, – короче говоря, потрясающая тачка. Дверца со стороны водителя открылась, и из машины вышла Татьяна. На ней было светлое меховое манто. Она пересекла улицу и вошла в художественный салон, а я свернул в переулок.
Вечером, как мы и договаривались, я отправился на улицу Эжене Карьера. Возле дома у тротуара стояла зеленая машина. Мне открыла Татьяна, одетая в полотняную рабочую блузу. Она поцеловала меня с обычной страстью. Я вел себя как ни в чем не бывало.
Татьяна пристально посмотрела на меня, желая убедиться, что я ничего не знаю, но не стала ни о чем спрашивать, сознательно избегая разговоров о ее новой жизни. Она повела меня за собой на кухню, и от запаха готовящегося жаркого меня охватили меланхолические чувства, а Татьяна сняла трусики и открыла духовку, чтобы взглянуть на мясо. Потом она подняла юбку и привлекла меня к себе, говоря хриплым голосом, что любит меня. «Иди ко мне…» Все это было прекрасно, но на мне тоже были трусики – этакого лабиринтного типа, которые гений англосаксов отправил завоевывать мир, чтобы навсегда покончить с просторными трусами нашей юности, оставлявшими за нами свободу действий в самых сложных ситуациях. Татьяна начинала нервничать. Я спросил, дома ли ее мать. Да, она как раз разговаривает с Жюлем Бувийоном в столовой. Они могли в любой момент зайти на кухню. Я хотел сказать, что не очень спешу, что сначала мы поужинаем, а потом немного побеседуем в ее спальне. В общем, я был готов согласиться, но взял себя в руки и слегка отстранился. И все же к сердцу моему подступила горечь, когда ее красивые ноги скрылись под юбкой.
– …Володя, как давно я вас не видела. Когда Татьяна разъезжает по своим Америкам, вы носа сюда не кажете. А я ведь о вас часто думаю. Мне хотелось рассказать вам о России, об одном парне из нашего дома – Ильюшке. Он любил дочь богатого конезаводчика и убил себя от отчаяния. Ее звали Машенька.
– Мама, не задерживай Мартена, – прервала ее Татьяна. – Он торопится. Его невеста заболела.
Она сделала ударение на слове «невеста» и окинула меня жестким, почти презрительным взглядом. Соня удивилась, но я не стал отрицать.
– Значит, ты женишься, мой мальчик, – произнес Жюль. – Правильно. Надо познать до конца убожество людей. Моя жена ушла от меня с городским полицейским через месяц после свадьбы. Я пытался страдать, но не смог. Надеюсь, тебе это удастся лучше, чем мне. Во всяком случае я хотел бы, чтобы еще до женитьбы ты прочитал мою книгу. Я ее давал Монкорне, моему приятелю. Он читал ее три недели и ничего не понял. Боюсь, что и другим это не дано, настолько в книге много мыслей. Но ты – ты должен понять. Приходи ко мне в гости, в Китовый тупик. Спросишь Жюля Бувийона.
– Непременно зайду в одну из суббот.
Я попрощался и вернулся домой, где меня не ждали. Еще в прихожей я услышал громкие голоса, доносившиеся из столовой. Там спорили о том, где будет спать Лена, переехавшая к нам сегодня днем. Носильщик не желал делиться своим диванчиком в столовой, утверждая, что не сможет сомкнуть глаз, если кто-то будет спать с ним рядом.
– Ты, Валерия, можешь спать с братом на его кровати, если он не против. А нет, так Лена будет спать с ним.
– И тебе не стыдно? – воскликнула Валерия. – Ты можешь просто так заставить твою жену спать с твоим братом? Никогда не видела более безнравственного типа. Какой стыд!
– Ты боишься, что Лена… с моим братом… Ну и что? Мы с Леной любим друг друга, этого достаточно. Что же до остального, то все мы знаем, что в любой момент всякое может случиться. А ты, Лена, как думаешь?
– О, я на все согласна, лишь бы никого не стеснять, – ответила Лена с красивым немецким акцентом.
– Вот это да! Такого нигде больше не увидишь! Ну чистые тебе жидомарксисты! Никаких тебе принципов, ничего! Никаких тебе тормозов! Коммунизм в постели! Но этому не бывать, пока есть такие, как я – не евреи и не черномазые! Я покажу вам, что такое французские нравы и что такое французские традиции! Никаких шуток!
Тут я вошел в столовую. Я хотел предложить простое решение – такое, которое никого бы не стесняло и не оскорбляло бы французские нравы. Валерия и Лена могли бы спать на большой кровати, а я перешел бы на медную. Валерия сухо отказалась. Она не выносит запаха другой женщины, когда у той месячные. Мне пришлось уступить и согласиться пустить Валерию на мою кровать за неимением другого способа разрешить проблему. Я был тронут тем, что Мишель с таким спокойствием мог предложить любимой женщине спать со мной. Его принципы были мне чужды, но нынешнее поведение вынуждало меня избавиться от некоторого к нему недоверия, оставшегося у меня от его отношений с Валерией до тех памятных событий, после которых я угодил в тюрьму.








