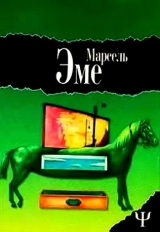
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Пьер упомянул и дядю Шовье, но очень кратко, и счел нужным умолчать об их последнем совместном ужине на неделе в ресторане на бульваре Курсель. Не успели они приступить к еде, как к их столику подсела молодая и, черт возьми, красивая женщина. За едой она смотрела на дядю сладкими глазами, и у нее были трепещущие ноздри и яркий рот. А он, то есть дядя, отнюдь не смущался присутствием племянника, называл ее лапочкой, цыпленочком и цветочком и обволакивал таким же слащавым взглядом. Он был смешон, бедняга, смешон донельзя. Наспех поужинав, они оставили Пьера возле ресторана, весьма глупо рассмеявшись ему в лицо, и удалились в сторону улицы Фальсбург, как пьяные. Этот несчастный дядя Шовье определенно был чудесным человеком, но никогда не отличался спортивностью.
– Что-то я не вижу Роже.
– Он играет с приятелями, – сказала мадам Ласкен. – Вот так-то, он является теперь только к обеду и ужину, да и то норовит побыстрее сбежать. Вечером я не могу его уложить. Вчера после ужина, в десять часов, он играл в гараже с соседскими ребятами. Они все закрылись в машине.
Пьер встревожился. Чем это они занимались там, в машине? Шумели или сидели тихо? А что это за дети были с ним? Розенберги и их кузены Блоки? Плохо, подумал он. Еврей обладает очень неспортивным темпераментом. Следовательно, очень интересуется сексуальными штучками. По ночам закрываются в машине, мальчики занимаются с девочками, входят во вкус, и четыре-пять лет спустя парень, из которого мог бы получиться настоящий атлет, становится просто бедным малым, любящим общество хорошеньких женщин, чтение, музыку и прочую сентиментальную чушь.
– Мама, я думаю, вам бы следовало получше присматривать за Роже и вообще не отпускать его гулять после ужина. Почему? Да потому, что это небезопасно. Вы знаете, чем они там занимались в машине среди ночи? Там же были и мальчики, и девочки. И не случайно они выбрали такое удобное время, когда было темно.
– Пьер! Да как вы можете? Роже – это ведь еще ребенок, да, ребенок, у него только игры на уме! Пьер!
Мадам Ласкен испуганно смотрела на него и чувствовала, как в ней вновь пробуждается враждебность к этому опасному типу, в отсутствие которого она призабыла о его злополучных подвигах. Да, ее зять оставался и далее похотливым сатиром, разоблаченным ею на улице Спонтини, и ум его был постоянно обращен ко всяким возмутительным образам. Взгляд свекрови был угрожающим напоминанием, и вспомнив о своей провинности, Пьер в замешательстве покраснел. Оба вернулись на позиции, занимаемые перед отъездом.
Вилла, красивое здание в баскском стиле, стояла над морем, утопающая в соснах. Поскольку Пьер был здесь впервые, мадам Ласкен показала ему дом. Эта роль гостеприимной хозяйки заставила ее временно забыть о своей обиде на Пьера, но у порога комнаты Мишелин ее лицо помрачнело.
– Поскольку ничто не предвещало вашего приезда, мы не отвели вам отдельной комнаты, но я могу дать распоряжения.
– Да не трудитесь, – возразил Пьер.
– Но ведь это более чем естественно, так как в Париже вы спите в разных комнатах.
– Делайте, как вам угодно, мама.
– Слушайте, Пьер, если вы мне поклянетесь…
– Я вам сказал, мама, делайте, как вам угодно.
Он не хотел ни в чем клясться, поскольку не отказывался от своих дурных мыслей. Последствия инцидента сказались и за ужином. Пьер чувствовал вокруг себя атмосферу худших дней на улице Спонтини, усугубленную тем, что здесь он был как бы гостем, который грубо обошелся с радушными хозяевами. К этому добавлялось страшное молчание Мишелин, которая иногда останавливала на нем отсутствующий и лишенный любопытства взгляд, словно не желая узнавать в нем ни мужа, ни кого бы то ни было вообще. Когда, встав из-за стола, Роже заявил, что пойдет к младшим Розенбергам и Блокам поиграть с ними в гараже, мадам Ласкен сказала: «Да-да, иди, милый, поиграй», и спокойным, уверенным взглядом раздавила возмущенные мысли, зарождавшиеся у зятя в голове.
Не зная о приезде Пьера Ленуара, Милу, как обычно, зашел за Мишелин, чтобы вывести ее на короткую прогулку. Поскольку он с неприличной скромностью стал выказывать желание убраться восвояси, мадам Ласкен отправила их прогуляться втроем, и они вышли. Удаляясь от виллы, они какое-то время шли по краю пляжа. Ярко светила луна, и на море был отлив, он оставил длинную белесую полоску твердого, утрамбованного водой песка. Милу заметил, что присутствие мужа не разговорило Мишелин. Трое спутников продолжали идти молча, не пытаясь завязать разговор, к которому, впрочем, не располагало спокойное безмолвие позднего часа.
– Какой прекрасный песок, – вдруг сказал Пьер Ленуар. – Он кажется упругим, как беговая дорожка. Так и хочется пробежаться. Вы не обидитесь? Мне нечасто выпадает случай потренироваться.
– Ну да, конечно, – сказал Милу.
– Я пробегусь тысячи на полторы метров, не на скорость, просто чтобы расслабиться. А вы подберете меня на обратном пути.
Он направился к песчаной полосе, а его спутники продолжали идти своей дорогой. Черты Мишелин исказились внезапным беспокойством, она схватила под руку Милу и стала подгонять его нетерпеливо и умоляюще: «Скорей, давай скорей». В спешке путь казался ей бесконечным, и она время от времени пускалась бегом, не обращая внимания на гуляющих, которые могли узнать ее в лунном свете. Меньше чем за пять минут они добрались до бара – цели своей ежевечерней прогулки. У дверей она выпустила руку своего спутника, чтобы быстрее войти. Стены бара, маленького узкого помещения, были обшиты лакированным деревом и украшены накладными иллюминаторами, канатами и спасательными кругами. Бармен ходил по залу в белой матросской фуражке, а из проигрывателя приглушенно доносилась песня о море. Людей в этот час было еще мало. Сидя на табурете, Мишелин, раздув ноздри в ожидании, пронзительным взглядом следила за движениями бармена, готовившего напитки. Она села так небрежно, что ее белая фланелевая юбка задралась, обнажив одну ногу до самого бедра. Когда бармен поставил на стойку два коктейля, она схватила свой неловким от спешки движением, разлив несколько капель. По мере того, как она пила, лицо ее смягчалось, глаза блестели более нежным светом. Отставив пустой бокал, она повернулась к Милу и, еще не зная, что ему сказать, снисходительно улыбнулась. На миг она закрыла глаза, чтобы лучше ощутить какую-то готовность к счастью, которая уже рождалась в ней. Бармен подал еще два коктейля. На этот раз она пила медленно, чтобы распробовать каждый глоток. Легкое тепло поднималось к ее: щекам, но уже не чувствовалась та тяжесть в голове, которая немного портила ее удовольствие в первые дни их приходов в бар.
– Такие длинные дни, Эварист, такие длинные, а так мало вмещают. Забавно, не правда ли? Ну так уж, иногда, через пень колоду, а все же забавно.
Она рассмеялась легким, счастливым смехом, и Милу вместе с ней. Он лишь смочил губы во втором коктейле, поскольку боялся повредить здоровью. Бокал Мишелин был пуст, и он заменил его своим, где оставалось еще три четверти. Этот обмен уже вошел у них в привычку, и молодая женщина на это рассчитывала.
– Вы очаровательны, Эварист. Скажите бармену, чтобы поставил «Хан-Тена». Я хочу уйти под звуки «Хан-Тена».
Она вышла под руку с Милу, напевая мелодию «Хан-Тена», закинув голову, устремив взгляд в звездное небо. Как и каждый вечер, она почти бездумно свернула в сосновый лесок и, улегшись на песок, усыпанный сосновыми иголками, прижала к себе Милу и принялась бредить.
Пьер Ленуар бежал под лучами, когда молодые люди вышли на пляж.
– Дорожка меня немного разочаровала, – сказал он, присоединившись к ним. – На первый взгляд песок кажется твердым, но на самом деле немного поддается под ногами. Впрочем, это не так мешает, как на ста метрах или даже четырехстах. При желании можно думать, что просто бежишь по тяжелой трассе. Я все же доволен. Завтра утром думаю пораньше встать и еще раз пробежать.
Они вошли на виллу. Мадам Ласкен заканчивала пытать кухарку. Когда пришло время ложиться, она властно взяла Пьера под руку и отвела в комнату, которую велела для него подготовить. Он и не подумал жаловаться, тем более, что ум его был занят любопытными наблюдениями относительно изменений сопротивления почвы под ногой бегуна.
Мишелин одна поднялась в свою спальню и долго стояла у окна. Мысли ее были смутными, а плоть еще трепетала от удовольствия. Когда счастье испарилось вместе с хмельным теплом, она перечитала письмо Бернара, на которое не в состоянии была ответить, и, плача, улеглась в постель. Слезы, которые она проливала, жалея себя, уже неделю были ее последней радостью за день.
Как и говорил Пьер, Пондебуа приехал к концу следующей недели и пробыл два дня. Он привез из Парижа интересные новости, касающиеся политической ситуации и состояния умов, но с этими Ласкенами, так мало понимавшими, невозможно было об этом говорить, вызывая к себе восхищение. Приятной неожиданностью для него было знакомство с Джонни – человеком, умеющим его оценить. Ему представили Милу, который сумел ловко ввернуть:
– Мэтр, я так рад познакомиться с вами. Я так люблю ваши книги, да-да. Поэзия и динамизм потрясающие!
Вечером, говоря с мадам Ласкен и Мишелин о молодом писателе, Пондебуа заявил:
– Этот Эварист Милу кажется мне очень тонким, очень умным юношей. Мне нравятся эти грубоватые манеры молодости, возможно, слишком безапелляционной, но такой понятливой, такой открытой всему духовному.
После его отъезда мадам Ласкен так и не поняла, остался ли он при первоначальном мнении, ибо, прочтя первую половину рукописи под названием «Могильщик», он высказал следующее двусмысленное суждение:
– Это плоско, нелепо, вульгарно и скучно до невозможности. Но в литературном плане вещь очень любопытная, очень сильная, просто прекрасная.
XVIIБольшой зал «Мулен де ла Галетт» был полон. Бернар сидел в последнем ряду, а за ним теснились, стоя, новоприбывшие. Молодые люди, празднично одетые и с повязками на рукаве, суетились в проходах с возбужденными и искренними лицами затейников из благотворительного общества, по поводу и без повода называя друг друга «товарищами», голоса их так и звенели чистой и честной радостью, которая задевала за живое публику, состоявшую частью из рабочих с Монмартра. На другом конце зала, на сцене, за столом с графином и стаканом с водой, сидели полукругом народные трибуны и повторяли в уме свои роли. Среди них не было ни единой звезды Народного фронта. Большинство составляли профессионалы, депутаты, бывшие депутаты, советники или секретари чего-нибудь, люди сорока-пятидесяти лет, вынашивающие мелкие и кратковременные надежды и в этот вечер исполняющие свои рабочие обязанности без воодушевления и опасений. Бернар пришел на это собрание, не испытывая ни малейшего любопытства. После обеда он услышал о нем в конторе от одного из коллег, и вечером, в час страха перед одиночеством или обществом родственников, он отправился в «Мулен де ла Галетт», словно в кино, чтобы заглушить свое отвращение и ненависть.
Ораторы сменяли друг друга на трибуне. Социалисты, активисты «Всеобщей конфедерации труда», коммунисты блаженно равнялись налево, и тон речей, совершенно нереволюционный, напоминал беседы о светском образовании или преподавании латыни. Изнывающая публика все же выказывала почтение к этим людям, так утруждавшим себя, и вежливые аплодисменты раздавались всякий раз, когда оратор приумолкал в ожидании. Время от времени красноречие возвышалось до некоторого слащавого пафоса с призывами к священному союзу. Это были минуты, когда речь заходила об Испании. Братолюбиво-воинственная дрожь пробегала по залу, в котором публика, будь она получше заведена, была бы готова схватиться за оружие. Но этим трибунам с ожиревшими сердцами недоставало умения.
Бернар изо всех сил старался заинтересоваться речами, но постоянно терял нить и вновь возвращался к картинкам, преследовавшим его уже несколько дней. В воскресенье утром Мариетт все рассказала. Как бы сама того не желая, с отсутствующим видом, ровным голосом, будто обращаясь к шкафу или животному, она рассказала ему, как в гостиничном номере Милу навязал ей свою волю, и как на морском берегу он регулярно спаивал Мишелин, чтобы добиться своего, и как он сейчас встречался с ней в холостяцкой квартире, которую снимал почасово неподалеку от авеню Ваграм. Этот хам похвастался своими подвигами Мариетт и добавил: «Я не хочу переутомляться сейчас, но когда на ней женюсь, мы еще увидимся. У тебя классное тельце, даже, наверное, получше, чем у нее». Но все эти подробности затмевались главной катастрофой: Мишелин осквернена этим подонком, этой хитрой и своевольной скотиной. Тогда же, в воскресенье, Бернар решил его убить. «Я убью его», – сказал он Мариетт, которая только пожала плечами, не придавая, кажется, никакого значения этим, сказанным в запальчивости словам порядочного молодого человека. Однако он думал о своем решении беспрестанно. Он продолжал мечтать об этом и здесь, в зале «Мулен де ла Галетт», иногда оставаясь совершенно наедине со своими мыслями. Он даже начинал беспокоиться, как это столь полное и всепоглощающее желание еще не встало на путь практического воплощения. Юноша, получивший буржуазное воспитание, очень плохо подготовлен к преступлению, и чудом было уже то, что он смог осознать его необходимость. Бернар даже не представлял себе, как взяться за это дело. Пуля была ему противна – слишком абстрактно. Убить из револьвера – это примерно то же, что убить мысленно. Ни ты, ни жертва не ощущаете реальности момента. Люди из высшего общества, сводящие счеты перестрелкой, – несчастные халтурщики. Когда вас душит желание мести, такой малостью его не удовлетворить. Нужно почувствовать, как бьется тварь, насладиться ее агонией.
После первых речей все последующие были лишь вариациями на ту же тему и публику не будоражили. Атмосфера в зале напоминала церковь в момент проповеди. Молодые комиссары с повязками отчаялись дождаться какого-нибудь инцидента, предоставившего бы им случай показать свое рвение и: силу бицепсов. Впереди справа Бернар заметил человека, лицо, которого было ему знакомо. Он вспомнил, что как-то вечером встретил его у вокзала Сен-Лазар в обществе дяди Шовье, который их представил друг другу, фамилия вроде Малюбье или Маринье. Нет, скорее Малинье. Человек этот казался очень возбужденным. Он не только поднимал сжатый кулак и аплодировал каждый раз, когда требовалось, но его горящее лицо, пылающий взгляд, какие-то нервные жесты выдавали большое внутреннее беспокойство, необъяснимое при такой умеренности ораторов и задевавшее любопытство соседей. Бернар забыл о нем и вернулся к мысли об убийстве. Нож, даже под именем кинжала, казался ему гнусным орудием, а яд хоть и был чище, но внушал не меньший ужас. Идеально было бы нанять кого-то, кто совершил бы это на его глазах, но ремесло наемного убийцы почти сошло на нет, во всяком случае простому человеку эта услуга недоступна. Бернар с омерзением подумал о своей слабости. Он решил, что слишком мелок, чтобы долго питать сильные страсти, и ему пришло в голову, что, возможно, он был из тех людей, которых тяжкая боль или великая ненависть доводят до самоубийства или ведут к медленной смерти. Вдруг комичное происшествие отвлекло его от этих размышлений. Пользуясь тем, что оратор на миг умолк, чтобы набрать воздуху, Малинье встал с исказившимся лицом и воскликнул голосом громким и зловещим, будто в нем вибрировала непонятная страсть: «А Франция? Да что же будет с Францией?» Все взгляды обратились на него, и публика разразилась веселым смехом, впрочем, вполне доброжелательным. Его сочли всего лишь простачком, дурачиной-простафилей, болваном-воякой. Одно слово – патриот. Он и правда выглядел глупо, бедняга, и казался таким стареньким и настолько свалившимся с луны, что его было даже жаль. Судя по этому яростному и ломкому голосу, исходившему из самого его нутра, по этой физиономии бесхитростного и безобидного психа, похоже было, что он, чего доброго, еще расплачется. Комиссары приблизились, дрожа от нетерпения, и глядели на него с молодой свирепостью, но оратор решил сам дать отпор, обеспечивая себе бурный успех: «Франция? Она смотрит на вас со всей снисходительностью, которой вы заслуживаете, но не испытывайте ее терпение». Малинье, весь багровый, с глупым видом упал на стул, а Франция принялась искренне веселиться, плача от смеха и хватаясь за бока. Даже Бернар, позабыв свои зловещие планы, провел несколько приятных минут. Всем казалось, что дело уже улажено, и оратор возвратился к теме. И тут вдруг опять Малинье распрямился, как пружина, и заревел: «Кретины! Кретины!» Последовала короткая и жестокая сцена из тех, что приводят зал в экстаз и укрепляют политические убеждения. Малинье был скучен комиссарами и, болтая в воздухе сапогами, исчез под громкий шум и свист. Это решительное изгнание изменило атмосферу к лучшему. Публика пребывала в счастливой уверенности, что недаром сюда пришла, и стало даже казаться, что у трибунов прорезается какой-то гений.
Выходили из зала медленно. Публика толпилась у выхода на улице Лепик в безрассудной надежде на какую-то стычку. Наряды полиции старались расчистить выход, но без применения силы. «Полиция с нами», – скандировали молодые люди с повязками. Рабочие посмеивались: да, и вокруг нас. Все это было не слишком многообещающим. Бернар задержался на выходе лишь для того, чтобы отдалить миг, когда останется один и должен будет вновь ставить перед собой неразрешимую проблему: как убить, не испачкав ни рук, ни совести? Утонув в толпе, он заметил впереди, по ту сторону проложенного полицией коридора, дядю Шовье, который, казалось, наблюдал за выходом. Несомненно, он искал своего друга Малинье. Бернару захотелось было к нему подойти, но он потерял его из виду до того, как вырвался из теснившей его толпы. Вскоре народ начал расходиться. Юные носители повязок приставали к блюстителям порядка, крича «полиция с нами», очень дружно и радуясь, что доставляют кому-то удовольствие. Какой-то капрал в раздражении прикрикнул: «Давай-давай, глотки у вас луженые». Они устроили ему овацию, хотели качать, но, получив грубый отпор, стали спускаться по улице Лепик, выкрикивая во все горло:, «Полиция с нами».
Пройдясь немного с последними группами, Бернар поднялся к площади Тертр, в сентябре уже давно к этому часу безлюдной. Он на миг остановился, чтобы в просвет улицы Кальвэр взглянуть на ночной Париж с высоты птичьего полета. Город светился яркими огнями. Молодой человек в мечтах сделался султаном некоего индийского княжества. Мишелин была его прекрасной султаншей, а Милу – его главным евнухом, его стараниями женатым на красивой девушке. Она (опять же его стараниями) рожала каждый год по ребенку, и султан то и дело поздравлял главного евнуха, в глазах которого светились злые огоньки.
Было около полуночи, когда Бернар, движимый желанием взглянуть на жилище соперника, вышел к началу улицы Норвен. Вокруг было пустынно. Жандармы, до этого стоявшие на тротуаре авеню Жюно, за «Мулен де ла Галетт», разошлись. Осенний ветер, влажный и своенравный, ворошил опавшие листья на проезжей части улицы. У перекрестка Бернар секунду помешкал, осознавая, насколько смешна эта столь безобидная разведывательная экспедиция. Поворачивая на улицу Жирардон, он увидел, как на другом ее конце возникла мужская фигура, почти тотчас же исчезнувшая на лестнице, спускающейся к площади Константен-Пекер. Среднего роста, широкоплечий, гибкий в движениях, незнакомец, которого он видел со спины и на расстоянии, казался довольно молодым. Бернар хоть и был рассеян, но заметил, что тот шагал, опустив голову и приподняв плечи, словно пытался зажечь сигарету на ветру. Приближаясь к тому месту, где этот человек выступил из полумрака, он заметил кучу стройматериалов, сползавшую с тротуара на мостовую. Длинные доски, прислоненные к стене, образовывали навес над пирамидой из кирпичей, а сбоку лежала перевернутая тачка.
Бернар остановился у груды кирпичей, чтобы взглянуть на улицу Симон-Дерер, начинавшуюся в двух шагах. Мариетт как-то объясняла ему, как найти дом Джонни, но он не мог сориентироваться, подозревая, что зашел не с того конца улицы. Он собирался повернуть обратно, но вдруг его внимание привлек какой-то блестящий предметом, который виднелся между двумя кирпичами. Это оказался просто кусок жести, но, наклонившись, чтобы в этом убедиться, он заметил чуть поодаль, за колесом тачки, мужскую ногу в желтом кожаном ботинке, а за этим открытием последовало другое – он увидел неподвижное человеческое тело, которое до сих пор от его взора заслоняла тачка. Труп лежал на земле, одна нога была вытянута, другая – согнута и подтянута к животу, руки судорожно сжаты на груди, а голова уткнулась в угол, образованный стеной и грудой кирпичей. Когда глаза Бернара привыкли к полумраку, он, дрожа от ужаса и жалости, узнал лицо Милу. Язык несчастного вывалился, а глаза были открыты и выкатились из орбит. Бернар услышал сзади шаги. Поворачиваясь, он задел несколько кирпичей, и они с шумом обвалились. От этого он потерял голову и кинулся бежать по лестнице, по которой спускался убийца несколько минут назад. Впрочем, ему хватило присутствия духа, чтобы перейти на шаг. Он добежал до улицы Коленкур, где встретил нескольких прохожих. Пошел дождь – холодный, относимый порывами ветра, населяющий ночь зловещими видениями. Ему даже в голову не пришло радоваться смерти этого монстра. Трясясь всеми поджилками и стуча зубами, он представлял себе агонию бедняги, задыхающегося в объятиях своего убийцы. Перед смертью он, должно быть, отчаянно пытался расцепить руки, сомкнувшиеся на горле, и вдохнуть глоток холодного ветра, обдувавшего его короткими порывами. Бернар невольно задерживал дыхание и подносил руки к воротничку. Он спешил вернуться домой, но боялся, взяв такси, оставить свидетельство своего пребывания в такой подозрительный час в этом уголке Монмартра. По размышлении он осознал, что оказался в опасном положении. В случае чего ему будет трудно объяснить, почему, обнаружив труп, он не сообщил в полицию. В панике он добрался до дома боковыми улицами, избегая проспектов и перекрестков, где дежурили полицейские.
Мадам Ансело и ее дочери только что вернулись из кино, где смотрели потрясающий фильм. После всех приготовлений ко сну им приспичило еще поговорить о нем перед тем, как разойтись по комнатам, и, собравшись в пижамах в столовой, они перебирали наиболее замечательные пассажи, потягивая что-то крепкое. Сунув руки в карманы, насмешливо поглядывая и хулигански выпятив живот, мадам Ансело бросила через плечо реплику, навсегда врезавшуюся в память: «Я явился. Как пинок под зад. Вот он я».
– Он удивительно сексапилен. А эта его манера поглядывать, трогая усики пальцем. Что-то неслыханное. По-моему, действительно только в американцах есть столько сексапильности. Он действует более непосредственно. Он покоряет тебя сразу.
Мадам Ансело еще было что сказать, но она застыла с раскрытым ртом при виде сына, входящего в столовую. Мертвенно-бледный, с блуждающим взглядом, голова бессильно повисла, вода стекает ручьем со шляпы на промокший плащ – казалось, что он сейчас так и рухнет на пол. Увидев его, Мариетт подумала: «Уже».
– Что с тобой? – спросила мадам Ансело. – Ты весь бледный. Ты болен?
С глупым видом он молча качал головой. Жермен и Лили стащили с него шляпу и плащ. Он не сопротивлялся, тело его обмякло, руки безвольно болтались. После двух выпитых залпом стаканов алкоголя лицо его разрумянилось и черты оживились. Он боязливо огляделся, хотел что-то сказать и вдруг разрыдался. Мать и сестры хлопотали вокруг него, брали его руки в свои, обнимали, целовали, говорили ему: «Ну же, Бернар, перестань плакать, скажи нам, что с тобой такое». Он не хотел и не мог ничего сказать, заходясь в рыданиях. Мсье Ансело, писавший письма в своей комнате, слышал, как вернулся сын. Он хотел справиться, как тот провел вечер, но, видя его в слезах, набросился на женщин, готовый сожрать их, вопя, что, мол, опять то же самое, опять все продолжается, все только и думают, как свести его мальчика в могилу, но ничего, этому придет конец. Вон из дому, он их всех выставит за дверь, пусть даже не сомневаются. Кроме того, он им запрещает даже нос высовывать на улицу, разве что по утрам на полчаса для поддержания здоровья. И ни гроша, ни одного су, ни сантима. Мадам Ансело парировала так едко и дерзко, что он чуть не огрел ее стулом. В пылу гнева он даже не заметил исчезнувшего сына, которого Мариетт увела в комнату.
Бернар чувствовал себя лучше. Отцовские вопли создали успокаивающий шум, который, казалось, заклинает всякую опасность. Мариетт смотрела на брата с беспокойством и ждала признаний, но он не был расположен говорить о своей зловещей находке и предпочитал скорее отогнать от себя это воспоминание. Когда они вошли в его комнату, она положила ему руки на плечи и спросила, не хочет ли он ей что-нибудь сказать. Он отрицательно помотал головой и, поцеловав ее, дружеским жестом подтолкнул к двери. Не удовлетворившись его молчанием, она провела бессонную ночь, спрашивая себя, совершил ли он убийство, и уже не зная, желает ли она этого.
Бернар лежал в постели и притворился спящим, когда отец подошел справиться о причинах его отчаяния. Мсье Ансело на цыпочках вышел. Впрочем, его сын почти сразу же и вправду заснул тяжелым сном, перемежающимся видениями дождя и шаткого дома, со смутным осознанием какой-то забытой драмы, которая вновь возникает в конце ночи. Наутро он проснулся в восемь и торопливо привел себя в порядок, поскольку в девять должен был быть в конторе. Воспоминание о приключившемся с ним уже не так давило, как накануне, и сейчас он уже трезво размышлял о том, какие последствия это могло для него иметь. Если исключить какой-либо неправдоподобный случай, у полиции не было никаких причин его подозревать, и, в принципе, следователи должны были обойти его вниманием. Само количество неприятных случайностей, которые могли бы вывести на него, было крайне ограниченным. Только настоящий убийца в момент своего бегства мог видеть издалека, как он выходит к улице Жирардон. Этому-то наверняка было бы выгодно известить полицию анонимным письмом: «А не спросить ли вам у младшего Ансело, что он делал в полночь на месте преступления?» Правда, у Бернара не было никаких оснований думать, что убийца его знает, поскольку сам он не смог опознать бегущую фигуру. Тем не менее, не чувствуя за собой сильного алиби, он оставался подавлен страхом.
Итак, наутро он проснулся позже обычного и привел себя в порядок.
Мадам Ансело и ее дочери завтракали. На столе лежала газета, и все тихо переговаривались. Отец уже ушел. Лицо Мариетт осунулось, глаза блестели, и в горле стоял комок. Войдя в столовую, Бернар увидел газету и понял по глазам и по той тишине, которой его встретили, что они уже все знают. Непроизвольно он повел себя, как преступник из мелодрамы. Остановившись посреди комнаты, он уставился на газету и набрал полную грудь воздуха, медленно запрокидывая голову. Мадам Ансело вскочила в большом волнении и, подбежав, обняла его.
– Сынок, малыш, это потрясающе! Это прекрасно, это грандиозно!
– Это не я, – стал отпираться Бернар. – Я здесь ни при чем. Это не я.
Мариетт, подскочив, обхватила руками его шею и, положив голову ему на плечо, стала, рыдая, просить у него прощения. Он отбивался и говорил:
– Да нет же, уверяю вас, это не я.
Впрочем, было вполне понятно, что он должен соблюдать осторожность.
– Он великолепен! Он бесподобен!
– У него невероятные скрытые возможности.
– Какая поэзия в этом всем, движение… атмосфера нереальности…
Бернар поел впопыхах, спеша сбежать от этих восторгов. Пока он глотал кофе, Жермен смотрела на руки убийцы, длинные пальцы которых наводили на мысль об изощренных пытках. Она процитировала вслух строку Бодлера: «И недвижно умрет в напряжении усилий».
Вокруг стола словно пробежала дрожь. Бернар вновь увидел перед собой искаженное лицо Милу, взглянул на свои руки, и внезапное угрызение совести укололо его в самое сердце. Он бессильно отставил недопитую чашку.
– Я ухожу, – сказал он, бросая салфетку. – С меня довольно.
Понимающий и уважительный шумок сопровождал его до двери. Когда он вышел, мадам Ансело вздохнула:
– Из этого можно сделать прекрасный фильм.
– Просто золотой сюжет, – одобрила Лили. – Давать это все надо было бы в мутном свете, не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать. Какой-то разлитый во всем ужас. В общем, нечто, создающее особую атмосферу.
– Да, да, – сдержанно согласилась Жермен, – но при этом не затемнить линию. Главное, по-моему, это дать прочувствовать пробуждение в Бернаре скрытого примитивизма. Показать, как зверь медленно высвобождается из оков своей социальной сущности и обретает первородный динамизм, убегая от комизма предрассудков и условностей.
– Да, это могло бы быть просто прекрасно.
– Я думаю, было бы интересно сделать его узколобым и боязливым мелким буржуа. Естественно, семья имеет большое значение, например, папа… нет, папа сам по себе хорош, нет смысла трогать. Маму я примерно представляю некой чудаковатой дамочкой.
– Почему чудаковатой? – запротестовала мадам Ансело.
– Нет, вот именно. Милая, вечно рассеянная дамочка, никогда ничего не понимающая и делающая оплошность за оплошностью. Потом Мариетт. Обязательно омолодить ее лет на пять-шесть. Студенточка. Умная. С массой предрассудков. Но с характером. Изнасилование – без изменений.
– Эту сцену можно было бы дать намеком, игрой теней на стене, – предложила Лили. – Наезжающей камерой – это было бы захватывающе.
– Эварист и Мариетт борются, да, это может пойти. Очень важный персонаж – Мариетт. По сути, намного важнее, чем Мишелин, которая очень красива, богата, элегантна, но прямо скажем, дура, в общем, как в жизни. Именно Мариетт заронит в душу брата идею мести, которая разожжет его ненависть и желание убить.
Мариетт, не открывавшая рта с того момента, как речь зашла о кино, протестующе взмахнула рукой с силой и отчаянием. Увидев сестру в таком волнении, Жермен схватила ее в объятия и стала извиняться, гладя ее по щекам:
– Миленькая, я говорила глупости, не думай об этом. Это же не всерьез. Я просто строила персонаж. Это была игра, просто игра…
– Я хочу, чтобы вы знали, – сказала Мариетт прерывающимся голосом. – Да, это я его толкнула на это. Все произошло из-за меня. Это я виновата. Я не должна была говорить ему то, что знала. Но я не верила, что он его убьет. Я даже и помыслить не могла. Клянусь вам. Я настолько верила, что даже написала всю правду Шовье, дяде Мишелин. Я думала, может быть, он…








