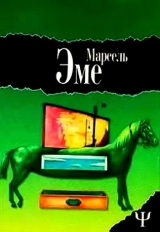
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Пондебуа, в домашнем халате с разводами, надетом прямо на пижаму, дочитывал утренние газеты. Он полулежал в кресле, положив босые и не очень чистые ноги на свой рабочий стол. Ноэль, его слуга, сметал метелочкой пыль с мебели. Хозяин требовал убирать кабинет в его присутствии, не для надзора, а для компании. Ноэль, бойкий старичок с хитрыми глазами, служил у него уже шестнадцать лет. Отбросив газету, Пондебуа спросил у него:
– Ноэль, что вы думаете о теперешней ситуации?
Слуга обернулся и ответил:
– Бардак, мсье. Мы движемся прямо к пропасти с этим их Народным фронтом.
– Честно, Ноэль?
– Кто его знает. Вчера после обеда, когда вас не было дома, приходил ко мне на кухню один коммунист, предлагал подписаться на газету для прислуги. Он мне сказал много правдивых вещей: что я слишком много работаю, что мне недостаточно платят…
– Вы его выставили за дверь?
– Не посмел. Я сначала решил, что его подослали вы, зная, что вы – человек прогрессивных убеждений.
– Вы надо мной издеваетесь, Ноэль?
– Что вы, мсье! Однако Народный фронт, кажется, собирается дать трудящимся большие пенсии по старости.
Пондебуа задумчиво взглянул на свои босые ноги, но рассеянным взглядом, не замечая, что они грязные. Ноэль застыл со внимательно-почтительным видом и свисающей метелочкой в руке.
– У вас большие сбережения? – спросил хозяин.
– Не знаю, мсье. Это вопрос запутанный.
– Ну, а между нами?
– Двести пятьдесят тысяч франков, мсье.
– Черт возьми, дорого же вы мне обходитесь. Ну так вот, на вашем месте, мой друг, я накупил бы фунтов или флоринов. Я сам сейчас именно так и делаю.
– Не могу, мсье, мои деньги вложены.
– Тем хуже. Заведения, которым вы одолжили эти денежки, на них и прокрутят эту операцию. А пенсии для трудящихся, Ноэль, ни за что никогда не будет. Пенсия означала бы конец откладыванию денег, и банкирское ремесло во многом потеряло бы свою прелесть. Поверьте мне, продайте свои бумажки и накупите фунтов.
Категоричность последних слов произвела на Ноэля впечатление. Он задал несколько вопросов, получил разъяснения и, казалось, всерьез задумался над присоветованной ему операцией.
– Должен, однако, вам заметить, – сказал Пондебуа, – что, поступая таким образом, вы действуете во вред своей стране.
– Да ну, если уж вам на наплевать на судьбу страны, то мне и подавно.
– О Боже! Нет, мне не наплевать! – воскликнул Пондебуа. – Я намереваюсь…
Его прервал телефонный звонок. Он пододвинул к себе аппарат и ответил измененным голосом:
– Кто его спрашивает, простите? Мсье Дюперрен? Я сейчас посмотрю, дома ли мсье.
Он закрыл трубку рукой и, повернувшись к Ноэлю, продолжил своим естественным голосом:
– Вы неправильно меня поняли. Когда я говорю, что покупаю флорины, я преувеличиваю. Я просто принимаю некоторые меры предосторожности и решаюсь на это с сожалением. Я, Ноэль, всем сердцем хотел бы помочь своей стране, да, впрочем, я ей и помогаю своим пером. Но я же не дам пустить себя по миру из-за того, что эта страна разваливается, назначая какого-то литератора главой правительства.
– Так мсье Блюм литератор? Вы меня пугаете. Вы правы, и точно пора фунты скупать.
Пондебуа вновь заговорил по телефону.
– Здравствуйте, дорогой друг. Прошу прощения, я беседовал с одним коллегой.
– Сожалею, что пришлось вас побеспокоить, мэтр. Я звоню из типографии. Я ждал ваше сообщение до последнего момента, но так ничего не было прислано…
– Ах да! Сообщение, которую я вам обещал! У меня было столько дел на этих днях, что я совсем позабыл.
– Наши читатели будут весьма разочарованы. Не могли бы вы мне сделать прямо с ходу какое-нибудь заявление, подать некий беспристрастный взгляд на события?
– Хорошо. Тогда я вам скажу, что я увлеченно, с тревожным вниманием слежу за развитием конфликта, который видится мне одновременно и завершением, и отправной точкой, и, добавлю, моментом из жизни человечества, идущего навстречу своей судьбе. Должен признаться, что в данном стечении обстоятельств я гораздо меньше озабочен внешними аспектами борьбы и некоторыми тактическими преимуществами, чем судьбой общечеловеческих ценностей, именно она требует от нас огромной бдительности. Поскольку, по моему мнению, интеллигент, осознающий свою ответственность, должен повсюду, где это возможно, стремиться распознать эти основополагающие ценности, распыленные в борьбе доктрин и партий. Среди смятения, присущего яростной схватке бурлящих сил, именно нам выпало защищать человечность и самое возвышенное назначение общественной структуры. Это – неблагодарная миссия, так как забота об объективности вынуждает самых чистых из нас оставаться в стороне от активных действий, как бы ни хотелось нам броситься в их водоворот. Блажен, кто, не изменив своей тяжелой задаче, сумеет мыслить и дышать категориями гуманизма и общечеловечности, невзирая на обстоятельства текущего момента. Таким людям в свое время по праву выпадет честь проложить широкий путь в грядущее духовных судеб человечества, где скоропреходящие волнения не смогут затмить тень Креста, растущую и простирающуюся в бесконечность.
Пондебуа заставил собеседника перечитать заявление и вставил туда абзац со слегка левым уклоном, где звучала его заинтересованность в судьбах трудящихся масс. Начав было говорить о социальном прогрессе, он спохватился, рассудив, что в соединении эти два слова дают чистую ноту глубоко радикального звучания, и заменил их «все ширящимся выражением социальной гармонии». Окончив сей тяжелый труд, он сделал глубокий вдох и спросил слугу, который как раз стряхивал пыль с хромолитографии:
– Ну как вам понравилась эта речь, Ноэль?
– Это было прекрасно. Сразу и не скажешь, что это вы придумали. У вас был такой серьезный и важный вид.
– Вы ведь видели меня в момент осуществления моего святого служения. Я великий писатель, Ноэль, я мыслитель. Я мыслю, будто дышу, сам того не замечая. К счастью, в обыденной жизни у меня хватает честности не уподобляться своим манифестам и романам. А как вам нравится эта хромолитография с пейзажем в синих тонах?
– Она прелестная, веселенькая, но, простите за откровенность, по-моему, дешево смотрится. Сразу видно, что любому по карману.
– Конечно, если не учитывать, что мода становится все вульгарнее. Ну, а что с сегодняшним обедом?
– Так как вы дали мне полную свободу, я решил повторить тот обед, что давался для бородатого поэта и двух дам из «Одеона».
– Ладно, только не делайте его слишком обильным. Я хотел бы создать у мсье Ленуара впечатление, будто я скуповат. Он от этого меня больше зауважает, а мсье Шовье меня простит за то, что не наестся. А теперь оставьте меня, Ноэль. На меня вдруг нашло вдохновение, и я чувствую, что напишу замечательную главу.
Пондебуа достал из ящика рукопись психологического романа, оригинальность которого состояла в том, что идея благодати транспонировалась на совершенно мирской лад. Одна молодая женщина из добропорядочной буржуазной семьи, высокая и худая, выходила замуж, устраивала приемы, заводила любовника, варила варенье, отравляла свекра, основывала благотворительный фонд, однако выходило все это у нее не блестяще, так как ей недоставало некой освящающей благодати, и это мешало ей реализоваться как в добром, так и в злом. Другие персонажи, немногим более счастливые, находились во власти предопределения и лишь иногда обретали некоторую свободу, чтобы сказать что-нибудь хлесткое или сделать гадость старому приятелю. Почитатели знаменитого романиста дружно признавали, что он вдохновлялся пронзительным и высокомерным янсенизмом и что все его творение в целом, даже в тех частях, где о Боге открыто не говорилось, являло собой суровое видение мира, в центре которого всегда высился Крест. В своих романах Пондебуа никогда не упоминал ни Богоматерь, ни святых, самим своим молчанием клеймя их как сентиментальные побрякушки для домохозяек и малообразованных людишек. На этот выхолощенный католицизм архиепископат смотрел благосклонно, так как он помогал держать связь с еретиками и вольнодумцами.
Пондебуа заканчивал одеваться, когда прибыл Шовье – как и договаривались, чуть раньше назначенного времени обеда. Они поговорили о ситуации на заводе, напряженной до крайности. Шовье теперь уже сомневался, что вмешательство Ленуара может быть в чем-либо полезным. Обсудив это и ни до чего не договорившись, Пондебуа заговорил о Элизабет.
– Мы же с вами с воскресенья не виделись. Да, она приходила за фотоальбомом в воскресенье перед вечером. Симпатичная дамочка, скорее манерная, чем действительно изысканная, и в чем-то забавная. Деланная простота, из-под которой просвечивает спесь недовольно-романтичной мелкой буржуазии, поставляющей второразрядных коммунистических главарей. Понятно, что мой кузен мог на нее клюнуть – девица все же красивая, на мой вкус не очень породистая, но красивая. Вы знаете, она явилась с твердым намерением меня подцепить. К счастью, я сразу нашел нужный тон. С такого рода женщинами только дай себя обвести – и ты погиб. Впрочем, она все прекрасно поняла. Но я буду удивлен, если вам не придется рано или поздно с ней столкнуться. Она наверняка пойдет стучаться во все двери. Если она не спросила у меня ваш адрес, то только потому, что наверняка он у нее уже есть.
– Кстати, – сказал Шовье, – я как раз собирался его сменить. Я переезжаю на улицу Фальсбург возле парка Монсо.
– Поздравляю. Сами будете обставлять?
– Нет, это меблированная квартира. Телефона у меня не будет.
– Вы правы. Это утомляет. Вы на днях заходили на улицу Спонтини?
– Да, я там обедал позавчера. Ничего нового. Все нормально.
– Счастливый дом, – сказал Пондебуа, – все дышит здоровьем. Там умирают за столом, со всей солидностью. Ну, а знаете ли вы этого парнишку, который водит Мишелин на теннисный корт и, кажется, кормится на улице Спонтини?
– Он там только обедает. Господи, я знаю его так же, как вы, ни больше ни меньше. Он вызывает у вас беспокойство?
– Да не особенно. Но вы знаете не хуже меня, куда может завести такого рода дружба.
– В этом конкретном случае вряд ли. Этот Бернар Ансело кажется мне юношей меланхоличным и печальным, его немного смущает богатство Ласкенов. Я не думаю, чтобы это был один из тех решительных самцов, для которых различие общественного положения преимущественно. И вы забываете, что Мишелин всего два месяца замужем.
– Это ничего не значит, – заметил Пондебуа. – Женщина вполне способна полюбить другого на третьем месяце замужества. Кстати, так и происходит в романе, который я сейчас пишу. Это, знаете ли, весьма нередко случается.
Шовье показалось, что он, мучаясь сомнениями насчет правдоподобности этого сюжетного хода, питает бессознательную надежду, что поведение Мишелин успокоит его совесть. Между тем прибыл Ленуар, и поскольку он предупреждал, что время его очень ограниченно, они сразу же направились к столу.
Как только подали закуски, они без особых обиняков перешли к делу. В манере говорить и в самом лице Ленуара было нечто привлекательно-грубое, вызывающее доверие. Он сам задавал тон разговору. Он согласился, что уже поздно пытаться предотвратить забастовку на заводах Ласкена, но утверждал, что можно значительно сократить ее продолжительность. Он особо настаивал на том, что нужно крепкое руководство, предвидя, что еще долгое время после возобновления работы все будет идти не очень гладко.
– Возможно, – сказал Пондебуа, – но у Пьера нет никакого опыта в этом деле. С другой стороны, вы сами знаете, какие причины заставляют нас держать его в стороне от предначертанного пути.
– Совершенно с вами согласен. Но я думаю не о Пьере, а о Луи, моем втором сыне. Это тот человек, который вам нужен. Я не могу простить ему того, что он сотворил. Если ты прямо создан, как он, быть патроном, и можно взять в приданое завод, ты не вправе жениться на девчонке без гроша в кармане. Это позор. Но я все же должен признать, что у Луи исключительнее способности к управлению предприятием. Видя, как оборачиваются события, я не думаю, что в ближайшие годы ему захочется начинать дело на свой риск. Тем временем он мог бы занимать на заводах Ласкена положение, которое позволило бы ему проявиться в полной мере. А затем, кто его знает? Вдруг, у младшего брата Мишелин не обнаружится призвания промышленника, и в этом случае вы будете даже рады, что есть Луи.
– Для Роже не обязательно иметь призвание, – сказал Пондебуа. – Достаточно иметь завод.
– Во всяком случае, – заметил Ленуар, – он еще слишком юн. Пройдет лет десять, не меньше, пока он действительно станет хозяином. И речь идет как раз о том, чтобы завод проработал эти десять лет, а они обещают быть нелегкими. Наконец, давайте посмотрим на вещи с другой точки зрения и вернемся к забастовке: необходимо, чтобы в руководстве заводов Ласкена сидел мой человек. Если мне придется просить об особом отношении, мне легче будет испросить его для своего сына, чем для мадам Ласкен. Вы меня понимаете?
– Только наполовину, – вмешался Шовье. – Мы не знаем, кто будет проявлять к нам это особое отношение.
– Я вижу, к чему вы клоните, – рассмеялся Ленуар. – Вам представляется, что металлургический синдикат или какой-нибудь мощный картель, располагая средствами давления на противника, заставит его помягче обойтись с компанией Ласкена. Увы, мой друг, это было бы слишком хорошо. У этих китов, у которых к тому же забастовок на предприятиях не будет, противника нет. Они знают только конкурентов, если бы они и заинтересовались компанией Ласкена, то, может быть, лишь для того, чтобы добить ее одним ударом и тем упрочить собственное положение. Нет, с этой стороны независимым предпринимателям ждать нечего. А политики и главы партий при всем желании ничего не могут сделать для нас.
– Тогда кто же? – спросил Пондебуа. – Финансисты?
– Вы смеетесь. Они с трестами заодно.
– Значит?
– Отгадайте сами.
– Сдаюсь.
– Мой покровитель – парикмахер, который держит свое заведение у Восточного вокзала. Я ему уже лет пять или шесть доверяю свою голову. А в прошлом году я имел счастье оказать ему услугу, устроив на свой завод одного из его племянников, безработного инженера. Раз в жизни я проявил бескорыстие и был за это чудесным образом вознагражден. Теперь оказывается, что мой парикмахер, уж не ведаю как, сделался одним из самых влиятельных на сегодня людей. Я не знаю, как далеко простирается его власть, но факт тот, что все, о чем бы я его до сих пор ни просил, оказывалось для него проще детской забавы.
VIIIПризрак Ласкена был скромен, прозрачен и всегда любезен. Шовье не жаловался, но с тех пор, как он перенес свои чемоданы в квартиру на улице Фальсбур, у него ни на секунду не возникло ощущения, что он у себя дома. Ему казалось, будто он остановился у Элизабет, и молодая женщина невольно давала ему это почувствовать. Очнувшись от объятий, она всегда выглядела так, словно вернулась из путешествия и с некоторым недовольством обнаружила в своем доме какого-то мужчину.
– Элизабет, лучше бы я принимал вас в гостиничном номере, из которого сюда переехал.
Она расчесывалась в ванной, рукава пеньюара, соскользнув, обнажили ее руки до плеч. Стоя на пороге спальни в рубашке, засунув руки в карманы, Шовье пытался поймать ее взгляд в зеркале.
– Почему? – спросила она, слишком занятая своими волосами, чтобы на него смотреть.
– Я думаю, что в своей холостяцкой комнате смог бы заставить вас больше расслабиться. Здесь вы как за крепостной стеной.
– На что вы намекаете?
– Я нахожу, что вы не раскрываетесь. Вы никогда не бросаетесь с криком мне на шею, не прыгаете мне двумя ногами на живот, не подкрадываетесь сзади, чтобы гавкнуть мне на ухо…
– Прошу прощения, у меня не хватает способностей.
– Неправда. У вас удивительные способности. Да и не надо понимать буквально насчет «гавкнуть на ухо». Я просто мечтаю о более живых, непринужденных отношениях. К сожалению, вы сотворили себе из любви неизвестно какую мораль.
Элизабет обернулась и заметила с удовлетворенным смешком:
– Эта мораль как нельзя более свободна.
– Вам так кажется. Вот послушайте, я расскажу вам одну историю. Вы вышли замуж за человека на двадцать лет старше вас и в один прекрасный день обнаружили, что эта разница в возрасте дает вам право на определенную компенсацию. Без особого рвения вы завели себе любовника, чтобы успокоить свое самосознание человека, имеющего право. Это был смешливый молодой человек, несколько возбужденный, он курил длинную трубку, набитую английским табаком, и приходил на свидание в зеленом замшевом жилете на молнии. Вы терпели его больше года, но ему недоставало серьезности и достоинства, соответствующих вашему продуманному ощущению своего права на жизнь, и вы перестали с ним встречаться.
– Этот молодой любовник – изящная выдумка, но она меня немного старит. Продолжайте.
– Ну, раз вы меня так просите… В прошлом году вы встретили человека, общественное положение и сама личность которого давали вам все желаемые гарантии. Вы завели любовника, используя свое право наилучшим образом. Вы могли стать счастливой и сделать счастливым избранного вами мужчину. Но совесть ваша была начеку. Не упрекнет ли она вас, что вы берете больше положенного? Черт побери, жизнь – не игрушка, и право на жизнь – это не приглашение ко всяким удовольствиям. Тогда вы решили не принимать от любовника никаких подарков и ничего, что могло бы вас сблизить. Не говорите мне, что это слишком приземленные рассуждения, не имеющие ничего общего с вашими чувствами. Представьте себе двух любовников, которые отправились в Венецию – он на шикарной спортивной машине, а милый предмет рядом на велосипеде. При таких условиях гораздо лучше было бы никуда не ехать. Уверяю вас, когда вы мне тогда, в воскресенье, рассказывали эту историю, она меня просто шокировала. Ну прямо что-то неправдоподобное, придуманное для романа-фельетона. Меня огорчило да и сейчас еще огорчает именно то, что вы этим гордитесь.
– Короче, вы находите меня смешной?
Побагровев, Элизабет повернулась спиной к зеркалу, и в глазах ее сверкнул гнев. Шовье сказал ей очень нежно:
– Конечно, милая, я нахожу вас абсолютно смешной. Но мне нравится, когда у вас такие глаза. Я вас просто обожаю, Элизабет. Ну, идите сюда, выпустите коготки, дайте волю своему гневу, разъяритесь. Мне так хочется, чтоб подвернулся случай вас слегка отшлепать. Когда я вас целую в губы, обнимаю за талию или беру за что угодно другое, мне слишком часто кажется, что мои губы или руки натыкаются только на вашу совесть. Мораль совсем не располагает к любви, да и вообще ни к чему. Ее роль – встревать, смягчать, препятствовать. Вот только что: когда я вас так страстно обнимал, вы очень кстати мне напомнили, что Малинье – мой старый друг. Я грубо вам ответил: «Мне плевать». После чего вы пошли в ванную причесываться, давая мне понять, что нежностей не будет. Я сражен. А я-то распалился! Ох, сердце мое, как мне хочется бросить вас на этот резиновый коврик, ой, как хочется. Взял бы я вашу головку за волосы, стукнул бы ею о коврик и сказал бы вам, что поистине Малинье мой старый друг, но мне на это совершенно наплевать. Как я вам уже сказал, обстановка не располагает.
Шовье шагнул в ванную. Элизабет, вне себя, в трагической позе и с дрожащими ноздрями, вскричала:
– Не подходите ко мне! Я запрещаю!
– Да вы меня готовы покусать. Значит, эти скромные истины привели вас в такое отчаяние? Элизабет, не смотрите на меня с ужасом, я прошу вас. Я не развратник и не одержимый, каким вам, должно быть, кажусь. Я просто хотел вас освободить, научить смотреть на мораль, как на вещь, необходимую для человеческого общежития, о которой незачем утонченно рассуждать. Когда вы двигаетесь по Парижу, вы ходите по тротуарам и переходите улицу по переходу, и это хорошо для вас и для всех. Но в лесу, на прелестной тропинке, не выдумывайте себе тротуаров и переходов, не высматривайте, красный свет или зеленый, не ищите постовых. Иначе вы бессмысленно все усложните, испортите себе удовольствие, исказите природу. А если вам необходимо успокоить совесть, скажите себе: то, что я свободно скачу по тропинке, вовсе не означает, что я не испытываю глубокого уважения к правилам уличного движения в Париже, даже в тот самый момент, когда я скачу.
– Вы мне читаете мораль уже минут пятнадцать, – сказала Элизабет. – И только для того, чтобы объяснить, что вы со мной чувствуете себя не в своей тарелке. Мне очень жаль, что на ваш вкус я чересчур чопорна, но этом нет моей вины. Обращайтесь к профессионалкам.
– И правда, это хорошая мысль.
Шовье в раздражении зашел в спальню поправить галстук и надеть пиджак. Впрочем, было уже без четверти три, а ему нужно было полчаса, чтобы доехать на машине до завода. Элизабет его предупредила накануне, что у нее выдастся свободная минута среди дня, и он приехал пообедать где-нибудь поблизости.
– Мы увидимся сегодня вечером? – спросил он, одеваясь.
– Нет.
– А завтра вечером?
– Нет, я больше не приду.
Для Шовье это был удар в самое сердце. Он вернулся в ванную и спросил:
– Это серьезно? – Элизабет наклонила голову. – Хотелось бы устроить вам бурное прощание, Элизабет, но время поджимает, некогда даже слезу обронить. Прощайте же, дорогая, и забудьте все, что я вам только что сказал. Это вздорная болтовня старого холостяка. Желаю вам счастья в мире со своей совестью.
Шовье приехал на завод в несколько угнетенном состоянии духа. Он ненадолго остановился, рассматривая группу зданий, выстроенную в форме буквы «W», между которыми были проложены две узкие аллеи, усаженные по краям хилыми цветами. В лучах летнего солнца ярко выделялись живые и строгие костяки этих огромных застекленных ангаров. О работе в цехах свидетельствовал только гул машин, глубокий и приглушенный, похожий на дыхание спящего города. Слушая, как с глухим шумом трудится завод, он особенно остро ощутил пустынность этого двора. Она вызывала в памяти видение грозной пустоты школьного двора, когда по нему проходишь во время уроков, а за холодными стеклами окружающих двор зданий заперта шевелящаяся, непокоренная жизнь, при воспоминании о которой у него вырвался жалобный стон, видение пустынного пространства во дворе казармы, когда он однажды обходил комнаты, подгоняя солдат, готовившихся к смотру, и взглянув в окно, вдруг захотел, чтобы там выросло дерево; видение больничного двора, одиночество которого под взглядами тусклых окон возвестило ему о смерти друга; видение двора центральной тюрьмы, его мельком увиденной глубины под нависающим небом; видение двора из утомительного сна, который ему иногда снился. Перебирая эти тревожные ассоциации, живущие в глубине сердца, Шовье, как в тумане, думал об Элизабет и о тихом бунте, который, может быть, готовился за этими высокими стенами; забастовка, взятие бастующими предприятия, ожидание исхода казались ему смехотворными попытками прикрыть неизлечимую рану, душераздирающее ощущение которой давали ему все эти дворы, всплывающие в памяти. Сама мысль о настоящей революции была настолько оторванной от окружающего декора и от всех важнейших условий задачи, что она не облегчала душу. Речь могла идти в лучшем случае о работе во имя какого-то нового идеала. Шовье размышлял: будь он рабочим, его бы не смогли успокоить предложениями морального удовлетворения. Ему бы, думал он, показалась разумной мерой только разрушение завода.
Уже три недели рабочие создавали видимость дисциплины, что, однако, никого не могло ввести в заблуждение. Начальники цехов и мастера ощущали что-то непривычное в профессиональных отношениях с рабочими: то незначительная вспышка раздражения, то мельком брошенный взгляд, то невыполненный приказ, то вежливое безразличие в ответ на упрек или странная манера игнорировать начальство. В последние три дня эти симптомы обострились. Приказы иногда подвергались обсуждению, со многими мастерами возникали довольно бурные перепалки, а замечания, весьма, впрочем, осторожные, принимались с иронией.
Войдя в авторемонтный цех, Шовье стал свидетелем интересной сцены. Между двумя рабочими, которые занимались ремонтом одного и того же мотора, из-за какого-то пустяка вспыхнула ссора. Тон перебранки все повышался, и дошло уже почти до драки. Их соседи бросили работу, образовав вокруг них кружок, и, подзадоривая кто одну, кто другую сторону, подливали масла в огонь. Поднявшийся шум привлек внимание рабочих с других участков, а некоторые даже отложили инструменты, думая, что отдан приказ прекратить работу. Тем временем начальник цеха и мастера удалились с места происшествия и совершенно неправдоподобным образом делали вид, что ничего не замечают. Получив приказ дирекции не прибегать ни к каким санкциям без крайней необходимости, они считали бесполезным и опасным встревать в ссору.
– Вы соображаете, что делаете? – обратился Шовье к двум противникам. – Вы что, сюда пришли счеты сводить?
Старший из них, лет пятидесяти, ответил с яростью:
– Это мое дело. Я все же имею право проучить сопляка, который меня оскорбляет.
– Меня проучить? – вмешался второй. – Да если ты хочешь, чтобы я тебе тут перед всеми порку задал…
– Ладно, – оборвал их Шовье. – Уберите кулаки. Прибегнете к их помощи на улице. А здесь работать надо.
Он отослал любопытных на места и, отведя двух рабочих обратно к мотору, попросил объяснить, что они ремонтируют. Увидев, что дело улаживается, к ним подошел мастер. Впрочем, он даже не пытался ничем оправдать свое отсутствие.
– Уден, – сказал ему Шовье, – эти двое из вашей бригады сами чуть не подрались и отрывали других от работы. Предупреждаю: в таких случаях будете вычитать у них из зарплаты. И в следующий раз постарайтесь быть на месте, когда возникнут какие-нибудь беспорядки.
Он обменялся с провинившимися несколькими замечаниями по поводу преждевременного износа некоторых частей мотора и, обойдя цех, отправился взглянуть на транспортные службы. Там начальник пожаловался ему, что перевозки в пределах Парижа запаздывают примерно на час. На подобное заявление водители отвечали, что пробок больше, чем всегда.
Затем Шовье прошел в свой кабинет, где принял директора Лувье. Это был шестидесятилетний человек, измученный ответственностью настолько, что потерял покой и сон. Он уже знал о том, что произошло у ремонтников, и боялся ужасных последствий.
– Вы очень вовремя вмешались, – сказал он с осторожностью в голосе. – Счастье, что этот инцидент удалось уладить. Он мог бы, именно из-за вашего вмешательства, обернуться против нас и иметь более тяжелые последствия. Мы стоим перед лицом совершенно исключительной ситуации. В общем-то, мы должны были уже бастовать, и если получили, так сказать, отсрочку, то это, несомненно, благодаря принятым мерам предосторожности. Создалось состояние хрупкого равновесия, которое может внезапно нарушиться в результате малейшей ошибки с нашей стороны. Поэтому мы временно должны вести себя с персоналом неимоверно ловко и тактично. Я подумал, мы подумали…
Его прервал телефонный звонок. Это была Мишелин, она хотела поговорить с дядей. Шовье мог бы сказать, чтобы ей передали, будто его на месте нет, но эта помеха, нарушившая ход мыслей директора, ему даже понравилась.
– Это ты, Мишелин?
– Да, дядя, – ответил чуть неуверенный голос. – Я хотела вам сказать… вас что-то не видно эти дни. Я бы хотела с вами встретиться.
– Я постараюсь зайти на улицу Спонтини сегодня вечером после ужина.
– Хорошо. Но я хотела бы поговорить с вам наедине. Например, завтра вечером часам к семи у вас дома? Или даже сегодня вечером. Только не говорите Пьеру.
– Это настолько важно? Хорошо, сегодня вечером.
Положив трубку, Шовье извинился. Директор сказал: пожалуйста, давайте вернемся к нашей теме, но сам не смог сразу продолжить свою речь с того деликатного пункта, на котором ее прервал. Чтобы привести разговор к желаемому результату, пришлось опять опираться на доводы. После новой преамбулы он наконец обнаружил цель своего визита.
– Нам показалось, что в этом деле ваша реакция была нормальной, и даже слишком нормальной, учитывая ситуацию. Однако то, как вы легко уладили инцидент, меня весьма беспокоит. Безо всякого сомнения, у персонала создастся впечатление, что администрация резко ужесточит методы своей работы, и это само по себе вызовет опасные комментарии. Но еще серьезнее то, что вы велели мастеру оштрафовать этих рабочих. Если честно, санкции эти совершенно неуместны, и я уверен, что вы, поразмыслив, со мной согласитесь. Ну, в крайнем случае, выговор. Соблюдение минимальной дисциплины необходимо при любых обстоятельствах. Но вычеты из зарплаты производят дурное действие, особенно сейчас, когда так легко выдать их за несправедливые придирки. Конечно, я ничего не хотел делать, не посоветовавшись с вами, но думаю, будет верно с политической точки зрения отменить это взыскание и немедленно сообщить об этом обоим рабочим. Да и сделать это можно ловко, с добродушным видом, так что все будет выглядеть естественно.
Шовье смотрел на носки своих ботинок и хранил недоброе молчание. Однако он еще колебался, какую линию поведения принять. Показать себя принципиальным было легко: он ведь теперь не просто заведовал хозяйственной частью, а после смерти Ласкена представлял на заводе интересы семьи. Тот факт, что Лувье лично побеспокоился и пришел к нему по делу двух рабочих, свидетельствовал, насколько возрос его моральный вес.
– Оценив все и действуя в интересах завода, – сказал он наконец, – я отказываюсь присоединиться к такой мере.
– Вам незачем к ней присоединяться. Это вполне можно сделать и без вас, как бы за вашей спиной.
– Если дирекция будет выступать на стороне нарушителей, а не на моей стороне, я вынужден буду подать в отставку.
– Мне кажется, в вас говорит самолюбие, – вздохнул Лувье.
– Конечно, ответил Шовье, – и даже более того. Для меня это вопрос чести, и если бы забрать свои слова обратно требовали даже не у меня, а у мастера, я был бы столь же несговорчив. Быть может, мое поведение кажется вам легкомысленным, но я уверен, что в той ситуации, в которой мы находимся, только такое поведение по-настоящему разумно. Я уже не раз говорил вам: боюсь, что сама забастовка принесет куда меньше вреда заводу, чем меры, применяемые для ее предотвращения.
– Говоря так, вы перестраховываетесь от риска, на который обрекаете завод, – широко улыбаясь, заметил Лувье.
Шовье сухо ответил, что не имеет привычки к такого типа осторожности. Когда Лувье ушел, он посмотрел на часы с некоторым беспокойством. Была половина пятого. Если забастовка вспыхнет вечером, Лувье непременно свалит на него ответственность. Горделиво отвергнув обвинение в «перестраховке», Шовье думал о том, что придется-таки подавать в отставку, и эта перспектива его нимало не привлекала. Он с тоской представлял себе, как погрузится опять в серую жизнь и безрадостную работу. Эти два года, прожитые в покое и удобстве, очевидным образом его расслабили, и он больше не чувствовал в себе тогдашнего стоического безразличия к превратностям судьбы. Он несколько раз переспросил себя, не является ли занятая им позиция самообманом, скрытым реваншем морали, тщательно маскирующей свои заповеди. Но нет. Достаточно было просто представить себе его положение на заводе в случае, если забастовка начнется вечером. Необходимость уйти в отставку вытекала не из угрызений совести, а из простого и непреодолимого чувства гордости. Несмотря на все эти размышления, время тянулось ужасно медленно, и тревога Шовье росла. Угроза будет нависать до последней минуты, так как взятие предприятия может начаться в момент окончания рабочего дня. Чтобы отвлечься от навязчивых мыслей об ожидании, он попытался думать об Элизабет и об их расставании, показавшемся ему сейчас незначительной мелочью. Около четверти шестого к нему зашел Пьер Ленуар за какими-то сведениями, необходимыми для работы, и Шовье его на минутку задержал. Пьер не очень-то и торопился вернуться на рабочее место.








