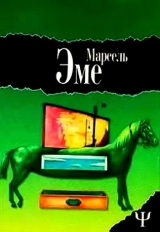
Текст книги "Ящик незнакомца. Наезжающей камерой"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
– Не далее как утром я говорил своей супруге: не моя в том вина, что волею случая судьба страны оказалась в моих руках. Не так уж я этим и горжусь. Но раз уж так случилось, я считаю своим законным долгом делать то, что необходимо. Не так ли, мсье Ленуар?
– Это совершенно очевидно, друг мой.
В глубине парикмахерской, в двух шагах от мсье Ленуара, приоткрылась маленькая дверь, откуда невкусно пахнуло сырым коридором, задним двором и мусором. Седая женщина с хмурым лицом просунула в дверь голову и вполголоса произнесла:
– Фелисьен, к тебе пришли. Я провела в столовую.
Парикмахер обернулся и спросил, держа бритву на весу:
– Кто? В присутствии этих господ можешь говорить открыто.
– Глава секретариата министра регистрации и оформления. Он говорит, что это очень срочно.
Тут в голосе цирюльника вспыхнул гнев, и он воскликнул:
– Ах, срочно? Ну так скажи ему, что мне плевать. Они что, собираются дергать меня в любой момент, когда им в голову взбредет? Это все прекрасно – Франция и все такое, но клиентура – прежде всего. Моя работа тоже срочная.
Он повернулся к клиенту, чтобы взять его в свидетели.
– Ну что, я не прав, мсье Ленуар?
– Несомненно, правы.
– Ладно, – осведомилась супруга, – так что мне ему сказать?
– Скажи, что я не знаю, когда смогу его принять. Может, через полчаса. Пусть ждет, если хочет.
Супруга прикрыла дверь. Парикмахер, вновь приоткрыв ее, бросил во тьму коридора более мирным тоном:
– Налей ему все-таки чего-нибудь выпить. Так у него время веселей пройдет. Главное только не оставляй ему бутылку.
Возвратясь к щетине мсье Ленуара, он заговорил, начав скоблить его кожу:
– Дело в том, что все эти ребята осушат вам бутылку в один присест. Не нужно ее даже и показывать. Впрочем, заметьте, они вовсе не неприятные люди. Очень милые, ласковые, но жизненного опыта – никакого. Если 6 не я, некому было бы им подсказать, и недели бы не прошло, как они пошли бы ко дну. Как я говорил вчера вечером господину вице-президенту, поскольку я держу в руках головы, то в конце концов научился узнавать, что в них внутри. Первое, что нужно, чтобы править, – это знать француза. На днях вечером зашли ко мне министры мсье Блюма, вчетвером или впятером. Вы сами знаете, стадо не без паршивой овцы, и на четыре десятка их почти наверняка найдется пара отбросов. Те, о которых я говорю, представьте себе, имели желание толкать нас к революции. А я им сказал: стоп, революции я не хочу. Француз над вашей революцией посмеется. Что надо французу, так это спокойно зарабатывать себе на жизнь, хорошо есть, пить и развлекаться. Подрезать вам усы, мсье Ленуар? Моя внутренняя политика сводится к двум словам: пища и пищеварение. С пищей все просто. Деликатный момент – это пищеварение. Представьте себе, например, малого, который три раза в день плотно ест и выпивает свои четыре литра вина. Если он будет переваривать пищу в состоянии меланхолии, наверняка заработает изжогу, и вот вам трудноуправляемый элемент. Говорю же вам, вопрос деликатный. Вы возразите, что есть же кино, спортивная страничка и аперитив. Само собой, мсье Ленуар, все это в жизни французов занимает важное место. Но все-таки согласитесь, что это занимает человека только на досуге. Остаются рабочие часы. Самые долгие, самые нудные. Взглянув трудностям в лицо, я наконец нашел ответ и решил, что в будущем трудящиеся должны будут каждые три месяца бастовать и занимать помещения. Так у него появится цель в жизни, не правда ли, и его существование станет более веселым. Он будет думать об этом за работой, пережевывать эти мысли и даже не заметит, как время пройдет.
– Хорошую перспективу вы нам рисуете, – сказал Ленуар.
– О, будьте спокойны. Когда я говорю о забастовке, то имею в виду забастовку максимум на три дня, в которые может попасть и воскресенье. Этот момент надо еще доработать. Короче, развлечение сразу и для рабочего, и для хозяина. Что вы хотите, французу развлечения нужны. Против природы не попрешь, француз родился с тягой к веселью. Не давая ему возможности ее проявить, вы сделаете из него недочеловека. Тут и вопрос отдачи.
– А внешняя политика? – подбросил Пондебуа.
– Ну, ту уж вы можете положиться на меня и спать спокойно. Моя политика всегда будет миролюбивой. Я не милитарист. Я никогда не понимал, почему один берет на себя право командовать другими только потому, что у него нашивки на рукавах. Я оцениваю людей только по их заслугам. Учтите, что я не враг родины, армии и даже национальных праздников и парадов, но я уважаю одну истину – все люди друг друга стоят, и тот факт, что ты родился по ту или по эту сторону границы, ничего не значит. У нас же не средние века. Нет, о войне, скажу я вам, и речи не будет, пока я стою у власти. Конечно, при этом я не из тех, кто позволяет садиться себе на голову. И диктатуры не терплю. Возврат к тирании в двадцатом веке – вещь совершенно, недопустимая. Заметьте, я человек терпимый. Попов я никогда не выносил. Это я вам говорю. Однако считаю, что всему есть предел, даже терпению честных людей. Не бойтесь – как только начнется какая-то свара на границе…
В это время задняя дверь опять приоткрылась, и супруга промурлыкала:
– Фелисьен, к тебе министр узкоколейных путей сообщения.
– Опять? – гаркнул парикмахер. – Да что же это, прямо себе не принадлежишь. Ну ладно, минут через пять буду. Налей ему, как и тому, первому. И поставь на стол коробку печенья.
Он опять взялся за работу и, прохаживаясь ножницами по затылку мсье Ленуара, задушевно произнес:
– Однако все как-то странно. Интересно, что бы это значило. Я же им запретил отвлекать меня в рабочее время. Может, какие-то новости? Я еще не успел просмотреть газеты.
– Газеты сегодня не выходили, – заметил мсье Ленуар.
– И правда. Я и забыл, что дал разрешение их закрыть. Однако не думаю, что тут Германия…
– Ну, с тех пор, как немцы заняли левый берег Рейна, от них всего можно ожидать.
– Конечно, левый берег Рейна… Что тут и говорить. Но, знаете, пока что они не заняли правый… Да нет, наверняка это не столь серьезно. Может, они немного нервничают. Они часто принимают делегации, которые сыплют бранью, от этого у них голова кругом идет. Как я вам уже сказал, это люди образованные, хорошо воспитанные, но опыта – ноль. Некоторые из них даже коммерцией никогда не занимались.
Когда парикмахер закончил работу, мсье Ленуар расплатился с ним, добавив два франка на чай, и сообщил, что зайдет после обеда купить некоторые туалетные принадлежности. Пондебуа, уже приготовивший визитную карточку, протянул ее своему ходатаю.
– Я сейчас же задействую министра путей сообщения, – пообещал тот.
– Простите, – сказал Пондебуа, – но это дело зависит от министра просвещения. Думаю, министр путей сообщения тут не сможет быть полезным.
– Разберутся, – заявил парикмахер. – Но если вам так хочется, я поймаю министра просвещения. Да, может, ему было бы и не очень приятно, что я обратился к кому-то другому. Вызову его на вечер.
Когда Ленуар и Пондебуа выходили, задняя дверь открылась в третий раз.
– Фелисьен, с тобой желает говорить министр финансов.
XIVДело было решенным: Милу станет писателем и возьмет псевдоним Эварист Милу. Джонни в конце концов сломил его сопротивление, представляя ему жизнь литераторов как вечный праздник, протекающий среди банкетов, генеральных репетиций, торжественных открытий и светских коктейлей. Издатели, утверждал он, идут на всякие ухищрения, чтобы заставить их взять деньги и не оскорбить при этом, а государство предлагает им разные синекуры и увеселительные путешествия за границу. Впрочем, в глубине души Милу не отказался от кино и собирался воспользоваться благоприятным случаем. Поначалу он воспротивился псевдониму, выбранному его покровителем, и привыкал к нему с трудом, но Джонни очень настаивал на имени Эварист, которое, по его мнению, источало аромат хорошей литературы и эрудиции.
Однажды после обеда мадам Ансело и ее три дочери в присутствии Джонни приступили к первому рассмотрению воспоминаний Милу, которые должны были послужить материалом для его дебюта в литературе. Необходимо было увидеть общую картину и создать атмосферу. В первый момент Эварист Милу проявил норов и разочаровал публику. Ему не удалось выудить значимых воспоминаний. Напрасно дамы Ансело донимали его описаниями мрачных пейзажей городских окраин и разговорами о возвышенности ежедневной нищеты или о магическом реализме вечеров в предместье – память его не приходила в состояние брожения. Жермен даже процитировала ему Бодлера, первую строфу из «Вина убийцы»: «Жена мертва, и я свободен. Могу напиться допьяна. Когда пустым я возвращался, мотала душу мне она». Напрасный труд. Мысли Милу были бесплодны.
– Достали вы меня своими воспоминаниями, – говорил он. – О чем я должен вам рассказывать? О том, как я работал, ел, спал?
Джонни пытался включить его механизм ассоциаций самым тенденциозным образом:
– Когда ты ходил в школу, вспомни, не было ли у тебя друга, маленького мальчика, которого ты любил больше, чем других, за его красивые глаза или нежный голосок?
Под градом таких вопросов и в центре всеобщего беспокойства у Милу в конце концов испортилось настроение. «Если это и есть литература, то мне она уже осточертела», – думал он. Мариетт подкрепляла усилия сестер коварными и едкими вопросами, и в уголках ее глаз плясали злорадные огоньки.
– Когда ты в первый раз украл у родителей деньги, ты не помнишь, какую сцену они тебе закатили?
Тут Милу взорвался, и от злости к нему вернулась память.
– Нет, ну ты глянь, да какое тебе дело? Ты, что ли, вместо меня морду подставляла? Ну допустим, я воровал деньги у родителей, и не раз. И что с того? Ты-то, небось, у себя дома как сыр в масле каталась. Бифштексы каждый день, фортепьяно да уроки английского. А я сидел на диете, чтобы не поправиться. Когда была еда, лучший кусок всегда доставался отцу. «При том положении, которое я занимаю, – объяснял он, – я не могу себе позволить исстрадавшийся вид». А нам зачастую оставалось только смотреть, как он заглатывает мясо с гарниром и запивает двумя литрами вина. И если один из малых начинал выступать, старик кидался на него с кочергой. Но он получил свое еще на этом свете. В последнее время, когда он лежал с ревматизмом, я ему здорово надавал пинков по бокам и по ногам. Да, я воровал у него деньги. Ну так, немножко. Каждый раз, как только мог. Однажды, когда мать собралась рожать, я улучил момент, чтобы слямзить последние пятнадцать франков, которые оставались в ящике, и побежал в колбасную лавку. Покупаю там батон запеченного паштета, о котором годами мечтал. Он стоил ровно пятнадцать франков. Мой младший братишка Жюльен, восьмилетний пацаненок, побежал за мной к колбаснику и прямо глазам своим не верил. И вот мы пришли с этим паштетом на стройплощадку, где сносили старый дом. Я начинаю нарезать батон. Пацан вылупил на меня вот такие глазищи. Но я поклялся себе, что паштет этот – только для меня. Я жрал его, а ему не давал. Это, говорю, на краденые деньги, тебе плохо станет. Паштет был такой большой, что последняя четверть мне уже в горло не лезла. Но лучше сдохнуть, чем оставить. И я не оставил ни крошки. Живот у меня так и вздулся. А братишка рыдал, бесился, с ума сходил. Вернувшись домой, он меня заложил. А тут как раз отец с работы в своей похоронной форме. Сначала он даже верить не хотел. Как пришел в себя, привязал меня за руки к оконному шпингалету и давай молотить кочергой. Мать, у которой были схватки, орала в соседней комнате. Ну и я, конечно, ревел по-ослиному. Шуму наделали, что надо. Но я и под ударами говорил себе: давайте, козлы, зато вам нечего жрать, а у меня пузо лопается.
При воспоминании об этом Милу издал короткий, полный ненависти смешок, приоткрыв оскаленные зубы. Но Жермен уже сжимала его в объятиях, восклицая:
– Вот оно! Вот твоя книга, вся как на ладони! Под знаком бунта!
– Бунтарь, – повторяла в экстазе мадам Ансело, сжимая руку Милу. – Он был бунтарем. Милое дитя, как все теперь проясняется! Бунтарь!
– Атмосфера просто безумная, – заявляла Лили, – грандиозная в своей жестокости, и в таком резком, чистом свете. И хорошо просматривается комплекс. Не знаю, чувствуете ли вы, но, под этим ощущается скрытый эротизм.
– Напоминает лучшие страницы Сада.
– А отец, скованный ревматизмом, которого сын пинает в бока. Тут надо развить. Такая мощь!
– Прекрасный конфликт поколений. Это тоже надо указать.
– А мать, которая рожает и кричит в то время, как ее сына колотят кочергой. Это неслыханно прекрасно.
– Ситуация потрясающая, шекспировская. Какое величие! А поэзия!
Они теснились вокруг Милу, вырывали его друг у друга, оглушая похвалами и восторженными восклицаниями. Смешок Мариетт терялся в победном шуме, только усиливая его, Джонни пускал слюни от удовольствия. В этой лестной толкотне Милу забыл свою ярость и поддался опьянению творчеством. Литература ему подходила. Как бы познавая себя, он чувствовал, как раскрываются в памяти невидимые почки, и голова наполняется сценами прошедшей жизни, то мрачными и жестокими, то подлыми, то окрашенными черным юмором, позаимствованным из отцовской профессии. В благоговейной тишине он принялся изливать воспоминания. Уже не злясь, он рассказывал менее естественно, но все основное в этом повествовании было. Никто раньше и не предполагал, что материал может быть таким обильным и столь богатым мрачными сюрпризами. Что же касается Мариетт, которая думала, что ничего нового об этом парне не узнает, то она просто умирала от злости и отвращения. Тем временем мать и сестры лихорадочно делали заметки.
Милу оставалось еще много чего рассказать, когда служанка доложила о приходе мадам Ласкен и ее дочери. Этот неожиданный и совершенно невероятный визит разом изменил атмосферу. С первого слова и даже с первого взгляда всем стала ясна возможность вовлечь в священный экстаз новоприбывших. Впервые Милу ощутил горделивое и беспокойное чувство принадлежности к элите. Ему ясно представилось, что в этом печальном мире тысячи и тысячи людей навсегда останутся глухими к поэзии, мощи и магическому реализму воспоминаний его детства. И при мысли обо всех этих людях, замуровавшихся в своем непонимании, в его голове пронеслось: «засранцы».
Мишелин очень ловко сумела провести мадам Ласкен, воспитанную по всем правилам приличия и хорошего тона несравненными уроками дам из Успенского братства. Накануне отъезда на море они отправились за покупками в район Мадлен, и Мишелин с непринужденным коварством вспомнила, что обещала Бернару пригласить его сестер. Ясно, что уже слишком поздно, но нельзя же уехать из Парижа, не нанеся им визита, пусть даже неожиданного. Мадам Ласкен возразила: будет гораздо проще и скромнее послать им письмо, мы же, в общем-то, с этими Ансело незнакомы, и они никогда ничем не выказывали своего существования. Но, поскольку у матери никаких подозрений не возникло, Мишелин легко переубедила ее, представив дело так, будто она Бернару очень обязана. Бедный мальчик целый месяц приносил ей в жертву каждое утро. Стало быть, она в долгу не только перед ним, но и перед его сестрами, и обычным письмом не загладить ее преступной халатности. Мадам Ласкен уступила.
Мишелин обдумывала все детали этого визита уже несколько дней, но ей и в голову не приходило, что Бернара может не быть дома. Зная от дяди Шовье о всех подробностях их разговора, она представляла себе дорогого мальчика этаким затворником в кругу семьи, который ищет выход из героической схватки между долгом и страстью. Из дальнейшей беседы она поняла, что он только что начал годичную стажировку в одной экспортной компании и затем уедет в какую-нибудь азиатскую колонию.
Едва войдя, мадам Ласкен ощутила, что их визит по меньшей мере неуместен. Мадам Ансело и ее дочери были вежливо-предупредительны, но во взглядах сквозило некоторое удивление, и сам тон, которым их встретили, явно означал, что от них ждут объяснений. Призвав на помощь всю свою квалификацию, мадам Ласкен окинула салон взглядом стратега и смело решила, обернуть ситуацию в свою пользу. Матушка Святая Филомена Искупления могла бы гордиться своей ученицей. С самого начала разговора дам Ансело охватило чувство неопределенной вины перед мадам Ласкен, которая, казалось, пришла именно затем, чтобы даровать им милостивое и незаслуженное прощение. Впрочем, она быстро ободрила их своей обходительностью, искусством слушать и предоставлять возможность для удачных реплик, что привело Джонни в восхищение и вернуло его к воспоминаниям о некоторых очаровательных юношах, его друзьях в былые времена, изысканно-вежливых. «В наше время нечто подобное уже не встретишь», – думал он, сурово поглядывая на Милу. Тот не обращал на это никакого внимания, пытаясь составить мнение о Мишелин и не упуская ни слова из разговора.
– Эварист Милу, писатель, – сказала мадам Ансело, представляя присутствующих.
Ни фамилия, ни род занятий молодого человека не ускользнули от внимания мадам Ласкен, которая впоследствии легко их припомнила. Она выразила сожаление, что еще не читала его книг, которые наверняка доставят ей массу удовольствия. Оправдываясь в своем невежестве относительно творчества Эвариста Милу, она добавила, что уже вошла в тот возраст, когда не читают, а перечитывают (не уточняя, что перечитывает она в основном кухаркины альманахи). Затем она заговорила о своем кузене Люке Пондебуа, которому, несомненно, будет приятно познакомиться со своим молодым коллегой. Поскольку Бернар никогда ничего не говорил об этом, семья Ансело и не знала, что знаменитый писатель состоит в родстве с Ласкенами. Эта новость произвела большой эффект, и в салоне сразу потеплело.
– Эварист Милу как раз говорил мне на днях о творчестве Люка Пондебуа, которым искренне восхищается, – сказал Джонни.
– Еще бы, – поддакнул Милу. – Потрясающий динамизм. Какая красота, какая поэзия!
– Правда? Я очень рада, – сказала мадам Ласкен, никогда не читавшая книг Пондебуа, так как находила их слишком скучными. – Да, у Люка действительно огромный талант. И столь высокий полет вдохновения!
– Поэзия невероятная!
Какое-то время разговор шел о Пондебуа, мадам Ансело и ее дочери, даже Мариетт, из кожи вон лезли, а Джонни представился случай сформулировать несколько тончайших и уместнейших суждений, хотя, по правде говоря, он, как и дамы Ласкен и Ансело, знал книги великого романиста только по салонным слухам. Мишелин не было до кузена Люка никакого дела, и ее мало интересовало, что его творчество располагается, как утверждал Джонни, на пересечении божественного и человеческого или же что его мысль, по словам Лили, подошла к поворотному моменту. Она надеялась при встрече послать Бернару лишь один взгляд и поклялась себе, что если красноречивого взгляда окажется недостаточно для преодоления его сомнений, то скажет ему, что предпочитает умереть, чем жить без него. Пока вокруг нее звучало имя Пондебуа, Мишелин представляла себя в постели, бледную и исхудавшую, но все еще красивую, умирающую от отчаяния в кругу семьи, которая пыталась сдержать рыдания, и, хотя в глубине души эта ситуация казалась ей невероятной, ей хотелось плакать. Тем временем незаметно для нее Милу наблюдал за ней с тайным и жадным вниманием. Дело было не только в ее красоте, из разговора выяснилось, что Ласкены – крупные промышленники. Впрочем, еще и речь не зашла о заводе, как он уже понял, что посетительницы принадлежат к иному сословию, чем семья Ансело. Эта здоровая любезность, невинная уверенность в себе, легкость, с какой они располагали к себе других, и даже какое-то отсутствие таинственности – все в его глазах выдавало в них истинное богатство, которое не нуждается в осознании своих границ. Это открытие нового мира, которого он всегда ожидал, как чего-то потустороннего, будило в нем живое беспокойство. Любуясь этим огромным наивным богатством и одновременно измеряя взглядом красоту Мишелин и уточняя все ее подробности, он чувствовал, как в нем разгорается злобное желание, которое надеялся в один прекрасный день удовлетворить. Как настоящий завоеватель, не замечающий препятствий, выставляемых условностями, и принимающий решение завоевать, еще не видя никаких способов, он остановил на ней свой выбор. Джонни и семья Ансело уже были для него лишь этапами, ступеньками. Он определил себе настоящую цель в жизни.
Лили и Мариетт пошли готовить коктейли, и Мишелин последовала за ними в буфетную. Она надеялась, что девушки заговорят с ней о Бернаре, но обманулась в своих ожиданиях. Приготовляя смеси, Мариетт лишь обменялась с ней несколькими любезными и ничего не значащими словами, а Лили стала ей рассказывать, как позавчера вернулась домой пьяная в три часа ночи, продержавшись в нормальном состоянии, по ее словам, до начала первого.
– А добило меня шампанское с джином. После пятого бокала меня уже совсем повело. Бобу пришлось провожать меня домой, потому что я уже на ногах не стояла.
Тем временем Мариетт дала Мишелин выпить один коктейль, чтобы убедиться, что смесь сделана по всем правилам, затем еще один, чтобы подкрепить первое впечатление. Хорошо натренированные девушки, выпив свои коктейли, не испытали ничего, кроме мимолетного ощущения тепла. Мишелин же, молодая супруга, обручившаяся сразу по выходе из пансиона, еще не пристрастилась к алкоголю. Она относилась к крепким напиткам даже с некоторым недоверием, которое заботливо поддерживал Пьер и над которым посмеивались ее подруги. Два выпитых залпом коктейля возымели почти немедленное действие. Щеки ее загорелись, веки отяжелели, Мишелин почувствовала, как по всему телу разливается счастливая меланхолия, и принялась говорить о Бернаре. Разговаривать вдруг стало так легко, можно сказать все что угодно. Он всегда грустный, – отвечал голос Мариетт или Лили, – он с нами не разговаривает, только грубит, и смотрит на нас так сурово, будто мы перед ним виноваты. Мишелин вздыхала. С ней тоже он был суров.
– Все могло бы быть так просто, если бы он мне все объяснил. Но я его больше не видела. Я тоже виновата. Нужно было идти к нему раньше, не теряя ни дня, или, по меньшей мере, написать ему, позвонить. Что он мог подумать, раз я молчу? Да, я действительно была другой, я заслужила, чтобы он меня забыл. А завтра утром я уезжаю. И меня не будет больше месяца. Я буду одна с мамой в этом огромном доме в Ле Пила, и даже знать не буду, что он делает и что себе думает. Как вы думаете, если я ему напишу, он решится приехать туда на несколько дней?
Продолжая говорить, Мишелин вдруг заметила, что размытых силуэтов Мариетт и Лили уже нет напротив нее, по ту сторону стола, где они только что хлопотали. Повернув голову, она обнаружила другой силуэт, появление которого ее не слишком удивило. Это был он. Он стоял за ее спиной в полутьме буфетной и почти дышал ей в затылок. Только обхватив руками его шею и лепеча имя Бернара, Мишелин узнала Эвариста Милу, молодого писателя. Впрочем, казалось, юноша вовсе не был шокирован и даже не огорчился. Он явно был взволнован и тронут, что и можно было ожидать от верного друга Бернара. Улыбка его была мягкой и сердечной, руки, бережно сжимавшие ее, двигались скромно и предупредительно. В своем разочаровании Мишелин рада была утешиться этой милой заботливостью, и доверчиво уронила отяжелевшую от хмеля голову на плечо понимающего друга, который мог посочувствовать ее несчастью.
– Так вы, значит, завтра уезжаете? – мягко спросил он. – И как вы сказали называется это место?.. Ах да, Ле Пила. А где это?.. А, возле Аркашона. И как долго вы там пробудете?
– Не больше месяца. Пьер не сможет оставить завод и, я, думаю, остаток лета мы проведем в Париже. Как вы думаете, Бернар захочет приехать в Ле Пила?
– Может быть. Я, вероятно, буду отдыхать недалеко оттуда. Попытаюсь вам его привезти.
Мишелин, все еще держа голову на плече у Милу, увидела, что в дверном проеме появился неясный образ Мариетт, и улыбнулась ему совершенно непринужденно и по-дружески. Мариетт оглядела пару с любопытством и каким-то удовлетворением, заинтересовавшим Милу.
– Господи, там уже, наверное, все спрашивают, куда я делась, – сказала Мишелин, с трудом поднимая голову. – Что они, не видят, что я выпила два коктейля? У меня голова тяжелая, и я, наверное, вся красная.
– Да ничего, – уверила ее Мариетт. – Идите, я дам вам пудру.
Бернар вернулся в этот вечер около одиннадцати в сопровождении отца. Им теперь часто случалось ужинать вместе в городе, и дам Ансело это не огорчало. С тех пор как сын пошел работать, мсье Ансело не уставал ставить его в пример своим женщинам и говорил о нем теперь только со взволнованным и агрессивным энтузиазмом, который обычно оканчивался вспышками дикой ярости. «Как подумаю, что тут у меня три здоровенных дылды, которым и не стыдно смотреть, как младший брат надрывается…» – так начинался переходный период. В душе этот несчастный человек испытывал некоторые угрызения и упрекал себя за то, что вовлек этого высокого мечтательного мальчика в грустную трудовую жизнь, весьма похожую на ту, которую вел сам. Еще недавно, считая, что сын ни к чему не способен, он втайне восхищался его праздным и бесполезным существованием. Сейчас ему казалось, что он его в каком-то смысле сбил с пути, неосторожно сведя к скучному общему человеческому знаменателю. Поэтому он окружил его преувеличенно-материнской заботой, словно боясь, что он протрется или сломается, как ценная вещь, брошенная на потеху черни. У себя в конторе он вел иногда нескончаемые разговоры с Логр, выбирая подарок для Бернара или выясняя, какая диета могла бы быть ему наиболее полезна.
Мариетт была дома одна и читала в столовой.
– Вы уже ужинали? – спросила она у мужчин, когда они вошли.
– Ну, конечно, – ответил мсье Ансело с опенком беспокойства. – Не думаешь же ты, что я продержал бы до полуночи голодным мальчика, который целый день трудился. Что за вопрос!
Он обернулся к сыну, намереваясь отправить его спать.
– Подумай, тебе же завтра рано вставать, – сказал он с надрывной нежностью в голосе и добавил, зло взглянув на Мариетт, – не то, что тебе.
Он хотел было продолжить, но сдержался, подумав, что так сэкономит добрых пятнадцать минут.
– Тебе ничего не нужно? – спросил он Бернара. – Может, чего-нибудь хочешь, скажем, цветочного чаю?
– Да нет! Какого цветочного чаю? Я что, больной?
Большая пунцовая голова мсье Ансело втянулась в широкие плечи. Он улыбнулся смиренно, почти опасливо, и извинился:
– И то правда, я дурак. Но когда целый Божий день проработаешь, согнувшись над колонками цифр и над папками, часто побаливает голова или еще что другое. Это бывает. Ну ладно, спокойной ночи.
Он ушел к себе в комнату, чтобы до двух часов ночи писать письма, успев еще раз шепнуть сыну:
– Спокойно ночи.
Бернар уселся в углу столовой, в отдалении от Мариетт, и молчал. С тех пор как он приговорил себя не видеться с Мишелин, он обычно пребывал в оцепенении и неуверенности, и поэтому побаивался и общества, и одиночества. Мариетт, уткнувшись в книгу, украдкой наблюдала за ним. Будучи уверенной в эффекте, она не торопилась заговорить.
– Да, кстати, чуть не забыла, – сказала она наконец. – Сегодня после обеда у нас были гости.
Бернар издал неопределенный звук, означавший, что он слышал и что не имеет желания узнать подробности. Она выждала минуту и добавила, будто невзначай:
– Приходила мадам Ласкен.
Склонившись над книгой, она делала вид, что не замечает брата, бросившегося к ней. Он вырвал книгу из ее рук и бросил на стол.
– А ну-ка расскажи. Зачем она приходила?
– Да я не знаю. Просто так. Пришла с визитом.
– Одна?
– Да. То есть нет, дурья моя башка. Она была с какой-то дамой, ой, я забыла как ее зовут. Эта дама… Это была ее дочь. Вспомнила. Мишелин Ленуар.
Взволнованного этим визитом, Бернара внезапно охватило ужасающее беспокойство, не оставлявшее места ни для какого иного чувства.
– О Господи, – простонал он, – ну зачем они приходили! Я так боялся, что они увидят всю эту грязь. Будь я дома, я бы принимал их в своей комнате или повел бы в кафе. Хорошенькое дело! Что должна была подумать Мишелин об этом вашем обезьянничаньи, вашем свинстве? Просто тошно!
– Уверяю тебя, – запротестовала Мариетт, – ты зря обижаешь свою семеечку. Все происходило самым лучшим образом. Мама была неподражаема. Ну не мамочка, а нечто в стиле Регентства, в ней была такая суховатость, с оттенком гурманства, в очень английском звучании. А видел бы ты своих сестер, да ты бы поклялся, что это три малышки из пансиона. Например, когда разговор зашел о Пондебуа, надо было слышать, как мы говорили о светском сексуализме в сравнении с религиозным. Это было настолько прилично, милый мой! Просто наслаждение.
– Нет, неправда… Мариетт, ну Мариетт…
– А Джонни как тонко высказывался на ту же тему!
– Этот старый мерзавец, шут гороховый! Он тоже был здесь?
– Не говори так плохо о Джонни. Он был прекрасен до последней минуты, и все реплики его были так неожиданны, так оригинальны. Ты знаешь, каким он становится, когда чувствует рядом с собой Милу. Начинает чирикать, это поначалу странно, но со временем звучит так очаровательно. Ну прямо канареечка.
Убитый, потерявший голову, Бернар при каждой новой подробности испускал болезненный стон. Мариетт продолжала с милой шутливостью:
– Да и сам Милу был относительно безупречен. Ну, конечно, ему простительно. Ты же знаешь его манеру. Несколько тяжелый, грубоватый, с замашками сердцееда. Но у меня было впечатление, что он даже понравится мадам Ленуар. Он сумел показать себя галантным и даже предупредительным, ну, в общем-то, не зарывался.
– Проходимец. Грязная свинья. Если я его еще раз встречу здесь, череп проломлю, – возопил Бернар.
– Да не злись ты, перестань. Все равно это все не так уж важно. Мадам Ласкен и ее дочь завтра утром уезжают на отдых.
В этот момент мсье Ансело, привлеченный громкими голосами, вошел в столовую. Увидев потрясенное лицо Бернара, он накинулся на Мариетт с горячностью, предвещавшей мощное продолжение, начав с упреков в том, что она покушается на здоровье брата и старается, притом что сама палец о палец не ударит, вывести его из рабочего состояния. Тут в столовую ворвались мадам Ансело с двумя дочерьми, вернувшись с митинга Народного фронта. При виде их Бернара, который уже взял себя в руки и казался относительно спокойным, вдруг охватило бешенство на грани безумия, и он кинулся с бранью на мать и на сестер. Глаза его налились кровью, дыхание сперло, он обзывал их идиотками, коровами, грязными скотинами, чокнутыми и опять коровами. Они поначалу остолбенели, а затем заговорили с ним так нагло, что мсье Ансело дико разорался. Он совершенно не понимал, отчего его сын взбесился, но обвинял жену и дочерей, что это они виноваты. Сильные в своей невиновности, они за словом в карман не лезли. Скандал был таким яростным, что жильцы с верхнего этажа стали стучать в потолок.








