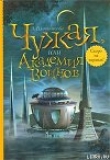Текст книги "Конец партии (СИ)"
Автор книги: Мария Самтенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Глава 9.1
На таможню мы приезжаем в седьмом часу утра. Таможенный пункт между Глайвицем и Ратибором выглядит довольно скромно: это комплекс из деревянных зданий, заборов и шлагбаумов, чуть-чуть припорошенных выпавшим за ночь снежком.
Водитель помогает нам выгрузить вещи и уезжает. Их не так уж и много, к тому же светлость договорился, что по другую сторону таможенного пункта нас встретят и заберут. Что ж, нам остается только рассчитывать, что эти бедолаги проспали и не ждут нас два с лишним часа! Потому на таможне мы безнадежно застреваем!
Казалось бы, что тут проверять? Мы со Степановым – обычные туристы. Ничего особенного с собой не везем, если не считать пистолетов. Да и на них есть все документы.
Так нет, проверяют же, причем на польской стороне. Немцы нас спокойно выпустили, а поляки все никак не хотят пропускать: заводят в деревянный домик, просматривают вещи по третьему кругу, спрашивают то одно, то другое. Причем на польском, а его не знает даже Степанов – что и говорить обо мне!
Причем я совершенно уверена, что таможенники прекрасно понимают и русский, и немецкий, а выделываются специально. На взятку намекают или просто развлекаются, непонятно. В связи с общей напряженностью между Германией и Польшей поток людей, пересекающих границу, снизился, так что кроме нас тут никого и нет, и эти фокусы никого не задерживают.
Светлость, впрочем, не нервничает, и меня просит тоже не волноваться. Все вопросы – решаемые. Сейчас у нас еще раз проверят вещи, потом – документы, повторят это еще раз шесть и, наверно, пропустят. А может, завернут, и тогда будем выбираться из Глайвица по-другому.
– Я не волнуюсь, – вполголоса отвечаю ему. – Просто раздражает бесконечно перебирать вещи.
В самом деле, я уже трижды выкладывала все из чемодана на большой стол, а потом складывала обратно. Вот уж не знаю, почему таможенникам так нравится на это смотреть. Видимо, какое-то загадочное, недоступное мне удово…
Додумать не успеваю: дверь вдруг распахивается, на пороге появляются вооруженные люди в знакомой зеленой форме. Один… два… с десяток человек!
Все происходит слишком быстро. Выстрел в полоток, резкий окрик на незнакомом языке – и таможенники поднимают руки.
Обращаюсь к дару воды, потому что оружие там, на столе, и не дотянуться – но светлость бросает на меня острый взгляд, а потом тоже поднимает руки. Показывает пример. Без резких движений? Как пожелаете. Добраться бы до пистолета!
Усатый мужчина с карабином жестами показывает и нам, и таможенникам отойти к стене. Потом группа нападающих разделяется: с нами остаются двое, остальные уходят дальше, в сторону границы с Германией.
Перепуганные таможенники жмутся к стене. Двое надзирателей наблюдают с тенью настороженности на лицах. Степанов смотрит то на стол с нашими вещами и оружием, то на меня. Довольно спокойно, на самом деле. В какой-то момент он тянется ко мне и шепчет:
– Сохраняйте спокойствие, Оленька. Это не поляки.
Осторожно киваю: так и подумала. Еще одна провокация! Не только на радиостанции, но и здесь, на таможне! Вот почему я не читала про этот Глайвиц⁈
Но что, интересно, они планируют делать с нами? Убрать как свидетелей? Но тогда встанут вопросы – а почему это поляки стреляли по своим? К тому же гражданским? Или оставить в живых? О, в таком случае нехороших вопросов может стать еще больше!
Один из нападающих опускает карабин, отходит в сторону и возвращается с мотком веревки.
Так, хорошо. Значит, убивать не планируют, и можно не дергаться. Сейчас главное – сохранять спокойствие и продумывать план. Черт возьми, я бы сделала из тех, кто там стоит, две сушеные мумии, но там еще и остальные! Обойтись придется. И что делать дальше? Проблема еще и в том, что, выскочив из здания, мы станем идеальными мишенями!
Где-то там, в соседнем здании, переодетые в польскую форму нацисты устраивают провокацию. А те, что здесь – вяжут руки нам и таможенникам.
Присмотревшись, я замечаю, что по дулам карабинов ползет лед – это Степанов применил дар. Помню, он уже проделывал нечто подобное в Горячем Ключе, и никто ничего не заподозрил.
Светлость ловит мой взгляд, чуть-чуть опускает веки. Показывает глазами на окно – оттуда доносятся звуки стрельбы. Потом вдруг вздрагивает, поворачивается на скрип двери… и ничего не успевает.
Потому что один из таможенников вдруг швыряет в стрелков порыв ветра – прямо так, со связанными руками – сбивает их с ног, выдирает из рук карабины… и падает на пол под гром выстрела.
Еще один немец стреляет прямо от входа! Именно он открывал дверь! Вторая пуля настигает еще одного таможенника, мы, кажется, следующие…
Залечь! Опрокинуть стол и отстреливаться! Шарахаюсь к светлости, падаю вместе с ним – но в падении догоняет боль.
Сознание меркнет.
Во тьме, кажется, проходит пара секунд, а потом я выныриваю из забытья, ощущая на себе связанные руки Степанова – и жгучую боль. Болит грудь, болит бок и, почему-то, снова болит висок.
В небольшом отдалении звучат голоса на немецком. Они уже не притворяются поляками – и это отлично, потому что так я хоть что-то да понимаю.
Операция.
Зачистка.
Случайность.
Русский министр.
Опасно?
Война.
Взять с собой.
Мертвая девка?
Зарыть.
Но сначала контро…
– Нет, Оля, нет!..
Звук выстрела, крик Степанова сливается с чьим-то отчаянным, душераздирающим воплем – а на меня вдруг наваливается что-то тяжелое, воняющее горелым.
И наступает оглушающая тишина.
Глава 9.2
Сознание возвращается от тряски, и тут же приходит боль. От потери крови знобит, в ушах звучат голоса на немецком.
Кажется, я все еще на таможенном пункте между Глайвицем и Ратибором. Лежу на полу в луже крови, и с меня только что стащили мертвое тело.
И меня, кажется, тоже считают мертвой! Потому что не трогают, меня словно нет.
Не важно. Главное – не шевелиться. От врагов я не отобьюсь, потому что сил нет даже открыть глаза и посмотреть, что происходит вокруг. Кровь течет из ран, еще чуть-чуть – и я снова потеряю сознание.
Вода, иди сюда!
Сейчас главное – остановить кровь. Из последних сил пытаюсь сосредоточиться на ощущениях, использовать дар воды, чтобы собственной кровью очистить раны от всего лишнего, вытолкнуть пулю – вторая прошла по касательной – а потом дать воде в крови загустеть. Искусственный фибрин. Вот так. Кровотечение останавливается, но это – последнее, на что хватает сил. Сопротивляться спасительному беспамятству больше не получается, и я балансирую на грани сознания, не в силах даже шевельнуться.
И голоса.
Я слышу ледяной голос Степанова – что-то про нацистских ублюдков. На немецком, разумеется – чтобы адресатам было понятно. И еще несколько не менее конкретных и не более цензурных слов.
От этого на секунду тянет улыбнуться – но потом я слышу глухой удар, и голос обрывается. А у меня нет сил даже открыть глаза, посмотреть, что с ним. Живой? Живой же⁈ Его же не застрелили, его просто ударили, правда?
И снова голоса. Я уплываю в туман под разговоры нацистов.
Когда сознание возвращается в следующий раз, я уже лежу в забросанной ветками яме, и рядом – тела польских таможенников. Застреленных. Контрольный в голову каждому, и я невольно тянусь к собственному виску, ощупываю запекшуюся кровь. Забавно – при падении я содрала корочку на виске, рана снова открылась. Никто, похоже, и не стал всматриваться – меня просто забрали вместе с остальными трупами.
Все это – часть операции с провокацией в Глайвице. Агенты абвера и гестапо разделились на несколько групп, и пока одна захватывала радиостанцию, вторая и третья напала на таможенный пункт и лесничество.
Трогать польских таможенников никто не планировал. Просто решили, что будет странно, если немецкая таможня увидит нападающих, а поляки скажут, что у них никого не было. Решили напасть, пострелять в потолок, связать людей, а потом уйти. Использовали польскоговорящих агентов, но все равно старались не обсуждать лишнего, чтобы не вызвать подозрения.
Если бы перепуганные таможенники не напали бы, их никто бы и пальцем не тронул. Дернулись – и агент, видимо, не слишком опытный, открыл огонь.
Дальше – только воспоминания. Я тогда уже почти теряла сознание, и понимала с пятого на десятое. Кажется, они посмотрели наши документы. Убедились, что мы – не поляки, а русские. Увидели, что Степанов – чиновник, заместитель министра. Не по военному ведомству, мирный. Приказа начинать войну с Российской Империей не было, и его решили забрать с собой. Понимали, что
Меня посчитали мертвой. Хотели сделать контрольный в голову, как полякам, но Степанов убил стрелка электричеством. Светлость оглушили и… кажется, забрали с собой. Потому что здесь, в яме, его точно нет. А меня и польских таможенников побросали в грузовик и вывезли в лес. Яма неглубокая, и я смогу выбраться.
Только сначала посмотреть трупы – убедиться, что здесь только поляки. Что Степанова не убили позже. Раны болят, но плевать. Если он… если его…
Обошлось.
Теперь нужно вылезти и… мысли путаются. Край холодной земли осыпается под пальцами. Ужасно хочется пить. Я кое-как выползаю, опрокидываюсь на спину, в пушистый, еще легко тающий ноябрьский снежок, и отдаюсь этой белизне.
Глава 10.1
Чтобы доползти до Глайвица, у меня уходят сутки.
Почему снова Глайвиц? Все просто: я хотя бы знаю, как до него добраться. И еще там есть, у кого укрыться раненой, без документов и не с самым лучшим знанием языка. К тому же, по моим подсчетам, Гитлер вот-вот нападет на Польшу, поэтому идти в сторону Ратибора совсем неразумно.
Сначала я выбираюсь из леса, ориентируясь на шум шоссе. Потом пробираюсь вдоль него посадками, прячась при малейшем шуме. Долго идти, вернее, практически ползти на четырех костях не получается, кончаются силы, норовит открыться кровотечение, поэтому на каждые сто метров у меня передышка.
Кое-как добиравшись до Глайвица, падаю у ближайшего дома. Видимо, организм решает, что все, лимиты исчерпаны.
Меня подбирают местные – обычные мирные немцы. Гражданские. Лечат как могут, кормят, прячут в подвале. Надо сказать, довольно цивилизованном: в потолке горит тусклая электрическая лампочка, а я лежу на старом матрасе в окружении банок с компотами и соленьями.
Задним числом я понимаю, что приютившие меня сердобольные люди вполне могли бы сдать меня полицаям, но в моменте мне настолько плохо, что становится не до обдумывания. Дня три я точно валяюсь в состоянии «сдохни или умри», потом становится лучше.
За это время выясняется, что Германия таки напала на Польшу. Но никого это, конечно, не удивляет. Подобравшие меня Ганс с Мартой вообще считают, что паны поляки сами напросились, и переубеждать у меня их сил нет. Да и не слишком хочется устраивать политпросвещение людям, которые прячут меня, возможно, с риском для жизни!
Чуть-чуть оклемавшись и убедившись, что мне действительно хотят помочь, я прошу Ганса с Мартой связаться с нашими русскими эмигрантами – теми самыми, у которых мы жили со Степановым. Звать их опасно, и я пишу записку нейтрального содержания. И получаю такой же нейтральный ответ: ждите гостей.
Еще несколько дней уходит на ожидание. За это время мне удается более-менее оклематься, я даже начинаю потихоньку вставать и вылезать из подвала как призрак коммунизма. Оружие бы еще раздобыть!
Выздоровлению очень способствуют невеселые мысли насчет Степанова. Вот куда его могли увезти? И что хотят с ним сделать? Сдать в обменный фонд? Разыграть с его помощью какую-нибудь хитрую провокацию? А может, его и вовсе уже закопали? Где-нибудь на соседней полянке?
Проходит еще несколько дней, и ко мне приходят долгожданные гости. Неприметный человек с маловыразительным лицом и колючими глазами спускается ко мне в подвал, осматривается – а я вдруг вспоминаю, что мы со Степановым как-то встречались с ним в Мюнхене! Вот только имя я не запомнила, в чем честно признаюсь. Только он и сейчас не рассказывает – просто предлагает называть его так, как мне нравится.
От этого предложения так и сквозит бульварным шпионским чтивом, так что я решаю называть гостя «Максим Максимович». Из уважения к еще не написанной в этом мире классике.
Первые секунды мы присматриваемся друг к другу. Потом обмениваемся информацией: я рассказываю про Глайвиц, а Максим – про Степанова.
– Михаилу Александровичу удалось сбежать, когда его везли в Мюнхен. По моим подсчетам, уже два дня как должен быть в Петербурге, – начинает Максим, и я обнаруживаю, что этот паршивый мир снова начинает мне нравиться. – Не поймите меня неправильно, но он был абсолютно уверен, что вы погибли. Во время нашей последней беседы господин Степанов утверждал, что вас застрелили у него на глазах.
Еще бы! Светлость видел, как в меня стреляли, видел, как я падаю. А потом эти разговоры про «контрольный вы голову» и то, что меня нужно закопать вместе с поляками. Страшно представить, что он почувствовал!
– Как он? Плохо?..
Звучит идиотски, но Максим Максимович даже не улыбается. Глаза остаются колкими и холодными.
– Терпимо, – уклончиво отвечает этот человек-пулемет – Уверен, наш дорогой друг очень обрадуется, когда узнает, что вы живы. Возможно, даже попытается лично приехать за вами – но это как раз было бы нежелательно. Взгляните сюда.
Он вытаскивает из кармана сложенный лист газетной бумаги. Стряхивает папиросные крошки, разворачивает и показывает мне короткую заметку про… жестокое убийство в пригороде Мюнхена!
Забираю вырезку, пробегаюсь глазами. Не все получается прочитать, но то, что есть, больше похоже на сценарий триллера!
– Сломанный грузовик посреди ночного шоссе и шесть замороженных трупов без денег и документов? По-моему, это можно экранизировать!
Глава 10.2
Я честно признаюсь, что ничего не поняла, и Максим Максимович рассказывает долгожданные подробности. Пожалуй, их даже больше, чем можно было узнать от Степанова, и я немедленно задаюсь вопросом, для чего это нужно. Он что, завербовать меня хочет? А зачем? Если работать в интересах нашей страны, так вокруг меня хороводы водить не нужно, я и так все сделаю. А если для каких-нибудь британцев, французов и так далее, то сразу до свидания. Тут главное, чтобы не оказалось, что он сам куда-то налево работает, а я об этом не знаю.
Правда, сейчас я все равно не боец, и лучше делать вид, что меня ничего не настораживает. Потом разберемся.
Но информацию Максим Максимович, конечно, дает любопытную.
Провокация в Глайвице, она же «Операция „Консервы“» проводилась под руководством офицера разведки Третьего рейха Альфреда Науйокса. Нацисты планировали инсценировать нападение поляков в трех местах. Про радиостанцию мы со светлостью догадались – это, в общем-то, было на поверхности – но план, как выяснилось, включал еще нападение на таможенный пункт и лесничество.
Вот прямо на нас со Степановым и выяснилось, да.
Среди агентов абвера и гестапо отобрали людей со знанием польского, нарядили их в нужное обмундирование – тут Максим Максимович останавливает рассказ и добавляет, что за доставку одежды и прочих технических средств отвечал адмирал Канарис. Еще при жизни, так сказать.
Предполагалось, что переодетые агенты нападут на радиостанцию, запрут персонал в каком-нибудь подсобном помещении и передадут в эфир агрессивное сообщение на польском. Потом – беспорядочная стрельба, и наконец «поляки» отступают, оставив несколько убитых для достоверности.
Для этого решили использовать узников концлагерей. Их доставили в местную тюрьму, а после сигнала к началу операции вывезли, переодели в польскую форму и убили с помощью смертельной инъекции.
Именно эту часть операции, кстати, видели мы со Степановым. Причем нельзя исключать, что из-за нас у нацистов произошел сдвиг по времени. Светлость же сломал грузовик с трупами, и как знать, насколько это задержало всю группу.
После того, как трупы – их называли «консервы» были доставлены на место провокации, живые агенты дополнительно расстреляли их и разложили в художественных позах. Здесь Максим Максимович с легким цинизмом добавляет, что смысл предварительной смертельной инъекции от него ускользнул. Почему бы просто не застрелить узников? Это недостаточно надежно?
– Кхм, – я невольно касаюсь виска, ощупываю подживающую рану. – Знаете, я бы сказала, что да. Недостаточно.
Человек-пулемет улыбается впервые за нашу беседу. То еще зрелище, надо сказать. Впрочем, в подвале и в окружении банок с вареньем и соленьями это выглядит даже как-то и по-домашнему.
– Но в целом провокация удалось? Никто ничего не заподозрил?
– О, знаете, руководству Рейха плевать. Наш с вами общий знакомый считает, что нападение «Польши» должно было выглядеть достоверным настолько, насколько это позволяет Франции и Британии не выполнять союзнические обязательства. Общеизвестно, что они обязались защищать Польшу от германской агрессии, но не в том случае, если поляки нападут первыми.
– И?..
В нашем мире, помнится, с сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года по май тысяча девятьсот сорокового шла так называемая «Странная война», она же «Сидячая война». То есть войну-то Гитлеру объявили, но боевых действий, можно сказать, и не было. Отмечались только редкие бомбардировки, локальные стычки и столкновения на море.
А в этом мире, рассказывает Максим Максимович, не было и этого. Гитлер жрет Польшу, все осуждают, но никто ничего не предпринимает. В том числе и Российская Империя, которая заняла выжидательную позицию. Подписание пакта с Германией сорвалось, с Францией, Великобританией, и другими участниками будущей антигитлеровской коалиции тоже пока не сложилось. Светлость, кстати, упоминал, что там были какие-то дипломатические проблемы – кажется, эти страны опасались, что их затянет в нашу войну с Японией.
Максим Максимович добавляет, что в пользу этой версии говорит и то, что инцидент в Глайвице почти не освещается внутри страны. Фюрер даже не упомянул о нем, когда говорил о войне с Польшей. Там было много про польскую агрессию, но в основном общими фразами.
Тем не менее, официальное следствие ведется, и начальник уголовной полиции Артур Небе даже велел изготовить электрифицированный макет для демонстрации «инцидента в Глайвице». Но только в Глайвице, в той самой радиовышке. Про таможню и лесничество обычно молчат.
– Ясно, – киваю я, и, убедившись, что собеседник договорил, возвращаюсь к газетной вырезке. – А можно как-нибудь подробнее насчет этого? Мне очень хочется узнать, как там Михаил Александрович. Получается, он заморозил нацистов и сбежал?
Максим Максимович рассказывает: да, именно так все и было. Степанов объявился на следующий день после инцидента в Глайвице. Рассказал про случившееся на таможне и добавил, что видел, как меня убили, вот собственными глазами. И ничего не смог сделать.
Когда нацисты стали обсуждать, что заберут его с собой, а мое тело закопают в лесу, он не выдержал и применил дар электричества. Светлость оглушили, и очнулся он уже в дороге. Нацисты не знали, что у него два дара. Они видели, как он использовал дар электричества, и приняли меры – и тогда Степанов использовал лед.
В другое время он, может, и пожалел бы людей, выполнявших приказ. Подумал бы, что, возможно, не все из них были идейными нацистами и заслуживали смерти. Но в тот момент он был совершенно не в состоянии рассуждать логически. Степанов даже не стал с ними разговаривать – просто заморозил грузовик вместе с людьми и сбежал.
– Если бы ваш супруг хоть на секунду заподозрил, что вы не погибли…
– Плевать я хотела на дохлых нацистов! – не выдерживаю я. – Главное, что сбежал! И вернулся домой, а не повесился на ближайшем столбе! Ох… простите, я вас перебила. Я не хотела.
– Ничего страшного, – кивает Максим Максимович. – Из неприятного – в машине могли остаться его отпечатки, а местный уголовный розыск, увы, весьма педантичен к таким вещам. И они, конечно, не станут разбирать, что те, кто вез вашего супруга в грузовике, напали на мирный таможенный пункт и похитили гражданское лицо. Поэтому Михаилу Александровичу не желательно появляться в Германии, и, тем более, в Глайвице. Но вы не волнуйтесь. Вас ни в коем случае не оставят здесь. Поправляйтесь, а мы позаботимся о легенде и документах.
Часть 2
Гарде. Глава 11.1
До конца декабря я обитаю в подвале, на уже обжитом мной старом матрасе в окружении банок с соленьями и вареньями. Когда холодает, Ганс и Марта ненадолго переселяют меня наверх, в комнату сына – он сейчас в армии. Очень надеюсь, кстати, что не пострадает и вернется домой живым, а то я и так тут по уши в моральных долгах.
В комнате теплее, но больше риска, что меня кто-то заметит и сдаст – например, парочка любопытных соседей, по описанию Ганса чуть ли не духовных братьев Никитушки Боровицкого. Поэтому я стараюсь пореже выходить и почаще сидеть в подвале, а если холодно или просто знобит из-за ран, кутаюсь в одеяла.
В этом мире я уже лечила огнестрел, и, надо сказать, в петербургской больнице мне понравилось гораздо больше. А тут, в Глайвице, не только с условиями проблема, но и с лекарствами, по крайней мере, теми, что в свободном доступе у простых немцев. Конечно, лечить гражданских – это не мучить пленных в концлагере, и доктор Менгеле, или кто тут за это отвечает, явно не считает снабжение аптек приоритетной задачей. Или не Менгеле? Не суть важно.
В общем, раны заживают непросто. Марта рассказывает, что в самом начале она даже думала положить меня в больницу по документам племянницы. Но мне, во-первых, не настолько плохо, а, во-вторых, совершенно не улыбается начать материть Гитлера в минуту беспамятства, подставив тем самым приютившую меня семью.
В итоге все обходится малой кровью. К появлению Максима Максимовича мне уже намного лучше, и просить его добыть что-то вроде пенициллина нет необходимости. Потом и раны заживают, оставляя на память о Глайвице три живописных шрама – на боку, на груди и на виске. Последний выглядит так, словно меня начали расстреливать, но не сложилось – хотя рана там была самая легкая. А самый скромный шрам, как ни странно, получился на груди, от раны, доставившей больше всего проблем. Но и тут надо радоваться, что пуля не пробила легкое, а застряла в ребре. Причем я поняла это потом. Тогда, в моменте, мне было очень тяжело что-то анализировать.
Чтобы не скучать в подвале, я выпрашиваю книги. Ганс и Марта – не особые любители чтения, так что выбор небольшой. И все, конечно же, на немецком – спасибо, Максим Максимович приносит словарь взамен моего, оставшегося на таможне.
Жизнь определенно не готовила меня читать Гете в оригинале! Если «Фауст» – это еще ничего, то «Страдания юного Вертера» я выношу с трудом. Главного героя хочется пристрелить уже с середины сюжета, и я очень радуюсь, когда это наконец-то происходит в финале.
Рождество я отмечаю вместе с Мартой и Гансом. Гитлер его вроде как пытался переименовать в Йоль, но как-то вяло. Переписали несколько гимнов, добавили нацистский и языческий колорит, но без особых стараний. Все отмечают, как привыкли, с елками, игрушками, подарками и накрытым столом.
По крайней мере, у Ганса с Мартой все очень мило и пасторально, не считая печенек в виде свастики, которые мне даже в руки брать неприятно. Заметив это, хозяева рассказывают, что слышали про новогодние игрушки в виде головы фюрера – но сами такие не видели, так что, может, это и выдумки. Не знаю, но месте Гитлера мне было бы неприятно висеть в таком виде на елочке.
После Рождества появляется Максим Максимович с документами и инструкциями. Я прощаюсь и с Гансом и Мартой, и с человеком-пулеметом, а новый, тысяча девятьсот сороковой год встречаю уже в Мюнхене.