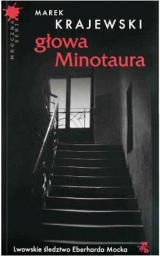
Текст книги "Голова Минотавра"
Автор книги: Марек Краевский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– Да, я понимаю, ты устала, – с искусственным весельем сказал комиссар. – Тогда едем домой. Ядзя, садись в машину. Я тебя подвезу.
– А мы не могли бы вернуться домой одни, пешком? – в глазах Риты была просьба. – Ядзя меня проводит. Пожалуйста, папа!
– Нет, нет. – Попельский подошел к автомобилю, открыл дверь. – Прошу садиться.
Когда девушки послушно уселись в машину, Попельский запустил двигатель и повернулся к ним лицом.
– Мне нужно сказать вам кое-что важное. Во Львове теперь очень опасно…
– Так вот почему папа приехал на представление, – чуть ли не выкрикнула Рита. – Не затем, чтобы меня увидеть, но чтобы меня, вроде бы, охранять. Так? Вот зачем! Сколько раз я уже слышала про опасности, которые только и ждут молодых девушек!
– Рита, как ты смеешь так со мной разговаривать! – холодно заметил на это комиссар. – Да еще и при своей соученице!
– Риточка, послушай, – говоря это, Ядзя всматривалась в Попельского глазами отличницы, всегда готовой дать ответ, – ведь твой папа желает лишь добра…
Комиссар отвернулся от девушек и тронул машину. Рита с Ядвигой молчали. В зеркале заднего вида Попельский видел, как Рита всматривается в магазины и здания, мимо которых они проезжали, а Ядвига читает чрезвычайное приложение, которое он бросил на заднее сидение, выходя из машины перед школой. Она не отрывала взгляда от первой страницы. Попельского же в течение всей поездки мучила одна мысль. Минотавр убивал и насиловал исключительно девственниц. Можно было бы спасти Риту перед чудовищем, если бы… И тут комиссар резко дергал головой, лишь бы только не высказать эту чудовищную мысль вслух. "Если бы не была она девственницей", – подсказывал какой-то демон.
Львов, понедельник 25 января 1937 года, восемь часов вечера
Аспирант Стефан Цыган сидел у Атласа и проклинал свою внешность эфеба. В этом роскошном питейном заведении на углу Рынка бывали литераторы и художники, а уже среди них – мужчины с явно греческими наклонностями. Эти последние, как правило, собирались по нечетным дням в Сером Зале. Никто об этом никто не говорил expressis verbis(открыто), разве что кроме полицейских, которые не могли руководствоваться мелко-мещанским ханжеством, вот им и приходилось называть вещи своими именами. Из группы мужчин, отдающих дань греческой вредной привычке, бывали здесь и балетмейстер Юлиуш Шанявский, и богатый торговец картинами, владелец антикварного магазина, Войцех Адам, и директор Национального Банка, Ежи Хрущлинский. Довольно часто, для отвода глаз их сопровождали женщины, всегда скорые к живым дискуссиям и провозглашающие вслух небанальные или даже совершенно революционные взгляды на темы морали. Не-львовянину, который бы зашел сюда впервые, могло бы показаться, что он очутился в эксклюзивном ресторане, который, если чем и выделяется, то только лишь роскошью. Вот только если бы он повнимательнее пригляделся к напомаженным, худощавым и натянутым словно струнка официантам, то увидел бы, что они очень молодые и отличаются необычной красотой. Не-львовянин понятия бы не имел, что работу в этом шикарном ресторане некоторые из официантов получили по протекции своих богатых любовников.
Аспирант Цыган был львовянином с рождения, так что нисколечки не удивлялся греческим вкусам некоторых официантов и клиентов. Только лишь он вошел, то сразу заметил парочку тосных взглядов. В зеркалах он прекрасно видел как при его виде причмокивают и немолодой уже брюнет с крашеными волосами, пьющий какой-то спиртной напиток из широкого, мелкого бокала; и тридцатилетний, на вид, мужчина с телом атлета и трубным голосом, опрокидывающий стопку за стопкой и закусывающий водку – о, ужас! – пирожными с кремом.
Цыган не отвечал на взгляды или улыбки, а только спокойно курил, мелкими глоточками цедил соточку замороженной водки, заедая ее превосходным тартаром [80]80
Хорошая вещь под водочку: мелко-мелко перемолотый сырой мясной фарш с прибавлением рубленого лука и яичного желтка со свежемолотым черным перцем – Прим. перевод.
[Закрыть], который сам же заправил чрезвычайно остро, и терпеливо ждал. От Шанявского, которого сегодня допрашивал, он знал, что в его среде недавно появилось двое мужчин, которые – по причине смуглой кожи и чрезвычайно красивых черных глаз – тут же очутились на чувствительном прицеле некоторых постоянных посетителей Атласа. Разговаривали они – как выразился Шанявский – «на польско-русском суржике», что в его глазах, непонятно почему, прибавляло им привлекательности. Так что Цыган сидел у двери и выглядывал молодых брюнетов со смуглой кожей. После часа ожидания, которое он скрашивал водкой, тартаром и чтением журнала «Сигналы», он увидел молодых людей, соответствующих описанию балетмейстера. Поначалу он услышал топот перед дверью, затем увидал их внутри, как они отряхивают пальто от снега и вручают гардеробщику. Через мгновение они прошли мимо Цыгана и присели под окном, из которого открывался вид на фонтан Адониса. Тут же появился официант и принял заказ: две рюмки джина и шарлотка со сливками.
Вместе с официантом к их столику подошел Стефан Цыган и отвесил весьма галантный поклон. Он присел, не ожидая приглашения, и довольно тихо произнес нечто, из-за чего оба прибывших тут же перестали улыбаться и отставили рюмки на мраморную столешницу.
– Уголовная полиция, – представился Цыган сладким голосом. – Значка вынимать не стану, потому что на нас все глядят. Наш разговор должен походить на дружескую беседу. Поняли? Тогда возьмите-ка рюмки и улыбнитесь.
За столом воцарилась тишина.
– Ваши имена? – спросил Цыган, когда парочка выполнила его указание.
– Иван Чухна.
– Анатолий Гравадзе.
– Во Львове недавно?
– Два года уже.
– А я – как и мой приятель.
– Вы вместе прибыли в наш город?
– Так точно. Вместе приехали.
– Откуда?
– Из Одессы, а потом из Стамбула.
Цыган замолк и задумался над тем, мог ли кто-нибудь из них быть разыскиваемым полицией человеком. Оба были весьма элегантно и даже изысканно одеты. Костюмы из бельской шерсти, шпильки с бриллиантами в галстуках. Он не думал, что эти двое так слабо будут разговаривать по-польски. Германский таможенник на границе и возница во Вроцлаве отличили бы польский язык от русского, тем более, по певучему акценту. Но так ли было на самом деле? А само н отличил$7
– Так чему мы обязаны чести, что господа из Одессы пожелали посетить наш город над Полтвой [81]81
Полтва – приток Западного Буга. В XIX веке река была заключена в пролегающий под центром города коллектор и стала частью канализационной системы Львова – Интернет. Признайте, в словах полицейского аспиранта имеется огромная доля иронии – Прим. перевод.
[Закрыть]? – спросил он закрученно и элегантно, после чего стал ожидать реакции.
Оба, как по команде, покачали головами и опечалились. Скорее всего, они ничего не поняли.
– Улыбайтесь, – сладким тоном, но с нажимом сказал Цыган. – Вы почему уехали из Одессы?
– Плоха у нас, – ответил Иван Чухна. – У вас лучше. Там мы играли и танцевали. А сюда, до Львива, приехали на сцену. И тут танцевали и пели. А потом остались тут и попросили начальство Львива, можно ли остаться. Ну и получили позволение. Так вот, два года тута имеемся.
– А что здесь делаете?
– Ой, что и в Одессе, – название города он произнес по-русски " в Одесйе" [82]82
Никто не сомневается в том, что Марек Краевский знает и литературный, и разговорный польский язык, но вот по русскому языку вряд ли у него была в школе хорошая оценка, судя по построению фраз и словарному запасу двух «прибывших пару лет назад» из России гомосексуалистов. И, естественно, никакой русский (тем более, живший в Одессе) не произнес бы «в Одесйе». Ну и фамилии еще… Опять же, тупые они какие-то…Стыдно вам должно быть, пан Марек – Прим. перевод.
[Закрыть]– Танцуем вприсядку, два раза в неделипоем в «Пустяке» [83]83
«Bagatela» / «Casino de Paris» – сейчас, театр Леся Курбаса на ул. Курбаса. – Прим. перевод.
[Закрыть].
За счет танцев и песен так хорошо бы вам не жилось, подумал аспирант, не могли бы вы себе позволить ни дорогую одевку, ни джин у Атласа, хотя шефа "Багатели", известного всем пана Шеффер, скупым никто не назовет. Цыган повернулся и тут же увидал ответ на свой вопрос. В радиусе взгляда имелось несколько мужчин, для которых содержание этих восточных царевичей было бы небольшим расходом.
– А в Сильвестр тоже в Багатели плясали?
– Когда? – Гравадзе явно не понял.
Ну да, подумал Цыган, у Советов только ведь дни рождения празднуют [84]84
Еще один «прокол» автора. В декабре 1935 г., после опубликования статьи П. Постышева в газете «Правда», празднование Нового года было официально разрешено (понятное дело, не день святого папы Сильвестра). Кстати, это событие широко обсуждалось в буржуазной прессе. – Прим. перевод.
[Закрыть]. Они понятия не имеют, что в католической стране каждый день имеет своего святого. Даже последний день в году. Ладно, не будь ты такой заядлый, выругал он сам себя, эти двое никак не являются членами Марианского студенческого союза.
– Ну, в Новый Год, когда в двенадцать часов пьют шампанское! Где вы тогда были?
– Ах, шампанское мы пили на балу в "Богеме", – ответил Чухна. – На котором мы были с нашими невестами.
– С кем из этих? – Цыган коротко дернул головой, как будто желал повернуться. – Кто из них может это подтвердить?
– Нет, – Гравадзе состроил оскорбленную мину. – Мы не такие. Мы были с нашими девушками.
– Только нечего мне мозги пудрить, цёта [85]85
Презрительное название гомосексуалиста. В среде геев «ciota» – это определение слишком вызывающего или женоподобного «голубого» – Словарь польского сленга (http://www.miejski.pl)
[Закрыть]! – Цыган выдвинул нижнюю челюсть. – В противном случае, говорить будем в комиссариате, после чего вы вернетесь в свою Одессу!
– Мы не обманываем, пан полковник, – у Чухны появились слезы в глазах. – Оне теперьв «Багатели» танцуют. Пойдем вместе, вы с ними поговорите, мы даже и входить не станем, чтобы раньше с ними не сговариваться.
– Так, значит, говоришь. – Цыган поднялся, хотя в нем боролись сомнения относительно осмысленности принятого решения. – Ладно, пошли в "Багателю".
Он сказал это настолько громко, что услышали не только его собеседники. Когда они выходили втроем из "Атласа", их проводило несколько завидущих взглядов и шорох голосов, повторяющих новость о новом приятеле красавчиков-танцоров.
Львов, среда 27 января 1937 года, десять часов утра
Выйдя из полицейского архива, аспирант Валериан Грабский был опечален. Он принадлежал к кругу людей очень обязательных, солидных и уравновешенных. Всего лишь один раз в жизни покинул его покой – было это тогда, когда на своем пути он встретил одного ксёндза-катехизатора [86]86
То есть, преподающего Катехизис (Закон Божий) в учебном заведении – Прим. перевод.
[Закрыть]. Тогда ему сильно досталось за пародирование проповеди на говение. Прихватив Грабского на этом преступлении, священник сделался в его отношении крайне суровым, словно Катон Старший к карфагенянам [87]87
Ни один древний источник не цитирует фразу в той форме, в которой она распространилась в новое время ( Carthago delenda estили Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). В работе «Жизнь Катона Старшего» древнегреческого биографа Плутарха упоминается, что римский полководец и государственный деятель Катон Старший, непримиримый враг Карфагена, заканчивал все свои речи (вне зависимости от их тематики) в сенате фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен» ( Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). – Википедия
[Закрыть]. В то время, как он сквозь пальцы глядел на незнание других учеников и всех продвигал исключительно на основе собственного убеждения о их религиозном послушании, Грабского выпытывал крайне тщательно по вопросам декретов отдельных синодов и соборов, относительно взглядов Отцов Церкви, о литургических и гомилетических [88]88
Гомиле́тика (омиле́тика; др. – греч. ὁμιλητική, 'омилэтикэ́ – искусство беседы) – церковно-богословская наука, излагающая правила церковного красноречия или проповедничества. Литургия – правила проведения богослужения. Википедия.
[Закрыть]реформах. Грабский учил все это на память и барабанил словно шарманка, но и это не удовлетворяло преподавателя. Через пару месяцев подобных терзаний ученик не выдержал. В один прекрасный день, когда ему пришлось комментировать сообщение о Никейском соборе авторства Афанасия Великого и Сократа Схоластика, за что не дождался похвалы, но, наоборот, неодобрения, Грабский не выдержал. Он подошел к сидящему священнику и влепил такую пощечину, что преподаватель полетел на пол. Таким образом Валериан Грабский покинул классическую гимназию после шести лет учебы и чуть не попал за решетку. Волчий билет позволил ему получить всего лишь профессию бухгалтера. Именно в бухгалтерской конторе в начале двадцатых годов и высмотрел его Мариан Зубик, в то время начальник отдела кадров во львовском управлении полиции. Восхищенный величайшей тщательностью и пунктуальностью бухгалтера, он предложил тому работу в своем отделе. Грабский охотно согласился. После этого он переходил из отдела в отдел, даже переезжал из города в город, в зависимости от очередных повышений своего благодетеля. Это был человек, привыкший к скрупулезной работе, с особой любовью к архивным изысканиям. Потому-то он и несколько опечалился, когда – придерживаясь очередности заданий, определенных Попельским – ему пришлось снять нарукавники и защищающий глаза от пыли козырек, покинуть полицейский архив и отправиться по интернатам и общежитиям для расспроса швейцаров. Печаль его была тем большей, что в полицейских актах все мужчины, имеющие на совести отклонения от половой морали, были или слишком старыми, чтобы изображать из себя молодую девушку, либо же сидели в тюрьме или давно уже покинули Львов. Последних было всего лишь двое, и ни один из них на цыгана похож не был.
Бурса [89]89
Здесь имеется в виду студенческое общежитие – Прим. перевод.
[Закрыть]на Иссаковича [90]90
Ныне ул. И. Горбачевского – Прим. автора.
[Закрыть]была первой в списке, который он сам скрупулезно составил, начиная с заведений, находящихся ближе всего к зданию на Лонцкого. Он не спеша шел по улице Потоцкого [91]91
Ранее: улица Анджея Потоцкого, ныне – ген. Чупрынки.
[Закрыть]и уже неизвестно который раз поздравлял себя за то, что не согласился на перевод в Люблин, который ему предлагали вместе с повышением в должности. Тогда бы он не видел этих замечательных зданий – как хотя бы вот сейчас – дворца Бесядецкого, стилизованного под средневековую крепость – не прогуливался бы по обширным и ухоженным паркам, не мог бы посещать своих любимых пивных, во главе со знаменитым рестораном пани Теличковой [92]92
Пр. Шевченко, 6 (вообще-то, там подавали только завтраки) (Lwów: Przewodnik. Авторы: Przemysław Włodek,Adam Kulewski) – Прим. перевод.
[Закрыть], которая к завтраку предлагала хрустящие булки с луком, вареный окорок с хреном, а страдающему от похмелья – чашку борща [93]93
Трудно сказать, какой борщ имеется в виду, но польский (и красный, и серый), как отвар из овощей с луком и чесноком, на роль «успокоения желудочных соков» годится, а «белый» (так в Белоруссии называют знаменитый журек) – это вообще панацея – Прим. перевод.
[Закрыть]ради «успокоения желудочных соков».
Аспирант Грабский с печалью отбросил приятные мысли и углубился в поросшую деревьями улочку, где стояло могучее здание бурсы, называемой Домом Техников.
Дежурный надзиратель [94]94
Преподавателей, назначенных надзирателями, называли «педель» (так и в романе). Но из текста следует, что это надзиратель по должности – Прим. перевод.
[Закрыть]сидел в комнатке, где размещалась узенькая лежанка, таз и спиртовка. Уже через минуту было известно, что это типичный, старый львовянин. В отличие от хозяев общежития, которые давали здесь убежище юношам без учета вероисповедания или происхождения, надзиратель столь терпимым не был. Он тут же раскритиковал «русинов запечных, которым государство дает здесь место для жилья, а те ничерта не делают, а только заговоры против Польши устраивают». Такое мнение не прибавило ему расположения Грабского, которого должны были бы демонстрировать на всех совещаниях воеводских комендантов в качестве образчика полнейшей и абсолютной аполитичности, которую предписания требовали от полицейских.
Уже через пару минут аспирант знал, что надзиратель слишком враждебно настроен против украинцев, так что на вопрос о каких-нибудь моральных извращениях наверняка ответит, что все обитатели бурсы данной национальности – это половые уроды и по нескольку раз на дню совершают грех нечистоты. Полицейский решил этой враждебностью воспользоваться.
– Эй, пан гражданин! – грозно заявил он. – А вам известно, что в данный момент вы совершаете нарушение?
– Это как же, – надзиратель даже съежился.
– Знаете ли вы, что перед представителем закона, да, именно так! перед государственным служащим вы проявляете национальную нетерпимость?
– Да я… вовсе нет… Я их, этих русинов, даже и люблю… Многие из них очень даже хорошие ребята!
– Ну, а вам известно, что я сам русин?
Грабский скорчил страшную мину и надел очки на нос.
– Так я… я совсем даже… я ничего… – швейцар чувствовал себя явно не в своей тарелке.
– Ладно уже, ладно, пан… пан…
– А Жребик моя фамилия, Юзефом окрестили…
– Ну, пан Жребик, – погрозил аспирант пальцем, – чтобы это был последний раз! И не говорите ничего, одну только чистую правду!
– Яволь, герр комиссар!
Старик наверняка служил при Франце-Иосифе, потому что даже в дежурке прищелкнул каблуками.
– А вот теперь скажите-ка мне, потому что вы, пан Жребик, знаете это лучше всех. – Грабский склонился к надзирателю. – Как себя ведут все эти русины – студенты и ученики. И не одни только русины… Поляки, евреи, кто там еще у вас есть… Ну, вы понимаете, что я имею в виду… Девочки и тому подобные делишки…
– Я никого не впускаю, пан комиссар, – Жребик скорчил оскорбленную мину. – Чужих – никого! Сам я старый фельдфебель и слушаюсь начальства!
– Вот это очень хорошо, вот это похвально. – Грабский протянул надзирателю руку. – Позвольте пожать руку столь замечательному государственному служащему. Сам я, в какой-то степени, тоже являюсь вашим начальством. Но понимающим и не жестоким.
Жребик даже покраснел от удовольствия, когда подавал руку Грабскому, а тот уже готовился задавать самые сложные вопросы.
– Ну ладно. А вот скажите мне одну такую вещь. Ведь здесь сплошные молодые мужчины и нуждаются в женской компании, вот знаете, в их возрасте я сам и дня не мог выдержать, чтобы… Ну, вы понимаете…
– Пан комиссар, был у нас один такой в армии, кузнецом на жизнь зарабатывал в Саноке, так он, когда утром вставал, на своем бандите ведерко с водой таскать мог, так тот у него стоял!
– Вот видите, – Грабский рассмеялся. – Все мы такие… С женщинами оно трудно, а без них еще хуже…
– Я всегда своей Мане говорю…
– Вот видите… А тут одни парни… На дзюню никто из них не запрыгнет, поскольку у него и денег, может, нет, ведь они же дорогие, правда, пан Жребик?
– Ни зыхир [95]95
Эт точно (батярский сленг)
[Закрыть]. Одна дзюня стоит стольки, что у некоторых и за месяц столько не бывает…
– Так что тогда? Случается, может, что они… Ну, вы понимаете, что я имею в виду… Должны ж облегчиться…
– А случается, случается, – вздохнул старый надзиратель. – Бывает, такие очереди в сортир, что аж страшно, когда один или другой такой кабинку займут… Ну, и чего он там делает, если не лысого гладят [96]96
В оригинале «kapucyna wali». Капуцины, как и некоторые другие католические монахи, выбривали тонзуру – намек на головку члена – Прим. перевод.
[Закрыть]…
Какое-то время аспирант размышлял над тем, а не сослаться ли на годы военной службы собеседника, задавая самый главный вопрос. Но потом посчитал, что введение типа: "Пан Жребик, вы жизнь знаете, так я вас напрямую спрошу…" может оскорбить старика, если бы сам он подумал, что его подозревают в педерастических наклонностях.
– А случалось такое, чтобы они друг друга удовлетворяли? – Самый главный вопрос Грабский задал без какой-либо артподготовки. – Оно редко случается, но ведь случается…
К удивлению Грабского, Жребик не отшатнулся в возмущении, даже не смутился особенно. Единственное, несколько снизил голос:
– А был один такой. – Надзиратель внимательно глядел из-под кустистых бровей. – Исключительно на коллег заядлый. И не русин даже, рыхтиг наш, из Здолбунова. Сын… И говорить жалко, но сын пулицая. По ночам по чердаку лазил и молодых убалтывал с собой ходить… Он один, других не помню.
– И как фамилия того воспитанника? Сколько лет? Что теперь делает?
– А вот это я должен и проверить, – сказал надзиратель и вытащил тетрадку в жирных пятнах. Он перелистал страницы, одну из них пригвоздил желтым от никотина пальцем. – О, вона он… Зайонц Антони, десятого года…
– Тысяча девятьсот десятого, так? Это сейчас ему двадцать семь лет.
– Ага, похоже, что оно так.
– И что он делает, где работает?
– А вот этого уже не знаю. Учил право, раз такой уже сын, и где-то выехал. Эт лет уже пяток будет. А больше не знаю.
– А как он выглядел?
– Да небольшой такой, но жилистый, сильный…
– Брюнет, блондин…
– А черный…
– Красивый был?
– А я знаю? – Жребик задумался. – Я знаю, когда один с другим красивый или там урод?
Грабский, уже очутившись на посыпанном свежим песком заснеженном тротуаре, почувствовал давно уже не испытываемую им дрожь эмоций, и понял, что его печаль по архивным документам совершенно смешна и объяснить ее невозможно.
Львов, среда 27 января 1937 года, полдень
Полицейский аспирант Герман Кацнельсон полученным заданием восхищен не был. Уже много раз пытался он объяснить начальнику Зубику, что сам факт еврейского происхождения никак не обрекает его для работы – как говаривал его шеф – «на участке национальных меньшинств». Кацнельсон был родом из давно уже ассимилировавшейся еврейской семьи, представители которой вот уже два поколения были львовскими юристами. Их отношение к ветхозаветной религии было – говоря деликатно – весьма прохладным, в то же самое время, к социализму и независимости Польши – по-настоящему восторженное. Кацнельсоны разговаривали исключительно по-польски и носили только польские имена. Сам он получил необычное в семье имя «Герман» в память одного австрийского офицера, который под Садовой спас жизнь его деду, и портрет которого висел в их салоне рядом с портретом Его Императорского Величества Франца-Иосифа. Впрочем, имя «Герман» было довольно распространено среди польских евреев, и по этой причине аспирант его от всего сердца ненавидел, поскольку считал его невытравимым польским еврейским пятном, ненужным балластом, недостойным современного человека, который сам решает о собственной национальной принадлежности. Правда, он не мог его сменить, опасаясь, что его лишат наследства, ибо именно так, скорее всего, отреагировал бы его отец, если бы узнал о подобного рода затее. Так что ничего удивительного, что «национальные» задания, даваемые ассимилированному аспиранту начальством, тот выполнял без особой охоты и ждал лучших времен, когда его шефом станет – во что Кацнельсон свято верил – комиссар Эдвард Попельский, ценивший следовательский талант Германа, и которому было глубоко плевать на национальное происхождение.
Беседы с представителями религиозных иудейских обществ, заботящихся о бурсах, заранее были противны Кацнельсону. Видя грязные молитвенные залы при синагогах, мальчишек, качающихся взад-вперед на скамейках в хедерах [97]97
Еврейская религиозная школа
[Закрыть], заношенные халаты и ермолки ветхозаветных евреев и парики набожных евреек, слушая заключения на неведомом ему идише, Герман чувствовал, что отступает в мрак неизвестного ему мира, а его логичный и рациональный ум, отшлифованный на незавершенном политехническом образовании, заливает осадком неких извечных предрассудков.
Посему с облегчением он отметил галочкой в своем полицейском блокноте все религиозные организации, предлагающие бедной молодежи моисеева вероисповедания крышу, пищу и заботу. Было из всего не так и много, и повсюду на свои вопросы Кацнельсон получал похожие отрицательные ответы. Никто из начальства еврейских сиротских домов не желал и слышать о том, что в их интернате мог находиться какой-то мешуге [98]98
Сумасшедший (идиш). Кстати, в иврите это слово означает «гений»! – Прим. перевод
[Закрыть], который совершал бы грех Онана или – не дай Господь – обитателей Содома. Герман Кацнельсон – несмотря на отсутствие какого-либо следа – вздохнул с облегчением, отправил своего дальнего кузена, которого нанял в качестве переводчика с идиш, и отправился теперь уже в светские еврейские заведения, предоставляющие ночлег и услуги по проживанию и воспитанию.
Первым из них был "Дом Еврейских Сирот" на Стрелецкой площади [99]99
Теперь: площадь Даниила Галицкого – Прим. автора
[Закрыть]. После того, как он выждал длительное время, его допустили пред ясны очи директора, господина Вольфа Тышминицера. Полицейский представился, вынул блокнот и карандаш, после чего, тяжело вздохнув, начал очередной допрос. Задав всего несколько вопросов, он почувствовал, что сердце начало биться живее. Уже после четверти часа беседы Герман Кацнельсон перестал проклинать инспектора Мариана Зубика за то, что тот давал ему исключительно «еврейские» задания.
Львов, понедельник 25 января 1937 года, девять часов вечера
Аспирант Стефан Цыган вместе с директором ресторана и дансинг-клуба «Багателя», Василем Погорильцем, шел по лабиринту узеньких коридорчиков, что размещались на задах этого замечательного и известного львовского заведения. За ними трусцой бежали Чухна с Гравадзе. Цынан не мог оставить их снаружи, опасаясь того, чтобы кто-то из них не позвонил «девушкам», чтобы быстренько слепить совместную версию. Все четверо остановились перед дверью с надписью «Артистическая уборная», верхний уголок которой был украшен цветком из папиросной бумаги.
– Это здесь, – сказал директор Погорилец. – Вместе с другими танцовщицами здесь переодеваются панна Стефця и панна Туня из нашего ревю. Но я весьма прошу пана аспиранта побыстрее. Обе девушки выступают на сцене! А теперь, пан аспирант, поглядите сами, какие чудные девушки у нас танцуют. Быть может, это привлечет пана аспиранта посетить наше заведение? Что-то никогда пана аспиранта я у нас не видел! А жаль, очень жаль… Вот послушайте, как там на верху замечательно поют!
Сказав это, директор указал пальцем на потолок. Из помещения, находившегося над ними, прекрасно были слышны слова плясовой песенки:
Гуляй, браци, файну.
Гды гармонья гра.
Бер' бабЫ под пахи,
Буг ци здровя да.
Вшендзи браци гуляй,
Грудык, Клипарув,
По сали катуляй,
Ни ма як наш Львув!
Погорилец покачал головой, как бы подтверждая слова песни и, не стуча, открыл дверь уборной. Из помещения раздался смех, писки и окрики деланого перепуга. Цыган сурово поглядел на Чухну и Гравадзе, стоявших в нише, ведущей к туалету.
– Так! – рявкнул он. – Из этой дыры ни ногой, ждать здесь меня!
– А вот я пойду, пан аспирант, – сказал Погорилец. – Вы же знаете, дела ждут, карнавал [100]100
Имеются в виду масленичные гуляния перед Великим Постом
[Закрыть]на полном ходу, так что прошу вас побыстрее…
Цыган еле сдержался сообщить директору, что его болтовня совершенно излишняя, он только кивнул, вошел в раздевалку и закрыл за собой двери.
Полицейскому уже исполнилось двадцать восемь лет, он был недавно обручен, и ему уже подзабылись времена, когда гимназиста Стефця Цыгана беспокоили эротические сны и мечтания о танцовщицах из тингкль-тангля. Но вот сейчас то самое беспокойство и те самые фантазии вернулись. Вид десятка полуголых женских тел, оборок и чулок, запах пудры и духов – все это пало на Цыгана совершенно неожиданно и на мгновение выбило из равновесия. И его повторному обретению никак не помогали усмешечки, трепет длинных ресниц и заигрывающие, заинтересованные взгляды танцовщиц. Цыган решил применить безотказное средство против полового возбуждения – он вспомнил фотографии женских гениталий, жестоко деформированных венерическими болезнями, которые он рассматривал на занятиях по судебной медицине во время полицейской учебы в Тернополе. Помогло. Аспирант с деланной серьезностью обратился к танцовщицам:
– Кого из вас зовут Стефця и Туня? – спросил он.
– Это мы, – из толпы девушек вышли блондинка с брюнеткой.
– Назовите фамилии, не псевдонимы!
– Меня зовут Стефания Мазур, – сказала худенькая блондинка. – А это вот Антонина Каневская, или же наша Туня, – указала она на черноволосую коллегу.
– Женихи есть? – Цыган вынул карандаш и выругался про себя за столь глупый вопрос.
– Только одного называть, пан комиссар? – расхохоталась танцовщица, поправляющая чулок.
– А ты молчи, обезьяна дурная! – прикрикнула на нее Стефця и усмехнулась Цыгану. – Есть, но по сравнению с паном комиссаром каждый их них – слабак…
Плебейский комплимент подействовал на Цыгана как электрический разряд. Он переводил взгляд со Стефцы, что положила ладони на узких бедрах и приглядывалась к нему с симпатией, на танцовщицу, что скатывала чулок по своей полной икре.
Воображение победило его. Вместо страшных картин он видел лишь сладострастно оплетающие его женские тела. К счастью, в раздевалке прозвенел звонок, вызывающий танцовщиц на сцену.
– И с кем же панна Стефця и панна Туня провели Сильвестр? – отчаянно спросил аспирант.
Но тут раскрылась дверь, и в проеме встал обеспокоенный директор Погорилец. Из-за его щуплой фигуры были замечательно видны Чухна с Гравадзе.
– О-о, вот с ними, – радостно воскликнула панна Туня, указывая пальцем на обоих иностранцев. – С этими вот чудными казачками. А как они вприсядку танцуют!…
Львов, среда 27 января 1937 года, два часа дня
Аспирант Валериан Грабский сидел в приемной Коммерческого Банка на улице Легионов [101]101
Сейчас: часть проспекта Свободы – Прим. автора
[Закрыть]и выглядывал в окно, ожидая работающего в банковской группе юристов Антония Зайонца. Полицейский был весьма доволен своим рабочим днем. Получив важную информацию от педеля Юзефа Жребика, он тут же отправился в секретариат факультета права Университета Яна-Казимира [102]102
Датой основания считается 20 января 1661 года, когда указ польского короля Яна II Казимира присвоил основанной в 1608 иезуитской коллегии статус академии и «титул университета». Формальное подтверждение прав академии и университета последовало в 1758—1759. Сейчас: Львовский Национальный Университет им. Ивана Франко – Википедия
[Закрыть]. Там пожилая секретарша, панна Эугения Кочурувна, надела нарукавники и провела тщательные исследования в делах студентов. Без особого труда она нашла студента по имени Антони Зайонц, родившегося в 1910 году. Она выписала номер зачетной книжки и просмотрела дела выпускников. После этих тщательных раскопок, ходом которых Грабский-чиновник был просто восхищен, секретарша сообщила, что пан магистр Антони Зайонц из Здолбунова закончил изучение права год назад и решил пройти бесплатную годичную практику в интендантской службе Университета. Аспирант Грабский провозгласил выражения восхищения трудами панны Кочурувны и отправился в интендантство, где узнал, что практикант с указанным именем уже несколько недель работает в Коммерческом Банке.
Теперь же Грабский находился в этом банке, он стоял – весьма довольный собой – у окна в коридоре, ведущем к кабинетам банковских юристов, и от скуки приглядывался к работникам, убирающим снег с тротуара перед кондитерской Бенецкого [103]103
На давней ул. Легионов (ныне пр. Свободы)
[Закрыть], где в награду за сегодняшние успехи он собирался съесть несколько пирожных с кремом.
Щелкнула дверь, и в коридоре раздались неспешные шаги. Грабский обернулся и увидел приближающегося к нему молодого мужчину в темном костюме. Он был невысокий, смуглый, черноволосый, с крупными темными глазами.
– Пан Антони Зайонц, год рождения 1910?
– Да, это я, – ответил мужчина. – А в чем дело? С кем имею честь?
– Аспирант Валериан Грабский. – Показанный полицейский значок произвел на Зайонца сильное впечатление. – В какой бурсе вы проживали во время учебы?
– В Доме Техников на Иссаковича, – ответил чиновник.
Грабский приподнял шляпу на прощание и с трудом протиснулся мимо Зайонца, отираясь о его могучее брюхо.
Львов, пятница 29 января 1937 год, полдень
– Благодарю вас, пан Грабский, за сообщение, – сказал Зубик по-польски и закурил любимую сигару «Патрия». – Зайонц [104]104
Читатель, похоже, давно уже догадался, что польский «zając» – это русский «заяц» – Прим. перевод.
[Закрыть]тот оказался слоном, а слоны по гостиничным водосточным трубам не скачут…
Кацнельсон с Грабским деланно усмехнулись, Заремба расхохотался от всего сердца, один только Мок промолчал, не поняв ни слова из шутки Зубика.
– Нехорошо, уважаемые, – нехорошо, – произнес начальник. – У этих двух зайцев-русаков имеется алиби, очередной подозреваемый слишком толст, чтобы заниматься акробатическими штучками на крыше. – После этого он перешел на немецкий. – В сиротских приютах и школах тоже ничего, в чем нам отчитался пан Заремба. А что там с национальными меньшинствами, пан Кацнельсон? Какой-нибудь след имеется?
Герман Кацнельсон скривился, услышав выражение "национальные меньшинства", и рассказал о своих неудачных розысках в еврейских религиозных общинах. Несмотря на его кислую физиономию, коллеги слушали его рапорт напряженно, поскольку знали, что их "еврейчик [105]105
В оригинале: «Gudłajek», сами поляки часто используют связку «пархатый гудлай», но в отношении Кацнельсона слово «пархатый» мне показалось, все же, обидным – Прим. перевод.
[Закрыть]" – как называли они товарища у него за спиной – любит неожиданности столь же сильно, как и комбинаторную шахматную игру, и после невинного, ничего не обещающего начала не раз и не два он под конец сообщения мог предложить настоящую бомбу.
После опроса всех ортодоксов [106]106
Кстати, если перевести это слово с греческого языка, получится «правоверные» или «православные»! – Прим. перевод.
[Закрыть]– именно так Кацнельсон всегда называл религиозно ангажированных ветхозаветных евреев – я взял на прицел светские бурсы, а так же общежития, которые финансируются и управляются еврейскими общественными организациями. Директор Дома Еврейских Сирот, пан – он заглянул в блокнот – Вольф Тышминицер, предложил мне очень интересный след. Двадцатилетний обитатель бурсы, невысокий и худощавый брюнет по имени Исидор Дрешер, весьма охотно играл женские роли в школьных представлениях. После окончания коммерческого училища, он работал в фирме по продаже древесины «Ингбер и Винер», и на определенных условиях должен был проживать в бурсе, пока не найдет себе отдельной квартиры. Пан Тышминицер как-то застал его пьяным на лестнице. Он тут же отказал ему в проживании. Дрешер перебрался на Зеленую [107]107
Как это ни странно, но сейчас эта улица тоже носит название «Зеленая».
[Закрыть]. Там я расспросил дворника. От него я узнал, что прослеживаемый в этой фирме уже не работает, но сильно выпивает и является эстрадным артистом в находящейся неподалеку пивной Канариенфогеля. Позавчера вечером я поглядел эстрадную программу, показываемую в той тошниловке. Было чего поглядеть! 0– фыркнул он с презрением. – Дрешер с буйными усами и бородой, в женском платье, крутится в еврейском танце и визжит под клезмерскую музыку" «Ай, вэй!» А вокруг ржущая толпа солдат и унтеров из казарм на горе святого Яцека. После выступления я подошел к Дрешеру и подробно допросил его. Прежде всего, мне хотелось узнать, настоящая ли его борода.








