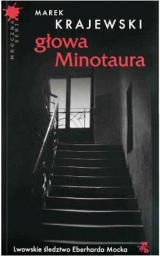
Текст книги "Голова Минотавра"
Автор книги: Марек Краевский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Нет, просто повторяю слова Бронислава. Он похитил меня, отвез в свое имение и запретил связываться с тобой. Только, папа, не следует думать, будто бы он меня поработил… Чего не было, того не было! В этом отношении он слишком большой джентльмен! Он дал мне два месяца на принятие решения, желаю ли я с ним остаться и делать актерскую карьеру, у него повсюду знакомства, так что это было возможно; или же возвратиться домой, в ту проклятую школу… Он приходил ко мне ежедневно, мы прогуливались в его парках и лесах… Через пару недель слуги уже перестали за мной следить. Не было необходимости… Мне не хотелось оттуда уходить… Я желала там быть, слушать его слова, глядеть ему в глаза. – Рита вздрогнула. – Прости, папочка! Я все рассказываю тебя с такими подробностями, словно ты – женщина!
– Почему же ты мне не написала? – глухим голосом спросил тот.
Рита подошла к отцу, поцеловала в голову, легла щекой на его лысине.
– Прошу прощения, папочка, извини меня… Просто, я не принадлежала себе… Жила, словно во сне… Все мне было безрзлично. Но теперь я уже взяла себя в руки. Я вновь разумная и примерная! И теперь, папа, мы всегда будем вместе, всегда… Никогда я не стану причиной печали для своего папочки. – В ее глазах вновь появились слезы, которые стекли по его лысине. – Папа, все время со мной была та давняя фотография… Я люблю тебя, папочка!
Попельский встал и крепко прижал дочку. Вдруг он оторвался от нее, схватил ее за худенькие плечи, отодвинул на расстояние вытянутых рук. На его шее появились малиновые пятна.
– Да, отец, – твердо и решительно произнесла Рита. – Я беременна. А Бронислав – отец моего ребенка.
Комиссар свалился на стул и уставился на циферблат часов. Только сейчас Рита заметила, что уши у него неестественно большие и пурпурные.
– Папочка, но ведь на все эти мещанские приличия ты никогда не обращал внимания. – Рита подбежала к отцу и схватила его за обе ладони. – Ведь папа жил с мамой без брака, а весь город гудел от возмущения! Папа, о чем ты беспокоишься? Самое главное, мы с Брониславом любим друг друга! А вот и приглашение на нашу свадьбу. Через три недели, в соборе!
Комиссар глянул на карточку. "Рита Попельская и др. Бронислав Кулик имеют громадную честь пригласить Уважаемого…" Дальше он уже не читал. Попельский перенесся во времени. Собрание львовского кружка Польского математического общества. Профессор Стефан Банах говорит: "Сегодня мы с удовольствием принимаем гостя, доктора Бронислава Кулика из Кракова, который прочитает лекцию из области формальной логики под названием "Логика наименований и логика предложений".
Рита бегала по комнате и, словно маленькая девочка, хлопала в ладоши.
– Папочка, я просто уверена, что у тебя с Брониславом будет столько общих тем! Я прямо чувствую это! Он тоже математик – как папочка, он прекрасно играет в шахматы! Вот теперь, когда я уже самостоятельная, я знаю, как сильно я люблю своего папочку! Все вместе будем ездить отдыхать! Папочка, тетя, папочкин внук, я и Бронислав. Ведь он так любит Карпаты!
Львов, 22 ноября 1938 г.
Дорогой Эберхард,
от всего сердца прошу у Тебя прощения за свое молчание, прерываемое только лишь случайными праздничными пожеланиями. За это время я пережил очень многое – в особенности же, между смертью и воскрешением Риты. Твои письма накапливались на моем письменном столе словно угрызения совести; а, как тебе известно, угрызения совести, если подавить их работой или спиртным, в конце концов утихают, чтобы потом совершенно умолкнуть. Я и сам желал избавиться от угрызений совести. Как-то раз, в пьяном раздражении я свалил все Твои письма в пепельницу и сжег. Мне не хотелось ничего знать о следствии, которое Ты ведешь, или там о делишках какого-то барона. Меня это никак не интересовало, поскольку я закуклился в собственных проблемах. Но я слышал, что моя кузина Леокадия с Тобой переписывалась и все Тебе описала: возвращение беременной Риты и ее свадьбу с доктором наук и графом в одном лице, Брониславом Воронецким-Куликом. Рита его любит, Леокадия любит, а я – ненавижу. Не знаю, почему моя дочь его полюбила. Быть может, потому, что они походили один на другого, поскольку и она, и он обманули надежды своих родителей? Или же он был сатаной и искусителем, очаровавшим ее? Не стану Тебе больше писать о нем, ибо одна только мысль об этом выродке наполняет меня отвращением. Скажу только одно: это чудовище и безумный преступник. Да, я не сошел с ума, Эберхард. Я повторяю это в полнейшем сознании: это сумасшедший убийца, который никогда не будет осужден за свои преступления. И знаешь почему? Потому что они известны лишь мне, не считая двух его преторианцев. Я же против него никогда не выступлю! Не могу же я отобрать отца у Ежика, моего любимого внука, который счастливо появился на свет в феврале этого года! Наверняка Тебе любопытно, откуда мне известно о злодействах собственного зятя. Так вот: от него же самого! Сообщил он мне все это совершенно сознательно. Выслушать его и не посадить за решетку – это так же, словно самому быть его сообщником. А я им стал. Я его выслушал и отпустил на волю. Знаешь, почему? Потому что он меня шантажировал. После полугода отсутствия Риты, когда я в мыслях давно ее похоронил, передо мной появился его светлость пан граф и сообщил: твоя дочка со мной, можешь ее вновь обрести, если меня выслушаешь; либо навечно утратить, если моим рассказом побрезгуешь. Выбирай. А я выбрал дочку. И он рассказал мне о своих чудовищных преступлениях, о которых теперь я обязан молчать.
Дорогой мой, я желаю уйти на пенсию. Зубик даже не желает об этом слышать и умоляет меня остаться. Я сделался еще более знаменитым, меня уважает сам воеводский комендант. А все потому, что нашелся Здзислав Поток; вроде бы, то была исключительно моя заслуга, что полиция вообще напала на его след. Да, он нашелся в деревушке Стржельчиска в в повяте Мошциска львовского воеводства. Мертвый, с отрубленной головой. До Тебя сообщения из Польши, похоже, не доходят, и, возможно, Ты ничего об этом всем не знаешь, разве что Леокадия Тебе писала. Наш судебный медик и психолог, доктор Иван Пидгирный, обнаружил психологическое объяснение психического отклонения и каннибализма Потока. Доктор считает, будто бы преступника того, напятнанного чудовищным уродством, женщины высмеивали, так что он им мстил. Лишая их девственности и уродуя, он их попросту метил. Но это всего лишь гипотеза Пидгирного. Свою тайну Поток забрал в могилу.
Эберхард, это письмо я пишу, чтобы поблагодарить за Твою помощь. За то, что я всегда мог на Тебе положиться. Еще же я пишу это письмо затем, чтобы с Тобой попрощаться. Я не могу с Тобой ни видеться, ни переписываться, ибо обязан выбросить из собственной памяти все, что только напоминает мне о деле Минотавра. А для меня оно было кровавой баней, дантовским адом и чистилищем. Это дело оставило воспоминания, от которых необходимо избавиться. Прощаясь с Тобой, я прощаюсь с работой в полиции, о чем уже писал выше. Я не могу быть полицейским, не могу представлять закон, одновременно обеспечивая неприкасаемость убийце. Он убил во мне полицейского, изнасиловал меня – навечно и без прощения. Прощая, мой дорогой, и прости мне это мое гамлетизирование.
Твой Эдвард.
PS. От всего сердца желаю Тебе спокойного и благословенного Рождества. Ты же мне ничего не желай. Эти праздничные дни я проведу в компании убийцы. Чего только не сделаешь ради собственного ребенка?
Бреслау, 20 декабря 1938 года
Дорогой Эдуард,
Твое письмо очень меня опечалило. Прежде всего, я печалюсь над тем, что Ты желаешь порвать наши отношения по причине, которая мне понятна, но которая никак не может быть решающей.
Ибо время лечит все раны, и Ты еще будешь смеяться над делом Минотавра. Пока же, я прошу Тебя лишь об одном. Я даже готов был убеждать Тебя на месте, во Львове – поскольку беспокоился о Тебе – но по причине навала срочных дел никак не мог этого сделать. Заклинаю Тебя: не уходи из полиции. Поверь старшему коллеге, как это ни парадоксально, сидя за одним столом с убийцей, у тебя имеется оказия стать еще более лучшим полицейским, чем ты уже являешься. Гляди на него все время и хорошенько запомни его лицо – наглое, самоуверенное, безнаказанное. Это лицо должно отпечататься в Твоей памяти навечно, точно так же, как когда-то в ней отпечатались греческие неправильные глаголы. Ты обязан призвать это лицо в любое мгновение. Тем более же, тогда, когда ты станешь преследовать другого убийцу. В минуты сомнений, когда Твои руки будут опадать от беспомощности, а преступник будет все уходить от Тебя – вспомни то лицо, которое сейчас ты видишь рядом с лицом Твоей дочери. Пускай эта морда будет мордой всех убийц на этом свете, пускай эта харя будет харей сатаны или Минотавра – как тебе хочется. Переживая вершинные моменты ненависти, ты станешь укротителем сатаны, истинным гончим псом, который либо загрызет убийцу, либо удавится его кишками. Прими, Эдуард, мой совет, но сделай так, как хочешь сам. Если старый Эби напоминает Тебе о деле Минотавра, то забудь на какое-то время о старом Эби. Но только, умоляю, не навечно! С кем же я выпью водки и пойду по девочкам, как не с Тобой?
Твой Эберхард.
Post scriptum: И помни, Ты всегда можешь на мне положиться.
Львов, Сочельник, 1938 год, шесть часов вечера
За рождественским столом сидело все семейство Попельских6 Эдвард, Леокадия, Рита и ее муж, доктор Бронислав граф Воронецкий-Кулик. Был еще один, самый молодой член семьи, Ежик Воронецкий-Кулик, которому испольнилось десять месяцев, и которого служанка Ганна называла «муцко найслодше» [219]219
mucko najsłodsze. Ну, второе слово понятно: сладчайший, а первое? В словарях местных или областных польских говоров ничего не нашлось; более-менее похоже чешское, ласкательное «macko» – «котенок»… – Прим. перевод.
[Закрыть]. Ребенок развивался правильно, ну а аппетит унаследовал, похоже, от дедушки, поскольку едой считал все, что только встречалось ему по пути. Поскольку же Ежик передвигался, в основном, на четвереньках, он ел все те вещи, которые были ему доступны на высоте полуметра от пола. Вот он и атаковал – словно щенок – все ножки от стульев и столов, и кружевные салфетки, свешивающиеся с различных шкафчиков и столиков. Нехорошо случалось тогда, когда «графчук» [220]220
Барчук, графчук, Кравчук…
[Закрыть]– поскольку добрая Ганна называла его и так – вместе с салфеткой стаскивал и посуду. И полбеды еще, если то была тарелка с пирожными, тут же подметаемыми; гораздо хуже, когда малыш с равным успехом занимался содержимым дедовой пепельницы.
В ходе своего первого в жизни рождественского ужина, ребенок вел себя очень беспокойно. Похоже, настроение всеобщей спешки, напряжения и беготни выбило его из нормального ритма; Ежик не захотел засыпать после полудня и теперь был невыносимым. Он не позволял себя успокоить даже деду, который всегда действовал на мальца успокоительно. И даже не сам дедушка, сколько его лысина. Ежик всегда касался дедовой головы с такой увлеченностью, словно открывал неведомые земли. Урчание, которое при этом издавал Эдвард, заставляло малыша радостно пищать; он открывал в улыбке свои десенки – поначалу беззубые, теперь же украшенные двумя остренькими молочными зубами.
К сожалению, в этот сочельник ни дедова лысина, ни его урчание не имели на Ежика успокоительного влияния. Мальчонка, одетый словно девочка в платьице с кружевным воротником, вырывался, вопил, совал в рот пухлую ручку, ни как не желал сидеть на коленях, пока, в конце концов, не пихнул супницу с красным барщем [221]221
Польский борщ (барщ) не похож на украинский. Это, свекольный (если борщ красный) отвар с добавлением весьма немногих компонентов, бывает постным и скоромным. Рецептов в Сети масса… «Барщ» – обязательное, одно из 12 блюд рождественского стола. – Прим. перевод.
[Закрыть]. Во все стороны полетел фонтан капель. Большая их часть осталась на скатерти, но несколько – на снежно-белой сорочке деда. Попельский даже не обратил на это внимания; он взял внука на руки и начал прохаживаться с ним по комнате, что – кстати – чуточку успокоило малыша.
Собравшиеся смотрели на эту семейную идиллию, правда их мысли кружили совершенно различных регионах. Рита улыбалась. Все чаще в ней нарождалась надежда, что отношения ее мужа и ее отца наконец-то сложатся по-хорошему. После печального дня свадьбы, на которой отец отсутствовал, после первых очень холодных месяцев, когда он не замечал зятя на улице, после Сочельника, который впервые в жизни они провели по отдельности, все изменилось, когда родился Ежик, и дед просто с ума сошел в его отношении. Рита получила столь желаемое ею приглашение на этот рождественский ужин. Она радовалась словно ребенок, когда отец позвонил ей и пригласил "под ёлочку! как они сами всегда называли это торжество. Рита не знала того, что приглашение было получено, благодаря мужу, который воспользовался именем Мариана Зубика.
Леокадия лишь изумленно протирала глаза. Бездетная, она так и не могла накопить в себе столько любви к Ежику, который раздражал ее своими воплями и частыми сменами настроения. Никогда не могла она подумать, что ребенок настолько способен изменить человека. Попельский, который когда-то при виде капли супа на галстуке или сорочке просто бесился, вскакивал из-за стола и метался по квартире в поисках тряпки, едва-едва сдерживаясь, чтобы не выдать поток казарменных ругательств, сейчас вообще не обратил внимания на запачканную сорочку и танцевал с внуком по комнате, а тот, прижавшись к деду, запачкал ему еще и воротник. Леокадию эта перемена в Эдварде радовала. Впрочем, ее радовало бы и любое другое поведение кузена, лишь бы только не его убийственные эскапады по пивным и его неестественная улыбка после бессонной ночи.
Бронислав Воронецкий-Кулик, хотя сидел и спокойно, в глубине духа был ужасно раздражен. Он упрямо молчал, опустив голову на грудь, время от времени злобно усмехаясь и водя по сторонам бешеным взглядом. Граф и докитор не мог простить Попельскому столь нарочитого недовольства и презрения. Он не мог понять, что тот вовсе не радуется счастью собственной дочери, живущей в роскоши – и, что самое главное, благодаря его связям – начинающей делать кино-карьеру, выступая под псевдонимом "Рита Поп". Она уже сыграла небольшую роль в фильме "Огонь в сердце" самого Хенрыка Шаро [222]222
Хенрык Шаро (собственно: Хенрык Шапиро – Henryk Szapiro) (род. 21 ноября 1900 г. в Варшаве, ум. 14 апреля или 8 июня 1942 г. в Варшаве) – польский режиссер театра и кино и сценарист еврейского происхождения. Ученик Вс. Мейерхольда. Один из важнейших польских режиссеров эпохи немого кино. В одном только 1937 году снял три фильма, но фильма «Огонь в сердце» среди них нет. – Википедия + Прим. перевод.
[Закрыть]. А эта лысая сволочь так и не подает ему руки, равно как и не обнимает в ходе праздничных пожеланий. Лишь кивнул головой и чего-то там буркнул, точно так же, как сейчас урчит этому чертову выродку, который никак не может заткнуть свою пасть!
Ежик успокоился, и Попельский уселся за стол вместе с внуком.
– А может уже и время забрать подарки из-под елки, – делано улыбнулся Воронецкий-Кулик. – Малыш получил бы свой подарок и, возможно, оставил бы всех в покое, а? Так что, могу я ему дать?
– Броня, – Рита с беспокойством глянула на отца и погладила мужа по руке, – это его успокоит всего на мгновение. Главная причина в том, что он днем не спал. Сейчас я его уложу, а Ганна споет ему колыбельную. Если чуточку дольше поиграет, быстрее заснет.
Ежик перестал интересоваться дедовой лысиной, выплюнул соску на пол, сощурился и завопил.
– Да отдайте вы ему его подарок, – бешено глянул граф на Попельского, – или я сам его дам ему!
– Молодой человек, вам не известны, – Попельский подбрасывал мальца на колене, – обычаи этого дома. У нас сначала все ужинают, а потом самый старший, то есть – я, повторюсь: я, раздает подарки. И так оно будет всегда.
– Так… так… Обычаи обычаями… – Воронецкий-Кулик сжал ложку так сильно, что побелели костяшки пальцев.
– Папа, передай мне, пожалуйста, Ежика, – быстро вмешалась Рита. – Быть может, он у меня успокоится быстрее…
– Вы что-то хотели сказать, молодой человек? – Попельский передал внука дочке. – Что-то об обычаях этого дома?
– Папочка, прошу тебя, – прошептала Рита, прижимая сына.
Граф стиснул губы и ложкой разломил плавающее в борще ушко, поднес его ко рту и начал медленно пережевывать. Но потом не проглотил, а выплюнул на ложку. Леокадия глядела на него с отвращением. Ежик снова начал пронзительно вопить, а когда мать прижимала его к себе, колотил ее кулачками по лицу.
– Так ты даешь ему тот подарок или нет? – прошипел Воронецкий-Кулик Попельскому.
– Как ты смеешь так обращаться к моему отцу!? – крикнула Рита. – И что ты делаешь с этим несчастным ушком?
– Наверное, у него зубы болят, – криво усмехнулся Попельский и отложил прибор. – Нужно что-нибудь мягкое…
– Эдзьо, только не нервничай, – молитвенно глядела на него Леокадия. – А то тебе будет плохо. У тебя же давление…
– Прошу тебя, не называй меня "Эдзьо"! – С совершенно каменным лицом Попельский легко перекрикивал вопли внука. – После смерти Вильгельма мне бы не хотелось, чтобы кто-либо обращался ко мне так…
Воронецкий-Кулик стряхнул пережеванную массу с ложки себе в ладонь. Он поднялся, подошел к Попельскому и подсунул ее тому под самый нос. Глядя на отца, Ежик перестал реветь.
– Жри, лысый! – Граф усмехался от уха до уха. – Я же говорил, что ты у меня из рук есть будешь!
Все буквально окаменели. Этим воспользовался Ежик, который молниеносно вскарабкался с колен матери на стол и потянулся к хрустальному кувшину с компотом из сухофруктов. Кувшин упал на стол будто при замедленной съемке, узвар хлестнул на бежевое платье Леокадии. Малыш, увидав результаты своей выходки, зашелся в реве, растирая пальчиками глаза. Вопль зашкаливал. Такого количества децибел в квартире Попельского еще не бывало. Даже дедушка закрыл ладонями рваные, словно у борца, уши.
Бронислав бросил пережеванное ушко на ковер, подскочил к столу и прижал ребенка к столешнице. Он схватил его головку обеими руками и начал втискивать большие пальцы в глаза сыну.
– Ну, чего трешь глаза, выродок! – шипел он. – Сейчас я твои гляделки вылуплю…
Попельский бросился на него. Когда Воронецкий-Кулик с изумлением повернул голову в сторону атакующего тестя, он получил кулаком прямо в висок. Граф покачнулся, в глазах потемнело. И тут он получил настолько сильный удар в подбородок, что свалился прямо на напольные часы. Падая на пол, он услышал, как механизм вызванивает и выбивает какие-то невозможные куранты. Подбородок графа, разодранный перстнем-печаткой Попельского ужасно болел, из раны капала кровь. Комиссар склонился над Воронецким, схватил его за воротник костюма и вытащил в прихожую. Не обращая внимания на плачущую Риту, которая хватала его за руки, он открыл дверь и выкинул худощавое тело зятя через порог, а вслед за ним выкинул его пальто, шляпу и трость.
Воронецкий-Кулик сидел под перилами лестницы и издевательски скалился Попельскому.
– Эдзьо, – с трудом прошепелявил он. – Собирайся в тюрьму!
– Вместе с собой я потащу и тебя! – крикнул в ответ Попельский.
На лестничной клетке раздавались голоса колядников:
В тишине и в ночи вестник к нам явился,
Поднимайтесь, пастухи, Бог у нас родился…
Попельский закрыл дверь, вошел в разгромленную гостиную и тяжело опустился на стул у сваленных часов. Плакали Леокадия и Рита. Плакала и Ганна, носившая Ежика по комнате и напевавшая ему колыбельную [223]223
Странно, чего только не найдешь в Сети. В оригинале текста Ганна поет Ежику (вы уже догадались: Ежи, Jerzy) колыбельную «Bałam – bałam». Думал, это какая-то народная песенка, полез в Нэт… На сегодня (29.07.2012) выяснилось, что песне «Балам-Балам жан балам» исполнилось 25 лет, что есть песни «Балам-Балам» из Бангладеш, Казахстана, в исполнении некоей (некоего) Nermin… А слова какие чудные, посудите сами: «Самолет Баку-Москва. Летит наш самолёт прямо в облака. Летит в салоне самолёта Алибала. И хорошо что есть в портфеле водка русская, Ай-балам, вилка, рюмка и салфетка, чёрная икра»… Неужели Ганна пела Ежику именно ее? – Прим. перевод.
[Закрыть]. Не плакал один только Попельский.
Львов, понедельник 13 марта 1939 года, два часа ночи
Риту разбудил стук закрываемой двери. Вот уже год, с момента рождения Ежика, сон у нее был очень чутким. Рита просыпалась, когда спящий ребенок вздыхал, когда за окном выл ветер, даже если какой-нибудь пьяница начинал ночью скандалить. Сейчас она знала, что вернулся Бронислав. Женщина закрыла глаза. Ей не хотелось, чтобы муж заметил, что она не спит. У нее не было ни малейшего желания для исполнения супружеских обязанностей, а вот у ее мужа подобное желание имелось повсюду и всегда. Чаще же всего, когда он возвращался поздно ночью с различных, как он сам заявлял, деловых встреч. Тогда он внимательно глядел на нее, раздевался донага и вынуждал делать вещи, которых она не любила. Потому-то, с определенного времени, чтобы избежать этого, она притворялась, что спит, и даже похрапывала, что, при ее актерском таланте, легко обманывало неопытного мужа.
Теперь она тоже слышала, как Бронислав раздевается, разбрасывая вещи куда попало, как он становится над ней. Рита чувствовала на себе его взгляд. Она тихонько захрапела. Бронислав ушел. После этого она услышала, как стул под ним тихонько поскрипывает. Скрип делался регулярным. Рита приоткрыла веки – и застыла. Сидя на стуле, муж онанировал. Только ее перепугало не это. Годовалый Ежик проснулся и улыбался отцу.
– Ну, чего пялишься, – шепот Бронислава становился все более горячечным. – Хочешь глянуть, как коровка молочко дает?
– Да что же ты творишь!? – завопила Рита, а Ежик расплакался.
– А что? – Муж поднялся, скорчил невинную мину. – Ведь это же совершенно естественно… Ты же знаешь, мне нужно дважды в день… Мне следовало облегчиться… А ты спала… Но теперь, раз уже ты не спишь!…
Львов, воскресенье 16 апреля 1939 года, одиннадцать часов вечера
Рита сидела за туалетным столиком, покрывая кремом лицо и декольте. Она была крайне счастлива тем, что они, наконец-то, покидают Львов и после праздников едут на лето в Бараньи Перетоки. До нее дошло, что для нее самой наиболее важно не актерство, а ее сын. Когда она, безумно уставшая, возвращалась с различных репетиций и просмотров, Ежик протягивал к ней ручки и плакал, вместо того, чтобы радоваться. Он как будто бы упрекал Риту в том, что она оставляет его на целый день под присмотром няньки-украинки, которая, хотя и любила мальчика, матери заменить никак не могла.
Львов ужасно влиял на Бронислава. Он делался все более мрачным, замкнутым и жестоким. Ни минуты не мог он провести с сыном, чтобы не ударить его, не накричать. Когда они вместе ели, он всякий раз поливал помоями отца Риты и следил, как она реагирует. Рядом с Брониславом Рита постепенно утрачивала всю свою давнюю порывистость и независимость. Она знала, что ее решительное и резкое поведение уже не даст никакого эффекта, поскольку сталкивалось со стихией еще более порывистой и грозной, которая пугала ее, и которую она никак не понимала. Рита и так по-разному пыталась объяснять приступы мужа. Она с любовью глядела, как он кричит и захлебывается злостью, вспоминала его воспоминания о детстве и говорила про себя: "Какое же это ужасное бремя, когда тебя с малых лет воспитывают как гения! Ведь это может отрицательно повлиять на всю жизнь! Я Ежика так воспитывать не стану! Ту же ошибку совершал и мой отец, правда, в меньшем масштабе. Он не желал, чтобы я была гениальной, а только лишь, чтобы я получила аттестат зрелости. А вот мой покойный свекор требовал от Бронека гениальности. Ничего удивительного, что у мужа нервное заболевание! Скоро поедем в деревню, и все вернется в норму. Бронек отдохнет на лоне природы, а у Ежика будет более чистый воздух". Когда неделю назад, во время пасхального завтрака муж сообщил, что через неделю они выезжают в имение, Рита даже подпрыгнула от радости.
Вечером, расчесывая свои длинные, густые волосы, она размышляла над тем, когда было бы лучше встретиться с отцом перед отъездом. Рита простила ему нападение на Бронека, который в Сочельник был весь на нервах. С отцом она встречалась несколько раз, как правило, во время заранее уговоренных прогулок по Стрыйскому Парку. Иногда она посещала его во время его же завтрака, то есть – около полудня, и пила кофе с ним и теткой Леокадией, пока Ежик игрался с Ганной. Во время этих бесед темы Бронислава не существовало. Рите пришлось согласится с тем, что никогда уже вместе они в Карпаты не поедут, а Попельский согласился с тем, что с дочкой и внуком видится лишь в мгновения, украденные у ненавистного зятя.
Рита усмехнулась при мысли, что уже завтра увидит зеленые поля и еще безлистые буки Бараньих Переток. Она услышала, как в спальне заскрипела дверь. "Ожидай меня нагой", – сказал ей Бронислав перед уходом, – я тоже войду в спальню нагим. Сегодня мы встретим наш праздник весны!". Рита поправила волосы и сбросила халат. Она никогда не испытывала ложной скромности при виде собственного обнаженного тела. Она знала, что красива.
Покачивая бедрами, она вошла в спальню. И тут закричала. На кровати лежал голый Бронислав, а рядом с ним – какой-то тоже голый, неизвестный ей молодой парень. Рита выбежала к себе в будуар, надела халат… Тут до нее донесся скрип. Оба мужчины стояли в дверях.
– Я не стану этого делать, – тихо, но решительно заявила Рита. – Выметайся из моего будуара! – рявкнула она на мужа. – Свинья извращенная!
Воронецкий-Кулик направился к ней. В руке он держал клюшку для гольфа и ритмично постукивал ею по открытой ладони.
– Или ты сделаешь это с нами двумя, – сказал он, – или с этой вот палкой.
Львов, понедельник 17 апреля 1939 года, четыре часа ночи
Попельский решил сегодня лечь раньше. На следующий день у него была назначена важная встреча с директором украинского Земского Ипотечного банка, паном Мыколой Савчуком, который подозревал одного из своих сотрудников в мошенничестве. Так что готовился долгий, нудный разговор о банковских сделках, из которого Попельский и так мало что будет понимать.
Он тяжко вздохнул и отложил старое издание "Песен" Горация на полку. Попельский был зол на самого себя. Много латинских слов он просто забыл, так что приходилось часто заглядывать в словарь. Он закурил папиросу "на сон грядущий" и отправился в ванную, чтобы втереть крем во все еще упругую кожу лица. Когда комиссар дошел до прихожей, в двери зазвенел звонок. Удивленный Попельский подошел к двери, глянул в глазок и даже открыл рот от изумления. Папироса выпала и покатилась по паркету.
Он открыл. Рита вошла в квартиру. На руках ее был спящий, закутанный в одеяло Ежик. Сама она была одета в наскоро наброшенный свитер из Закопане и халат. Рита шла очень медленно, шаркая ногами. За ней тянулась темная полоса крови.
Бреслау, понедельник 17 апреля 1939 года, семь часов утра
Мок сидел в кресле и пытался надеть туфли. Ему было ужасно неудобно по причине брюха, которое вчера вечером он заполнил превосходными, хотя и тяжело перевариваемыми венскими шницелями. Несмотря на переедание, Мок от всего сердца поблагодарил Марту за добрые намерения и заявил, что сам выведет своего Аргоса на прогулку. Тяжело дыша, криминаль-директор продевал шнурки в дырочки. Краем глаза он видел, что его пес уже стоит под дверью, держа в зубах поводок.
– Ладно, пёсик, уже выходим гулять.
Мок усмехнулся, увидав, как при слове "гулять" Аргос встает на задние лапы и мотает хвостом.
Шнурки были практически завязаны, как вдруг зазвонил телефон. Мок, проклиная любые дела, которые настолько срочны, что не могут подождать хотя бы до девяти часов, бросил свое сложное задание и поднял трубку.
– Международный разговор, – сообщил милый женский голосок. – Соединяю.
– Благодарю, – буркнул Мок и прижал трубку к уху.
После нескольких секунд шорохов и писков раздался голос: мужской и мало приятный.
– Могу ли я все еще полагаться на тебя, Эберхард?
– Естественно, с радостью ответил тот, но тут же прикусил язык за свой веселый тон; голос Попельского извещал о плохих новостях. – Что произошло?
– Ты должен узнать всю правду. – Попельский сказал это после длительного молчания. – Но не по телефону… Как можно скорее! Где мы встретимся? И когда?
– Когда? Да хотя бы и завтра! – ответил на это немец.
– Где?
– С этим уже сложнее, – задумался Мок и погладил Аргоса по голове. – Ага, знаю! Знаю! Имеется такое местечко, где друзья встречаются за порцией рульки и за бутылочкой замороженной водки. Ты еще помнишь ресторан "Эльдорадо" в Катовицах?
– Приезжай во Львов. Прошу тебя.
Львов, пятница 28 апреля 1939 года, три часа ночи
Третий перрон львовского Центрального вокзала был пуст. Кроме сонного железнодорожника и продавца газет, который раскладывал прессу на своем стеллаже, можно было увидеть только одного мужчину, одетого в черное, в котелке на голове и в белом кашне вокруг шеи; вторым светлым элементом его гардероба были замшевые перчатки.
Мужчина задумчиво глядел на туман, клубящийся над рельсами и под стеклянно-стальной крышей перонного зала. Минут за тридцать до настоящего момента, направляясь на извозчике на вокзал, он проехал мимо маячащего в темноте костёла святой Елизаветы. Это монументальное здание – реплика венского собора святого Стефана, на мгновение пробудил в нем память о счастливых временах молодости в городе на Дунае. Теперь же он находился в городе над подземной рекой, а последние его воспоминания были такими же мертвыми и нереальными, как львовский Стикс. Попельский еще раз поглядел на таблицу, сообщавшую, что через пять минут на перрон въедет поезд дальнего следования из Берлина, сообщением через Бреслау, Оппельн, Катовице, Жешув и Пшемышль.
Поезд выехал из тумана, многократно увеличив его объемы собственным паром, словно и сам был призраком. Попельский буквально подскочил, когда локомотив загудел и зашипел буквально в паре метрах от него. Мужчина остановился и ждал. Через мгновение поезд остановился, начали хлопать двери. Люди высаживались, таща за собой сундуки и чемоданы. Какая-то дама выглядывала носильщика и громко возмущалась его отсутствием. На перроне высились горы пакетов. Один только мужчина среднего роста, зато с массивной, квадратной фигурой, никакого багажа не имел, если не считать небольшого несессера, походившего на врачебную сумку. Он подошел к Попельскому, и они дружески поприветствовали один другого. Виделись они чуть более недели назад в Катовицах, тем не менее, увидав друг друга, очень обрадовались.
Попельский еще не успел нарадоваться Моком, когда увидал у того за спиной крепко сложенного мужчину. Он отодвинулся от своего немецкого коллеги и встретился взглядом еще с одним мужчиной – невысокого роста, с узким, лисьим лицом.
– Разрешите, господа, – Мок обернулся к двум незнакомцам. – Эдуард, это господа Корнелиус Вирт и Генрих Цупица, мои люди для специальных поручений.
Львов, вторник 9 мая 1939 года, полдень
Попельский закончил свой рассказ, отдышался и поднялся со стула. Леокадия, онемев, даже боялась глянуть на своего двоюродного брата. Никогда еще тот не вызывал в ней такого чувства страха. Она не могла поверить, что помимо хорошо ей известного мира – бриджа по вечерам в семействе асессора Станьчака, чтения по утрам, извечных домашних ритуалов, напеваемых Ганной молитв, пряничков-юрашков и кондитерской Залевского – существует совершенно иной мир: темные и скрытые районы садистов, сумасшедших, морально деформированных безумцев, предавшихся грубым желаниям; монстров, которые выгрызают у девственниц щеки или онанируют над кроваткой собственного ребенка. Ее кузен знал весь этот мир минотавров, содомитов и извращенцев, и даже пытался этот мир исправлять к лучшему. Словно Тесей входил он в лабиринт, но, в отличие от мифического героя, не возвращался в ореоле славы на родину с Ариадной, но в собственное ледовое одиночество, которое делил с чудаковатой старой девой.
Зазвонил телефон. Леокадия вздрогнула.








