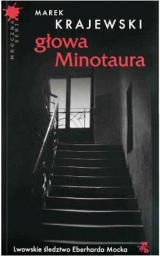
Текст книги "Голова Минотавра"
Автор книги: Марек Краевский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
– Муж – чи – ны, – прочитал Мок по слогам.
Это польское слово было одним из немногих, которые он знал хорошо. Оно всегда присутствовало там, где связанная с полом информация была весьма важной. К примеру, над входом в мужской туалет. Или же на папках-скоросшивателях в брачном бюро убитой Клементины Новоземской.
Львов, суббота 13 марта 1937 года, без четверти пять вечера
Попельский прекрасно был знаком с околицами улицы Жулиньского [189]189
Выше уже было, но напомню: теперь это улица Филатова – Прим. перевод.
[Закрыть]. Здесь он бывал довольно часто – в пивной ветеранов на улице Охронек [190]190
Теперь ул. Конышского – Интернет.
[Закрыть], где работали проститутки настолько старые, что львовская улица пела о них:
Какая-та манда
По залу катИтся,
Забыв о том, что
Бабичеку на зельц годится.
Попельский эту песенку помнил, и для него не было тайной – равно как и для любого львовянина – что Бабичек продавал конину и копчености самого худшего пошиба, так что сравнение кого-либо с изделиями этого мясника было самым страшным оскорблением. Хотя песенка еще звучала у него в ушах, когда комиссар очутился на Лычакове, думал он лишь о собственной операции, что должна была увенчать сложное и занявшее столько времени следствие.
Короткая улочка Жулиньского располагалась на окраине Лычакова и начиналась на Лычаковской [191]191
Название сохранилось, хотя правильнее надо писать «Лычакивська» – Прим. перевод.
[Закрыть], метрах в ста от костёла кларисок [192]192
Полное название – костел непорочного зачатия девы Марии кларисок. Клариски – первые католические монахини города, пришли во Львов в конце 15-го века, в 1460-м или 1482-м. Вообще-то, они были бернардинками, но в Речи Посполитой их звали кларисками, от Святой Клары, основавшей женский орден по уставу Франциска. Устава монахини придерживались строго, но свободно выходили в город и общались с родными и горожанами, воспитывали молодых шляхтянок. А когда в 1605 г. устав ужесточили, часть монахинь заявила, что они на такое не согласны и ушли из монастыря. В 1970 г. костёл отреставрировали и сделали там музей скульптуры. Но что там теперь?… (http://lokaloki.livejournal.com/67203.html – Кстати, рекомендую, прекрасная фото-экскурсия по Львову – Переводчик)
[Закрыть]. Угловыми столбами для улочки были две пивнушки – Эйнштейна и Кребса; кончалась же улочка на Пекарской [193]193
С ума сойти, историческое название тоже осталось! – Прим. перевод.
[Закрыть]. Застроена она была трех– и четырехэтажными домами, и на ней практически не было деревьев. Трехэтажный каменный дом, украшенный номерами 10 и 10а занимал самую средину. Дом был ужасно заброшен. То тут, то там штукатурка отпала, а домовладелец, похоже, сильно экономил на дворнике, поскольку перед подворотней валялись кухонные отходы, выброшенные из окна какой-то беззаботной хозяйкой или вредным ребенком. Попельский с отвращением раздвинул носком ботинка картофельные очистки и огрызки яблок, после чего вошел в ворота. Вслед за ним двинулись Стефан Цыган и Герман Кацнельсон. Попельский указал второму на выход во внутренний двор, откуда доносился стук выбивалки по ковру, сам же кивнул Цыгану, и они стали подниматься по лестнице. Полицейские проходили мимо дверей, из-за которых доносились отзвуки и запахи домашней субботней суеты: стук кастрюль, плеск воды, стекающей с тряпок в ведра, продирающий запах скипидарной пасты для полов. Кое-где к этому прибавлялся детский плач или же злой голос, подкрепленный спиртным.
Наша пара поднялась на третий этаж. Двери с номером 12 здесь нее было. Но Попельского, похоже, это не беспокоило. Он верил, что математик не мог спутать номера. Наверное, у этой квартиры вход был со двора. Попельский выглянул в окно. Кацнельсон, стоящий у перекладины для выбивания, заметил шефа и поднял палец в направлении чердака. Через пару минут они очутились в месте, указанном Кацнельсоном – на самой высшей дворовой галерее. Двери с номером 12 страшно повело, в нескольких местах между дверью и фрамугой были видны приличных размеров щели. Попельский постучал – не слишком громко. Тишина. Он повторил. Изнутри не доносилось даже самого тихого отзвука. Попельский положил ладонь на дверную рукоятку, нажал. Нет, дверь была закрыта. Он заглянул в одну из щелей. Темно.
– Пойди, Стефцю, пораспрашивай соседей, – шепнул он Цыгану, к которому, по причине молодого возраста, иногда обращался на "ты". – Быть может, у кого-то из них имеются ключи. Такое часто бывает, если в доме нет дворника. Притворись братом Потока. Сам он не должен знать, что им интересовалась полиция.
– Понял, пан комиссар.
Цыган повернулся и направился к соседней двери.
Попельский перешел на боковую, полукруглую лестничную клетку и наблюдал всю сцену оттуда. Он прекрасно понимал, что Цыган со своей внешностью киношного любовника не очень-то достоверен в качестве брата Потока, похожесть которого на обезьяну была всем известна. Только еще более недостоверным в этой роли был бы сам Попельский с его внешностью денди, или Кацнельсон – семитское происхождение которого было буквально написано на лице.
Двери открылись, и в них встал низкий мужчина в куртке, отсутствие зубов во рту у которого Попельский видел даже со своего расстояния.
– День добрый, – приподнял шляпу Цыган.
– Ну, добрый, добрый, – ответил мужчина, недоверчиво приглядываясь к незнакомцу.
– И не знаю, как просить прощения, зовут меня Казимир Поток, и я брат Здзиха Потока, вашего соседа. Его самого дома нет, а я приехал издалека. Не знаете, случаем, где он может быть?
– Он никогда не говорил, будто бы у него есть брат, – из-за плеча соседа выглянула какая-то совершенно не следящая за собой женщина.
– Так он вообще мало чего говорит, – рассмеялся Цыган.
– Что рехт, то рехт, – ответил на это сосед. – Ун ни байтлюйи за бардзу. Ну али не ма гу, ун выехал сегодни [194]194
Что правда, то правда. … Не сильно он разговорчивый. Но сейчас его нет, он сегодня уехал (балак)
[Закрыть], не говорил, куда… Только в следующее воскресенье вернется.
– Я и знал, что он должен сегодня уехать, но не знал, во сколько… Вот и не успел, – затужил Цыган. – Ну да ладно… В следующее воскресенье, говорите… Нехорошо… Думал, посижу с ним до отхода моего поезда в Перемышль. Мой поезд через два часа только…
– Ну то сядай пан у мни, – мужчина раскрыл дверь пошире. – Вели не мам, али для брата пана Здзислава чаю и луковой похлебки всегда найдем.
– Не хотелось бы доставлять пану хлопот… А вы, случаем, не знаете, у кого ключи от его квартиры… Мог бы эти два часика у него посидеть…
– О, ну я и дурак, – стукнул себя по лбу сосед. – У меня ключи. Пошли, пан, открою!
Сосед вернулся с ключами и открыл двери, ведущие в квартиру Потока. Туда он зашел вместе с Цыганом. Попельский слышал, как гостеприимный мужчина исполняет роль хозяина дома и предлагает гостю "устраиваться, шапокляк вешать" и "садиться у стола" [195]195
„rozpłaszczyć się, szapoklak wieszać” и „siadać przy stoli” (то есть, дословно, «можно прилечь», «при столе присесть»). Простой народ никогда не придерживался правил литературного языка, но это и не «балак» (но и не украинский (русинский) язык, как хотелось бы некоторым нашим «свидомитам») – Прим. перевод.
[Закрыть]. Через минуту он возвратился к себе в квартиру. Когда он уже закрывал, его жена еще успела сказать:
– А гостенёк этот слишком красив как для брата пана Здзислава.
– Может он сводный, – еще успел услышать Попельский, и дверь закрылась.
Сделалось тихо. Через минуту Попельский уже был в жилище Потока. То была обычная холостяцкая квартирка с темной, без окон кухней, отделенной от прихожей тонкой занавеской из клеенки, которая висела на проволоке. В комнате находилась железная кровать, стол, два стула и небольшой шкаф. Все эти предметы мебели были завалены листками, покрытыми сточками небрежных надписей. Кое-где чернила расползались на паршивой бумаге, так что записи делались совершенно нечитабельными. Но одно было несомненно: страницы были покрыты математическими или логическими уравнениями или действиями.
Если не считать всего этого научного беспорядка, жилище казалось даже уютным и прибранным. В кухне, помимо чугунной раковины, спиртовой печки, небольшой столешницы, закрепленной к стенке, шкафчика ждя посуды и продуктов и ведра для мусора, ничего больше и не было. Попельский проверил шкафчик и увидал там несколько хлебных крошек и баночку с остатками смальца. После этого он прошел в комнату и открыл одежный шкаф. Там обнаружил несколько грязных рубашек и отстежных воротничков. Скорее всего, у Потока имелся всего один костюм и одно пальто, и как раз в этой одежде он и уехал. На дне шкафа лежала толстая картонная папка. Попельский развязал тесемки и вынул оттуда стопку из приблизительно сотни листов, покрытых машинописным текстом. Это была работа, связанная с логикой, написанная по-французски. Попельский с изумлением отметил, что в ней множество цитат на древнегреческом языке. Инспектор интенсивно размышлял, на виске пульсировала жилка. Работа написана по-французски… по-французски… Он пролистал несколько страниц. Ни акцентирующие знаки, ни французские диактритические значки, ни аббревиатуры нигде не были вписаны вручную.
– Коллега, – вручил он папку Цыгану. – Отошлите это во Вроцлав, чтобы там проверили, не была ли работа напечатана на той самой машинке, которую нашли при убитой в Новый Год. Через час позвоните мне домой, я сообщу вам точный адрес.
– Так точно, – Цыган рассеянно обыскивал постель Потока. – Ой, нехорошо, нехорошо, – усмехнулся молодой полицейский, сунув руку под подушку. – Похоже, тут мы держим какие-то самые толстенькие непристойности…
Из-под подушки Цыган вытащил несколько свернутых фотографий. Его предположения не исполнились. Это были совсем даже не порнографические открытки. Игра теней и какие-то аксессуары типа веера, шпаги и сомбреро свидетельствовали о том, что снимки были сделаны в каком-то специализированном ателье. На всех фото было одно и то же лицо – снятое в профиль и анфас: с оскаленными зубами, с губами в куриную гузку, с раскрытым ртом.
– Пан комиссар, – Цыган уже не смеялся, – а его и вправду красавцем не назовешь.
Львов, суббота 20 марта 1937 года, девять часов утра
Войдя в подворотню, Рита оказалась на границе света и тени. Граница та – исключительно, неестественно резкая – рассекала ее лицо по линии носа. Свет падал из потолочного фонаря, вырезанного прямо в крыше и высящегося над крутой спиралью лестницы. Так она и стояла: неподвижно выпрямившись, между белым и ярким утренним светом и влажным отсветом мрака. Внезапно ее лицо на сантиметр переместилось вперед, мышцы слегка расслабились, подбородок опал, а веки начали замыкаться. Теперь она выглядела так, будто ее неожиданно охватила сонливость. Из-под одной веки выполз и начал расходиться по всей щеке раздвоенный язык крови. В этой крови была желчь и остатки глазного яблока. Тело девушки рухнуло на доски пола, но вот голова осталась на своем месте, разве что только чуточку заколыхалась. Она висела в воздухе, а какая-то непонятная рука держала в сжатой ладони обе косы Риты.
Из уст Попельского вырвался крик, похожий одновременно на плач, кашель и булькание рвоты. Комиссар уселся в постели и положил руку на грудь под шелковой пижамой. Он чувствовал, как под кожей бьется его сердце. Попельский глянул на собственную спальню, словно видел ее впервые в жизни. Прошло какое-то время, прежде чем он, в конце концов, перенесся из темной подворотни, в которой Рите отрубили голову, в собственное жилище рядом с Иезуитским Садом. Несмотря на затянутые тяжелые шторы, в комнате было довольно светло. Снаружи должно было светить яркое солнце, радующее всех тех, кто жаждал весны, у него же бередившее какие-то эпилептические нервы в мозгу. Комиссар глянул на часы. Только девять утра.
– Почему я проснулся? – спросил он сам себя.
Его организм, за много лет привыкший к строго соблюдаемым периодам отдыха, практически никогда не бунтовал в форме бессонницы или неожиданных пробуждений. В пять утра Попельский всегда погружался в каменное беспамятство, а ровно в полдень поднимал голову, болящую от сна и табачной духоты в спальне. Иногда он страдал от болей по причине ночных кошмаров, а точнее – утренних. Все эти наваждения перекатывались через уснувший разум Попельского, совершенно не делая ему ничего плохого, а первая же утренняя папироса прекрасно уничтожала всякую память о них. Правда, несколько раз в жизни ему случалось просыпаться утром по причине таких снов. И эти несколько случаев неожиданных пробуждений научили Попельского относиться к ночным кошмарам как к предупреждениям. Так было во время ссылки в России, когда банда мужиков – пьяных, бородатых и ошалевших от выпитого спирта – ворвалась на постоялый двор, в котором он сам отдыхал после карточной ночи, и рыжими от крови топорами начала выбивать в головах спящих царских офицеров особенные клинья. Так было в венские времена, когда обезумевший шахматист, проигравший ему в ходе партии собственную любовницу, ворвался в его несчастную студенческую комнатушку, вздымая в голых руках лист оконного стекла словно военный топор. Так же было и тогда, когда ему было лет десять, и он спал без задних ног в доме своей тетки, когда появился посланец с сообщением об отце, которого татарские бандиты забили цепами под Киевом [196]196
Средина 90-х годов XIX века… Какие татарские бандиты под Киевом? Да еще с цепами… Никогда татары – ни волжские, ни крымские – не имели дела с подобным сельхозинвентарем – Прим. перевод.
[Закрыть], и о матери, повесившейся на следующее же утро на киевском вокзале.
Подобного рода сны всегда были вестниками приближающегося зла. Чаще всего в них участвовали некие звери, которые выходили из углов комнаты и, крутя длинными мордами, усаживались у него на груди. На сей же раз, чего никогда еще не случалось, ему приснилось известное ему лицо: в кошмаре появилась Рита. Склеившиеся волосы, отделенная от туловища голова, выковыряный глаз.
Попельский сорвался с кровати и начал одеваться. Он плюнул на одежду, которую приготовил – как и всегда перед отходом ко сну – на отдельной стойке. Он даже не глянул на сорочку и пиджак от костюма, к которым уже был подобран соответствующий галстук. Чтобы сэкономить время, которое так было бы потрачено на завязывание галстука и застегивание запонок, он набросил на пижаму верхнюю часть парадного мундира и застегнул его под самой шеей. С ботинками в руках и пальто, перевешенным через плечо, а так же в солнцезащитных очках комиссар выскочил из квартиры, забыв лишь шляпу.
Еще слыша возмущенные жалобы служанки и изумленные возгласы, издаваемые Леокадией, он вскочил в стоящий под домом "шевроле" и быстро поехал по Крашевского, после чего свернул вправо, на Словацкого. Молнией проехал мимо здания Главного Почтамта и Оссолиниума и свернул в Хоронжчызны. Люди, пьющие воду у старого фонтана на площади Домбровского, пялились на автомобиль с таким изумлением, словно тот был какой-то фантастической повозкой. На улице Сокола Попельский дал сигнал группе молодых людей, мешавших проезду, которые явно спешили в гимнастический зал. Молодежь разбежалась по сторонам с громкими и не очень-то доброжелательными комментариями. После этого Попельский свернул налево, на улицу Зиморовича, и увидал перед собой глыбу Товарной Биржи с бюстом Уейского [197]197
Корнелий Уейский (Kornel Ujejski) (род. 12.09.1823 г. в Беремянах около Язловца – ум. 19.09.1897 г. в Павлове возле Львова) – польский поэт, общественный публицист, часто называемый «последним великим поэтом-романтиком». Бюст, о котором упоминает автор, был снят после того, как во Львов вошла Советская Армия. В 50-е годы прошлого века он был передан Польше. Реставрирован и выставлен только 12 декабря 2006 года в Щецине. – Википедия
[Закрыть]. По Академической он промчал в один миг, обогнав фургон с углем. Проехал мимо «Шотландской» и памятника Фредры. И уже через секунду он тормозил на Зеленой 8, у гимназии Королевы Ядвиги [198]198
Давайте попытаемся восстановить маршрут в современных реалиях: ул. Софии Крушельницкой – ул Словацкого – ул. Университетская – ул. Чайковского – площа Евгэна Маланюка – ул. Ковжуна – ул. Дж. Дудаева – ул. Зеленая (Зэлэна). Я понимаю, что делаю лишнюю работу, но, вдруг, кто-то пожелает воспроизвести эту поездку по карте или даже в реальности… – Прим. перевод.
[Закрыть].
Львов, суббота 20 марта 1937 года, половина десятого утра
Директорша женской гимназии Королевы Ядвиги, пани Людмила Мадлерова, комиссара Эдварда Попельского не любила. Она познакомилась с ним в ходе нескольких неприятных бесед, которые начальнице пришлось провести с полицейским по причине его несносной дочери. Тогда он сидел хмурый и задумчивый, как будто отсутствовал духом, и пани директор прямо чувствовала, как нарастает в нем бешенство. В течение всей своей педагогической карьеры подобную реакцию она встречала уже не раз, но у Попельского – и она воспринимала это безошибочно – это бешенство не было направлено против собственной дочки, он не обещало справедливой расправы с обнаглевшей девицей, о, нет, это бешенство, эта ненависть была направлена против нее самой, против заслуженной воспитательницы и учительницы, которая лучшие свои годы отдала воспитанию девушек и знала все их волнения и тайны гораздо лучше, чем свои собственные секреты! Попельский слушал все в кажущемся спокойствии, а потом быстро выходил из кабинета. Через окно пани директор видела его крепкую фигуру, его котелок и снежно-белое кашне. Тогда он, словно дикий зверь, кружил по небольшой площади перед протестантской церковью святой Урсулы, окруженной деревьями и втиснутой между двумя доходными домами. Окутанный облаком табачного дыма, он возбуждал молоденькую преподавательницу рисования, панну Хелену Майеровну, которую пани директор один раз уже поймала с поличным, когда та слишком уж внимательно приглядывалась к полицейскому.
– Какой могучий мужчина! – сказала тогда восхищенно панна Майеровна, думая, что рядом с ней стоит приятельница, преподающая гимнастику. – Наверняка обдумывает какое-то серьезное уголовное дело!
– Нет, пани коллега, – ответила пани директор, – вогнав свою сотрудницу в краску. – Он обдумывает, как бы подложить под нашу школу бомбу. И лучше всего именно тогда, когда я буду здесь находиться!
Попельский стоял перед директоршей, небритый, в темных очках и в пальто, застегнутом под самую шею, несмотря на весеннее тепло. Пани Мадлерова вспоминала все то бесславие, которым комиссар пользовался – все те сплетни о его грубости и бесчисленных связях с женщинами. Ей это не казалось чем-то слишком волнующим. Глядя на измученное лицо полицейского, на маскирующие глаза очки, она видела в этих слухах и сплетнях – если в них была какая-то доля правды – скорее, признак жизненной неустроенности, одиночества…
– Хорошо, что вы пришли, пан комиссар, – жестко заявила женщина. – Ваша дочь, как раз сегодня, позволила себе прогулять занятия! Ее воспитатель, пан профессор Пакликовский, буквально только что сообщил мне, что видел ее на улице Пилсудского [199]199
Автор напоминает, сейчас это ул. Ивана Франко.
[Закрыть]! А вместе с ней была…
Попельский повел себя совершенно по-другому, чем обычно. До сих пор он всегда выслушивал педагогические тирады пани директор до самого конца. До сих пор, уходя, он всегда говорил: "До свидания!". Ну, и никогда до сих пор он так сильно не хлопал дверью…
Львов, суббота 20 марта 1937 года, без четверти десять утра
Если бы Рита Попельская должна была откровенно сообщить, что доставляет ей столь же огромное удовольствие, как и катание на лыжах, она ответила бы: «прогулы занятий весной». Никогда не чувствовала она себя столь хорошо, когда ей удавалось уйти от бдительных глаз учителей, швейцара или других гимназических преследователей. Когда она сбегала из гимназии и через четверть часа исчезала в Стрыйском Парке, ее распирала радость, а уже потом, укрывшись среди кустов, она могла делиться своими секретами с какой-нибудь подругой по преступлению. До сих пор то была Ядзя Вайхендлерувна, только Рита сильно остыла к ней, заметив, что когда она рассказывала о своих спорах с отцом, Ядзя постоянно держит сторону «пана комиссара». И уже какое-то время поверенной ее тайн и сообщницей по побегам с занятий стала Беата Захаркевич, высокая и не очень-то красивая девушка, не очень-то лестно называемая «Тычкой».
Первый день весны [200]200
Имеется в виду наступление астрономической (или, если хотите, астрологической) весны – 21 марта, когда Солнце вступает в знак Овна – Прим. перевод.
[Закрыть]немногочисленные и только наиболее отважные ученики почитали прогулами. В этом году весна начиналась в воскресенье. Но Рита посчитала, что имеет право этот день отпраздновать раньше, и уговорила поучаствовать в том же празднестве свою новую приятельницу. Поначалу Тычка упиралась, но сдалась, как только Рита пообещала открыть ей величайшую тайну своей жизни.
Девушки подготовились к мероприятию очень тщательно. Рита свистнула у отца четыре папиросы. Зато Тычка из большой бутыли с вином, стоящей дома в подвале, отлила шкалик. Обе в этот день взяли с собой в школу больше, чем обычно, еды. Несколькими днями ранее Рита настучала на пишущей машинке фальшивый документ, дающий ей право пребывать этим днем за пределами учебного заведения под предлогом организации экскурсии класса. Документ они совместно оснастили поддельной подписью своего куратора, профессора Пакликовского, и, снабженные всем перечисленным выше, встретились до восьми утра на Стрыйском Базаре. Оттуда они быстро дошли до парка. Чтобы избежать слишком любопытствующих взглядов у главного входа, они поднялись в самый верх Стрыйской [201]201
Вы правы – название осталось тем же самым – Прим. перевод.
[Закрыть]улицы и в парк прошли через западный вхлд, мимо домика садовника; затем спустились вниз и пробежали мимо памятника Килиньскому [202]202
Ян Килиньский (Jan Kiliński) (род. в 1760 г. в Тржмешне, в Великопольске, ум. 28 января 1919 г. в Варшаве) – один из полковников костюшковского восстания, участник нескольких заговоров повстанцев; по профессии – сапожник. Кстати, Стрыйский Парк во Львове поначалу назывался Парком Килиньского – Википедия.
[Закрыть]. Затем снова забрались вверх, чтобы через пару минут найти укрытие в кустах. Хотя погода была превосходной и по-настоящему весенней, среди парковых кустов и одичавших аллеек никого не было. Обе девицы, никем не обеспокоенные, уселись на упавшем дереве, съели по булке с ветчиной, выкурили по папиросе и выпили по приличному глотку вина. Только напрасно Тычка сразу же допрашивалась открыть ей тайну. Рита не уступала. Она весьма решительно заявила, что все расскажет подруге по дороге в одно секретное место, где ей нужно быть сегодня в десять. У Тычки от любопытства округлились глаза, но она решила потерпеть.
Рита не могла выдать ей тайну в трамвае "тройке", на котором они ехали в сторону Лычакова, поскольку в нем было слишком много людей. Не могла она выдать ее и на Пекарской, поскольку в этом ей мешали студенты близлежащего лечебного факультета Университета, которые в этот чудный день, похоже, массово сорвались с лекций, фланируя по тротуарам и цепляясь ко всем девушкам. Только лишь когда они обе вошли в улицу Жулиньского, вокруг них сделалось пусто. Солнце как-то спряталось за облаками и лишь бледный отблеск его оседал на окнах и балконах. Девицы шли быстро, держась под руки, постоянно разглядывались в поисках возможных шпиков и обменивались шепотами и вздохами.
– И, знаешь, я написала ему до востребования.
– И что? И что?
– В том письме я проявила прохладную заинтересованность его особой. Написала вот так, прямо: "Пан, похоже, слишком воображает по отношению собственных глаз. Можете соблазнять других девушек, но не меня".
– А что он на это?
– В последующем письме, неделю назад, он вновь вспомнил о красоте своих глаз. Похоже, он слишком самоуверен. Сама посуди, какой мужчина послал бы женщине фотографию с подписью, чтобы на снимке был виден его торс…
– Да ты что?…
– Торс, торс, моя Беаточка, что тебя так удивляет? Что, никогда не видела мужского торса?
– Ну, видела. – Тычка надулась. – Ладно, говори же, что он тебе на это ответил.
– Он написал, что предлагает мне встретиться, понятное дело, в публичном месте, где я бы смогла – ты только представь! – где я могла бы восхищаться ими.
– Что, его глазами? Или торсом?
– Ясное дело – не публичным местом!
Они замолчали на какое-то время, поскольку все заглушили окрики уличного торговца, который, навьюченный мешками, входил как раз в какую-то из подворотен, вопя во все горло; "Ганделе! Ганделе!"
– И где же находится это публичное место?
Рита остановилась и с усмешкой глянула на подружку, чувствуя горячую заинтересованность той.
– Мы как раз туда и направляемся, глупенькая.
– Что? Мы туда идем?
– Не хочешь? – Рита сделалась серьезной, указала на внутренний карман своего пальтеца. – Здесь у меня адрес. Все его письма я ношу с собой, чтобы мой старик их не обнаружил. А то публичное место – это бильярдный клуб… Я хочу, чтобы ты меня сопровождала… Понятное дело, не потому, что боюсь идти одна, но чтобы впоследствии мы могли обменяться замечаниями о тех его, якобы, прекрасных глазах…
– Благодарю тебя, дорогая! – Тычка поцеловала Риту в зарумянившиеся щечки. – Стократное тебе спасибо за твое доверие!
– Тихо… – прошипела Рита. – Давай лучше узнаем, который час. Потому что мы уже почти на месте. Но вначале осмотрим этот вот дом.
Они прошли подъезд, украшенный номером 10, затем номером 10а, и через мгновение очутились на углу Лычаковской, затем вошли в пивную Кребса. По причине закрытых ставен, здесь было совершенно темно. Девчонки увидали лишь какого-то выпивоху и бармена с таким мрачным и хмурым лицом, что он мог бы стать главным отрицательным характером городских баллад. Пьяница, который, похоже, пересолил с лечением похмелья, покачивался над рюмкой водки и пытался укусить селедку, которую двумя пальцами держал за хвост.
– А чегож ту таки панюнци соби у нас виншуйю? – мощным голосом затрубил бармен.
– Мы хотели бы узнать, который сейчас час, – сказала Рита, более смелая, по сравнению с Тычкой.
– И полночь будет, а пока что скоро десять утра, – рассмеялся бармен.
– Спасибо, – вежливо присела в книксене Рита.
На улице было пусто. Девчонки вышли из пивной, после чего Рита затащила подружку в ближайшую подворотню.
– Ладно, Беатуля, дай-ка еще вина!
– Уже даю! – ответила Тычка.
Они выпили по приличному глотку. Щуря глаза, они выглянули из подворотни и осмотрелись по улице. Все так же было пусто, лишь в нескольких метрах у обочины как раз притормаживал черный автомобиль.
– Рита, так какой то дом, какой? – Беата даже побледнела от возбуждения. – Тот, перед которым остановилось это вот авто?
– Нет! – Теперь уже побледнела и Рита. Очень крепко она схватила подружку за локоть. – Нам нужно уходить. Немедленно! Через двор!
– То есть как это: уходить? Сейчас? Ты мне уже не веришь? – Со слезами на глазах Тычка плелась за идущей Ритой, направлявшейся к заднему выходу со дворика.
Догнала она ее только через пару десятков метров. Удивленный их появлением торговец перестал выкрикивать свое "Ганделе!" и уставился на обеих девушек.
– Как ты могла? – ревела Беата. – Знаешь, как это: чувствовать себя, когда тебя отталкивают, когда тобой презирают? А я так надеялась!…
– За рулем того авто был мой старик, ты понимаешь? – Глаза Риты были переполнены яростью. – Не знаю, как он открыл мою тайну, правда, для него это мелочь! – Она фыркнула. – Для него, аса польской полиции…
– Послушай, Рита. – Беата вдруг успокоилась. – А может, это твой папа приехал за тем мужчиной? Он же сам писал тебе в письме, что за ним охотилась полиция нескольких стран. Быть может, твой папа как раз его разыскивает?
– О Боже, Боже! – Рита сунула свои длинные, худощавые пальцы себе в волосы. – Это может быть правдой! Я обязана это видеть! Пошли, возвращаемся в ту пивную, будем смотреть через витрину!
– Так ведь там уже какой-то пьяница и тот страшный бармен!
– Да не бойся, в случае чего…
– Ты позовешь своего папу?
Рита долго глядела на Беату, словно желая собственным взглядом прожечь ей глаза.
– Даже и не думай так! – медленно произнесла она. – Никогда не попрошу помощи у того гада, что следит за мной на каждом шагу! Который превратил мою жизнь в ад! Ты знаешь, что из-за него я не буду играть в "Медее"? Каспшак забрал у меня роль и дал ее Ядзьке! Когда же я спросила у него, почему так, он ответил, чтобы я обо всем расспросила своего папашку! Ты понимаешь? Неужто ты думаешь, что я хоть что-нибудь у него попрошу?!
Львов, суббота 20 марта 1937 года, пять минут одиннадцатого утра
Заремба услышал шаги на лестнице. Он приложил глаз к маленькой дырочек в занавеске, повешенной в двери сортира. На галерею медленно поднимался мужчина в шляпе и с рюкзаком. Одет он был в поношенный и великоватый плащ. Мужчина прошел мимо сортира, внимательно глянул на листок с надписью «Авария» и, волоча ноги, потащился на верхний этаж. Он был молодым, но вот шел словно старик. Он был худощавым, но сопел будто толстяк. Он был человеком, но выглядел как будто зверь. Заремба, переодетый в сантехника, уселся на закрытом крышкой унитазе и полой рабочего халата оттер лицо от пота. Он услышал скрежет ключа в замке и треск захлопываемой двери. Никаких сомнений не оставалось. То был Поток. Он как раз вошел к себе в квартиру.
Полицейский пытался собраться с мыслями. Облава на Потока должна была состояться только завтра, ведь сосед явно предсказывал его возвращение на воскресенье. Тем временем, Поток вернулся на день раньше. У Зарембы похолодело в животе при мысли, что бы случилось, если бы Поток вернулся к себе домой полчаса назад, когда он сам, плюнув на все средства предосторожности, выскочил за куревом.
Если что и должно было провалиться в мастерском плане полиции, то это могло наступить лишь по причине человеческой ошибки. Ведь все средства предосторожности были соблюдены. Сортир был приготовлен в качестве наблюдательного пункта, а снабженный телефоном ближайший галантерейный магазин Вассермана на углу Жулиньского и Лычаковской являлся пунктом связи с полицейским управлением. Чтобы обеспечить быструю коммуникацию, на телефонной станции провели специальную линию между лавкой и управлением. Западня, расставленная на Потока в его доме, должна была сработать обязательно. Чтобы вонь не мешала оперативникам в наблюдении за квартирой подозреваемого, туалет закрыли под предлогом сантехнического ремонта. До воскресенья за квартирой Потока днем и ночью должен был присматривать один полицейский, проверяя документы и допрашивая каждого, кто пришел бы туда. На основании всех этих сообщений, полицейские хотели узнать о Потоке чего-нибудь такое, что дало бы возможность его ареста, если бы тот каким-то шестым чувством почуял облаву и в квартиру не вернулся. В воскресенье все закончится. В четыре утра на Жулиньского все должно было быть перекрыто полицейскими. И среди них должны были присутствовать все четыре функционера следственной группы да еще дюжина тайных агентов из IV комиссариата на Курковой [203]203
Сейчас ул. Лысенко.
[Закрыть]. Шесть сотрудников в гражданском должны были дежурить на вокзале. А тут – на тебе! – Поток приехал на день раньше.
Заремба потихоньку успокаивался и размышлял над тем, что ему необходимо сделать. Он не мог покинуть свой наблюдательный пункт и идти звонить из магазина Вассермана, поскольку это было связано с огромным риском.
За это время Поток мог пойти к соседу, узнать, что у него "гостил" брат – кто его знает, а был ли у него вообще брат – и сразу же смыться. Зарембе оставалось либо ожидать сменщика, которым в половину одиннадцатого должен был стать Кацнельсон, либо арестовать Минотавра самому. Он решился на второе. Нащупал под мышкой "браунинг" и начал снимать халат сантехника.
И вот тогда-то он и услышал шаги на лестнице. На галерею поднялся Попельский. Комиссар был небрит и толком не одет. На шее у него разливалось какое-то малиновое пятно. Звремба открыл, и Попельский вскользнул в сортир.
– Эдзьо [204]204
Дружеский, уменьшительный звательный падеж от Эдуард, Эдвард. Ну не стану же я писать: «Эдичек»… – Прим. перевод.
[Закрыть], он на месте, это он – Мино… – горячечно начал Заремба, совершенно позабыв, что его приятель не терпит подобного обращения.
– Погоди, – перебил его Попельский. – Говори, где ты видел Риту пару дней назад, когда она вышла из костёла; только быстро, я видел сон, на занятиях ее нет, я обязан ее найти…
– Да перестань ты балабонить, – шепот Зарембы прозвучал словно приказующий крик. – Поток у себя.
– Пошли. – Попельский тут же успокоился, – разве что малиновое пятно на шее начало увеличиваться. – Пошли за этим животным.
Они вышли из туалета. Заремба по дороге застегивал халат. Без шума они встали у дверей с номером "12". Заремба постучал.
– Кто там? – раздался из квартиры странный, писклявый голос.
– Та водопроводчик, – ответил Заремба. – В сортире оно чего-то попортилось, надо у вас трубы проверить.
Двери открывались медленно. В щели появился глаз: маленький, круглый, втиснутый в самую глубину глазницы. Сверху глаз был обрамлен могучей бровью, клочки волос с которой свисали над напухшим, красным веком. Чуть ниже, на щеке были видна жесткая щетина, среди которой расцветали чирьи со следами белого гноя. Глаз завращался в глазнице и заметил Попельского с браунингом.
Комиссар с боку врезал стволом в этот глаз. Совершенно точно не попал, но металл рассек кожу на лбу. Поток обеими руками схватился за рану. Из-под пальцев брызнула кровь. Точно так же, как из глаза Риты в сонном кошмаре. Попельский отпихнул Зарембу и вскочил в квартиру. Поток пытался убегать, мечась между узких стенок прихожей, брызгая кровью. Комиссар поскользнулся на частично оборванной занавеске, отделявшей кухню от прихожей. Поток был уже на пороге. Он повернулся и глянул на Попельского. Усмехнулся. Кровь стекала у него по носу и по щекам. Комиссар увидел окровавленные десна и клыки. Поток щелкал ими, как бы желая что-то продемонстрировать полицейскому. Словно на следственном эксперименте. Именно так я кусал и грыз свои жертвы, так я продирался сквозь их ткани, так жевал студень их щек.








