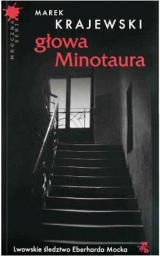
Текст книги "Голова Минотавра"
Автор книги: Марек Краевский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
МАРЕК КРАЕВСКИЙ
ГОЛОВА МИНОТАВРА
Моему покойному дяде, Михалу Облонку, который первый рассказал мне о Львове своей молодости
ЧАСТЬ I – ВХОД В ЛАБИРИНТ
Мне знаком один лабиринт (…) состоящий из одной прямой линии. На этой линии затерялось уже столько философов, что в нем с легкостью способен затеряться и обычный детектив.
Хорхе Луис Борхес «Смерть и компас»
Львов, вторник 9 мая 1939 года, пять часов утра
Над Старым Рынком вставал рассвет. Розовое сияние врывалось в просветы между халабудами, где бабы уже начали ставить свои котелки с борщом и варениками, оно же оседало на банках с молоком, которые еврей-торговец тащил на двуколке с молокозавода Эсфири Фиш, и отражалось на козырьках фуражек батяров [1]1
В настоящее время львовские батяры обрели «эстетико-исторически-краеведческий» флер (например, см. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B8). Издаются книжки о них самих, об их жаргоне, диски и кассеты с их песнями; заметно желание львовян идеализировать батяров. Автор изображает батяров такими, какими они и были: бездельниками, шалопаями, очень часто – уголовниками. – Прим. перевод.
[Закрыть], что стояли в подворотнях и не могли решиться, то ли идти спать, то ли ждать открытия ближайшей пивной, где они могли бы бомбой пива [2]2
Бутылка объемом 0,8–1,0 л. Очень часто в таких продавали шампанские или игристые вина – Прим. перевод.
[Закрыть]успокоить жгучую похмельную жажду. Отблеск зари окрасил и платья двух девиц, которые – не дождавшись за всю ночь ни одного клиента – молча возвращались в свои обиталища на Мостках, чтобы затеряться в домах на Миколаевской и Смерековой [3]3
Ныне улицы: Фредро, Пыльныкарская, Смерековая. Кстати, в чтении книги весьма может помочь сайт с довоенными фотографиями Львова: http://alan.ucoz.lv/fotos/framtab01.htm, за что автору сайта огромное спасибо!!! А еще – сайт с довоенными и современными названиями львовских улиц: http://www.lwow.com.pl/ulice/ulice.html. – Еще: в Сети мелькнула информация, будто бы при написании этой книги Мареку Краевскому была оказана существенная финансовая помощь от львовской мэрии. Я считаю – очень нужные вложения! Подобного рода книги, рассказывающие пускай в чем-то и приукрашенную историю отношений наших двух народов – польского и украинского – ой как нужны! Опять же, если свои, украинские писатели не способны любовно рассказать о городе, пускай это качественно и профессионально сделает писатель иностранный! И за это ему стоит заплатить! – Прим. перевод.
[Закрыть], где в нищих квартирах снимали кровать за занавеской. Мужчинам, спешащим через Высокий Замок на фабрику водок Бачевского, розовое сияние било прямо в глаза, только они не обращали на него внимания, уставившись на мощеную мостовую и ускоряя шаг, а от их быстрого шага шелестели бумажные пакеты с хлебом и луком, которые они держали в руках. Никто из львовских обитателей улиц и рабочих не восхищался розовоперстой Эос, очерчивающей сейчас треугольные крыши больницы Милосердных Сестер, никто не размышлял над цикличностью природных явлений, никто не анализировал тончайших изменений света и цветовых нюансов.
Подкомиссар Францишек Пирожек, точно так же, как и его земляки, был далек от восхищений Гомера. Проезжая по улице Казимировской [4]4
Ныне: ул. Городоцкая (Городоцька – укр.) – Прим. автора
[Закрыть]на новеньком полицейском «шевроле», он с напряженным вниманием глядел на жителей этого рабочего квартала. Он искал в них признаков какого-то особенного беспокойства, высматривал группки живо дискутирующих людей, даже сбившихся в опасные кучи и вооруженных какими-нибудь орудиями. Таких, которые сами бы желали линчевать преступника. Только никого и ничего подобного ранее – ни на улице Коперника, ни на улице Легионов [5]5
Улица Коперника с этим же именем и осталась; ул. Легионов – это часть проспекта Свободы – Прим. автора.
[Закрыть]– он не замечал. Не видел и здесь. Постепенно он успокаивался, а его вздохи облегчения делались более громкими. Никаких признаков волнений видно не было. "Какое же это счастье, – подумал полицейский, проехав мимо Большого Театра и останавливаясь на Жолкевской 4 [6]6
Ныне: ул. Богдана Хмельницкого – Прим. автора
[Закрыть], что весь этот ужас обнаружил фармацевт, разумный, рациональный человек, который не мечется по двору и не визжит, заставляя всех жильцов вскакивать с постелей!"
Пирожек вышел из автомобиля, огляделся по сторонам и почувствовал, как стиснулось в горле. Вид постового перед аптекой не ушел внимания окрестных жителей, которые стояли вокруг и громко, можно сказать, даже нагло и настырно, размышляли над столь ранним присутствием стража закона в этом месте. Тот же сурово поглядывал на них из-под козырька своей фуражки, похлопывая дубинкой по штанине. В этом районе полицейские уважением не пользовались. Бывали времена, когда защитникам закона нужно было ходить по самой средине улицы, чтобы кто-нибудь не затащил их в подворотню и не избил. Теперь же постовой из третьего комиссариата обрадовался, увидав Пирожека, отдал ему салют и пропустил в аптеку. Подкомиссар знал, куда идти. Он направился за стойку, на которой стоял уже устаревший телефонный аппарат, прошел через темную прихожую, споткнулся о ящик, в котором лежали заржавевшие аптечные весы, и вошел на кухню квартиры на задах, которую занимал аптекарь с семейством.
Если сам аптекарь, пан Адольф Ашкенази, вел себя – как и предполагал Пирожек – очень спокойно, то в его жене не было ни капельки его хладнокровия. Она сидела за столом, втискивая худые пальцы в папильотки, покрывающие ее череп словно лыжная шапочка и громко выло, тряся при этом головой. Муж обнимал ее рукой, подсовывая под губы стакан с настоем валерианы, как можно было понять по запаху. На огне подпрыгивал чайник. Пар покрыл окна, что делало невозможным подглядывание какому-то зеваке, которого постовой на улице не успел прогнать. Духота буквально давила. Пирожек снял шляпу и вытер лоб. Пани Ашкенази вглядывалась в него с таким испугом, словно бы увидала дьявола, а не румяного, полного и возбуждающего всеобщее доверие полицейского чиновника. Пирожек пробормотал слова приветствия и воспроизвел по памяти телефонный разговор, который провел с паном Ашкенази всего лишь полчаса назад. Тогда аптекарь рассказал обо всем очень даже спокойно и подробно. То есть, Пирожеку не нужно было переспрашивать его об одном и том же, опять же, в присутствии перепуганной жены и приклеившегося к стеклу любопытного зеваки.
– Где выход во двор? – спросил Пирожек.
– Через сени и до конца, пан пулицай [7]7
Попытка передать львовский говор. Автор даже поместил в конце книги словарик львовских выражений и сленга – Прим. перевод.
[Закрыть], – совершенно неожиданно, ответила ему пани Ашкенази.
Пирожек, не размышляя над неожиданной активностью аптекарши, снова направился в темные сени. Из-за находящихся рядом дверей он слышал громкое похрапывание. "Наверняка маленькие дети, – подумалось ему. – У них всегда крепкий сон, которого не способна прервать даже разоряющаяся вокруг смерть".
Грязный дворик был застроен с трех сторон. От улицы его отделял железный забор, доступ к которому преграждали постовые. Вокруг же стояли трехэтажные ободранные домики с внутренними галереями. К счастью, большинство жителей еще спало. Лишь на втором этаже на стульчике сидела седая женщина и не спускала глаз с пржодовника [8]8
Przodownik (пол.) В довоенной польской полиции соответствовал старшему сержанту. – Прим. перевод.
[Закрыть]Юзефа Дулапы, который стоял рядом с уличным туалетом и курил. «Я вышел по надобности, – воспроизводил про себя Пирожек телефонное донесение Ашкенази, и нашел в сортире нечто ужасное».
– День добрый, пан комиссар, – сказал Дулапа и затоптал окурок сапогом.
– Вы что творите, Дулапа! – крикнул Пирожек, что даже старушка на галерее подскочила. – Это место преступления! Поплюйте на окурок и в карман! Не затирайте мне следов, холера ясна!
– Так точно! – ответил Дулапа и начал разыскивать окурок под ногами.
– Где это находится? – Уже сказав это, Пирожек почувствовал неприятный осадок. Не следует о мертвом человеке говорить "это". – Ну, где тело? – поправился он. – Вы его, случаем, не трогали? Покажи пальцем и давай сюда фонарь.
– В сортире, так что, пан комиссар, вы там осторожнее. Там бебехи валяются, – беспокойно шепнул пржодовник, а затем, отдавая фонарь, прибавил еще тише: – Пан комиссар, вы без обид, только дело-то страшное. В самый раз для комиссара Попельского.
Пирожек не обиделся. Он внимательно осмотрел сырую, черную землю, чтобы не затоптать какие-нибудь следы, затем подошел к туалету и открыл дверь. Смрад перехватил дыхание. Картина же, открывшаяся в розовом свете рассвета, затуманила четкость зрения. Краем глаза комиссар заметил, как старушка сильно высовывается за перила, пытаясь заглянуть в глубину толчка. Он захлопнул дверь.
– Дулапа, – сказал он, втягивая в легкие испорченный воздух, – уберите-ка ту вон старуху.
Полицейский поправил заколку, удерживающую воротник, и с грозной миной направился к лестнице.
– Ну, живо, – крикнул он женщине, – домой, в хавиру, мигом!
– Человек уже и на двор сходить не может! – взвизгнула та, но послушно спряталась в жилище, предусмотрительно оставляя стул на галерее.
Пирожек еще раз открыл дверь и осветил лежащую внутри бледную массу. Тельце ребенка было изогнуто таким образом, словно кто-то пытался засунуть его головку под колено. Волосы на голове были редкие и склеившиеся. Кожа щек вздувалась под напором опухлости. На самом пороге лежали кишки, скользкую поверхность которых покрывали нерегулярные ручейки крови. Все тело было покрыто струпьями. У подкомиссара появилось чувство, будто гортань превратилась в заблокировавшую дыхание пробку. Он оперся на открытую дверь. Никогда еще не доводилось ему видеть что-либо подобное. Болезненное, покрытое коростой, поломанное дитя. На глаз, года три – не больше. Он выпрямился, сплюнул и еще раз поглядел на тело. То были не струпья.
То были колотые раны.
Пирожек захлопнул дверь туалета. Дулапа глядел на него со смесью беспокойства и любопытства. Издали, со стороны Грудецкой, зазвонил первый трамвай. Над Львовом вставал чудный майский день.
– Вы правы, Дулапа, – подкомиссар Пирожек произнес это очень медленно. – Дело в самый раз для Попельского.
Львов, вторник 9 мая 1939 года, четверть одиннадцатого утра
Леокадия Тхоржницкая вышла на балкон своей квартиры на Крашевского 3 [9]9
Ныне: улица Соломии Крушельницкой – Прим. автора
[Закрыть]и какое-то время присматривалась к фрагменту Иезуитского Сада. Делала она это ежедневно, поскольку обожала ту подкрепляющую уверенность, что вокруг нее ничто не меняется и занимает надлежащее себе место: каштаны, буки, дубы, памятник Агенора Голуховского и статуя вазы с аллегориями жизни. Но в этот день, по сравнению с предыдущими неделями, кое-какая перемена случилась. Зацвели каштаны и появились матуржисты [10]10
Подростки – выпускники, сдающие экзамен на аттестат зрелости (matura) – Прим. перевод.
[Закрыть]из расположенной неподалеку гимназии им. Яна Длугоша. С высоты второго этажа женщина видела нескольких молодых людей в гимназической форме, которые шли вверх по улице с папиросами в руках, держа под мышками стянутые ремешком книжки, и жарко спорили о взаимных отношениях, как она расслышала, тангенсов и синусов. Она вспомнила свои собственные экзамены на аттестат зрелости сорок лет назад, а потом и счастливые годы занятий романистикой в Университете Яна-Казимира, где, как одна из четырех девушек в группе, она постоянно была окружена обожателями. Леокадия оперлась локтями на лежащей на перилах перине, подставила лицо солнцу и охотно приветствовала в мыслях собственные гимназические и университетские воспоминания. Под балконом с грохотом прокатился грузовик с ломом. Вот это было нечто неожиданное, а Леокадия терпеть нее могла неожиданных вещей, когда же те случались, она обвиняла себя в отсутствии воображения.
Точно так же произошло и сейчас. Женщина вздрогнула, быстро прошла назад в квартиру и закрыла за собой балконную дверь. Последнее, чего бы ей хотелось, чтобы проснулся ее двоюродный брат, Эдвард Попельский, с которым она жила уже два десятка лет. В течение всех этих лет, единственные споры, что вспыхивали между ними, касались неожиданных пробуждений кузена: то сквозняк стукнул незакрытым окном по фрамуге, то коммивояжер слишком громким голосом рекламировал во дворе собственные товары, то служанка слишком громко молилась на кухне. Все эти события резко прерывали сон Эдварда, который ложился спать в пять утра и не привык вставать до часа дня. Обеспокоенная Леокадия подошла к двери в спальню кузена, окна которой выходили во двор, точно так же, как и окна спальни его дочки Риты, и кухонное окно. Пару минут она прислушивалась, не привел ли чудовищный грохот старых железяк к результату, которого она опасалась. Что ж, произошло то, чего она боялась. Ее двоюродный брат уже не спал. Он стоял у входных дверей и держал в руке телефонную трубку. Ой, не надо было класть трубку правильно, упрекала Леокадия саму себя, так что было делать, если с шести утра Эдварду названивали из отделения? В конце концов, он бы проснулся и устроил ей Голгофу.
Сейчас Эдвард стоял в прихожей и молчал, всматриваясь в телефонную трубку, словно бы видел там живого человека. Вдруг он что-то сказал возбужденным тоном. Леокадия быстро прошла на кухню и закрыла дверь за собой, чтобы не подслушивать. Только ее тактичное поведение ничего не дало. Эдвард кричал на всю прихожую, и она слышала каждое его слово.
– Вы что, пан начальник, по-польски не понимаете?! – Его двоюродная сестра уже поняла, что ее кузен разговаривает со своим шефом, начальником следственного управления. – Я что, неясно выразился?! Я отказываюсь браться за это следствие и отказываюсь сообщать о причинах этого отказа! Это все, что я могу пану начальнику сообщить!
Леокадия услышала грохот брошенной трубки, скрип пола в гостиной под ногами, после чего – характерный звук вращения телефонного диска. Звонит куда-то, подумала кузина, быть может, желает извиниться перед этим Зубиком? Теперь ее брат говорил намного тише. Леокадия вздохнула с облегчением. Не любила она, когда Эдвард ссорился с начальством. Он никогда не желал сообщить ей о причине этой ссоры, а она торчала в нем словно заноза, заставляя его надуваться и багроветь от не находящего выхода гнева, а ведь все это могло закончиться сердечным приступом. Ну хотя бы разик он себя переборол и доверил ей секрет собственных отношений со своим грубоватым начальником! Ведь помогло бы! Почему он не желает поговорить об этих конфликтах, ведь он не скрывает перед ней никаких тайн, касающихся даже наиболее секретных следствий? Он же прекрасно знает, что она бы молчала как камень!
Леокадия взяла из кладовки прянички "юрашки", которые утром купила у Залевского, после этого положила в кофейник свежерастолченные [11]11
У автора именно так! – Прим. перевод.
[Закрыть]кофейные бобы и залила их кипятком. Скрипнула половая доска и зашелестели портьеры. Брат закончил разговор, прошел в гостиную, заслонил солнечный свет шторами и теперь, наверняка, сидит под часами с папиросой и газетой, подумала женщина, ставя приборы на подносе.
Практически все ее предположения исполнились – за исключением газеты, которая все так же лежала на столике в прихожей. В гостиной толстые зеленые портьеры были затянуты, зато на украшенном лепниной потолке горела люстра. Эдвард Попельский сидел в кресле под напольными часами и стряхивал пепел в пепельницу в виде раковины. Одет он был в брюки из толстого сукна и вишневую тужурку с черными, бархатными отворотами; на ногах блестящие от крема кожаные тапочки. На лысой голове были видны следы мыла для бритья и один небольшой порез. Подкрашенные черной краской коротко подстриженные усы и борода окружали рот.
– День добрый, Эдвард. – Леокадия усмехнулась и поставила поднос на столе. – Видимо, я была на балконе, когда ты встал и брился в ванной. И тогда позвонил Зубик, услышав звонок, ты вздрогнул и поранился. Так?
– Тебе следовало бы работать со мной в полиции, – этими словами тот вечно резюмировал дедуктивные выводы кузины. Точно так же сделал и сейчас, только его слова не сопровождались обычной в таких ситуациях улыбкой. – Анны сегодня нет?
Леокадия села за стол и разлила кофе в чашки. Она ждала, пока двоюродный брат не усядется и не проведет обычный ритуал завтрака – "primum makagigi, deinde serdelki", означавший, что в первую очередь он съедал пирожные с кофе, а уже потом сосиски с хреном и булочками с маслом, запивая все это чаем. Только Эдвард не сел за стол, а продолжал курить, вставив окурок в янтарный мундштук.
– Не следует тебе курить натощак, погаси и садись уже завтракать. Впрочем, сегодня вторник.
– Не понял, – мундштук стукнул о край раковины, – какая связь между одним и другим.
По тому, как медленно брат говорил, Леокадия узнала, что он в ужасном настроении.
– А потому что связи и нет, – ответила она. – Сегодня вторник, и у Анны выходной. Просто я ответила на твой вопрос.
Эдвард отставил пепельницу на столик под часами. Он обошел обеденный стол и вдруг остановился за спиной сестры. Схватил за виски и поцеловал в голову, несколько портя старательную прическу.
– Извини за мое паршивое настроение, – сказал он и уселся за стол. – Плохо этот день начался. Звонил Зубик и…
– И ты отказал ему вести следствие по делу того мальчонки, о котором простой народ говорит, будто его ритуально замучили евреи? – спросила Леокадия, совершенно не ожидая ответа.
– Откуда ты знаешь? – ответил ей брат и откусил кусочек пряника.
– Слышала. А даже если бы и не слышала, то могла бы догадаться. Перед завтраком ты всегда садишься под часами, куришь и читаешь газету. Сегодня ты этого не сделал. "Слово" с чрезвычайным приложением лежат, словно их никто не трогал. Либо ты был настолько возбужден, что у тебя пропало желание к чтению, либо ты знал, что будет на первой странице. Я поставила на второе.
– Это правда, – мрачно заметил Эдвард и не похвалил, как бывало обычно, правильность ее рассуждений.
– Почему ты отказал Зубику. Ты же знаешь, что за подобное тебя могут отправить в отставку? А прежде всего, неужто ты желаешь, чтобы преступник ушел безнаказанно?
В нормальных обстоятельствах подобное обвинение вызвало бы у Эдварда взрыв злости. Как ты смеешь так обо мне думать?! – крикнул бы он. Но сейчас брат только молчал, а его челюсть ритмично двигалась, пережевывая еду.
– Именно то же самое спросил у меня Зубик, – неспешно сказал он, проглотив кусок, – и тогда-то я поднял на него голос.
– Но ведь я не Зубик! – пошевелилась хрупкая фигурка Леокадии. – И мне ты можешь рассказать обо всем…
– Ты не Зубик, – перебил тот, – и потому я не подниму на тебя голос.
Леокадия уже знала, что, как обычно, ничего она не узнает. Она допила кофе и поднялась, чтобы направиться на кухню и подогреть сосиски. Вдруг Эдвард поднялся, схватил ее за запястье и вновь усадил на стуле.
– Я бы все тебе рассказал, Лёдя, только это ужасно длинная история.
Эдвард сунул новую папиросу в мундштук. А его сестра с радостью подумала, что это означает конец всем его сомнениям, и сейчас она обо всем узнает.
– Я бы рассказал тебе все, вот только не знаю, с чего начать… Это связано с делом Минотавра.
– Тогда начни ab ovo [12]12
Ab ovo (лат.) – от яйца, с самого начала.
[Закрыть]. – Леокадия была в напряжении от любопытства. – Лучше всего, с того силезского города и с того квадратного силезца, которого ты называешь своим приятелем, и которого я так до конца и не полюбила…
– Ну да, – задумчиво сказал ее кузен. – С этого все и началось.
Бреслау, пятница 1 января 1937 года, четыре часа утра
Новогодние фейерверки взрывались над Городским Театром, когда трясущийся экипаж подъезжал под приличных размеров дом, обозначенный как Цвингерплац 1, в котором проживал капитан абвера Эберхард Мок со своей женой Карен, эльзасской овчаркой Аргосом [13]13
Сложно сказать, почему пса назвали именно так. Судите сами – Аргос это: город в Древней Греции – великан, сын Геи, убитый Гермесом – сын Зевса и Ниобы – освободитель людей от чудовищ, правнук предыдущего персонажа – строитель коробля «Арго». Понятно, что Мок интересовался мифологией, но хотя бы намек… – Прим. перевод.
[Закрыть]и парой пожилых служащих, Адальбертом и Мартой Гочолл. Трясся же экипаж по двум причинам. Во первых, его непрерывно бичевал порывистый ветер со снегом; во-вторых, в Мока после веселого празднования в Силезском Музее Изобразительных Искусств вселилась не нашедшая выхода мужская сила, реализовать которую он пытался прямо по дороге, не ожидая, когда очутится с женой дома, в спальне. Не обращая особого внимания на мороз, на слабые протесты Карен и болтовню извозчика, он пытался пробиться сквозь несколько слоев белья, окутывающего тело жены. Правда, результаты его усилий были мизерными; они ограничились лишь изменением в поведении возчика, который, привыкнув к подобным играм в своем экипаже, тактично умолк.
– Приехали, Эби, успокойся уже, – Карен осторожно отпихнула сопящего мужа.
– Ладно, – буркнул довольный Мок, протягивая извозчику банкноту в десять марок. – А вот это держи за то, что приехал за нами пунктуально. – Он прибавил еще две марки.
Выйдя из экипажа, они тут же попали в холодные вихри ветра, что сорвался откуда-то из-под Купеческого Ресурса и сдул сухой снег с тротуара. Сила была настолько большой, что сорвала цилиндр с головы Мока и белое шелковое кашне с его шеи. Обе части гардероба закружили на ветру, а потом разделились – цилиндр поскакал по трамвайным путям, направляясь в сторону гостиницы "Монополь", зато кашне приклеилось к витрине кафе Фахрига. Наполовину ослепленный Мок решил поначалу спасать кашне, которое было рождественским подарком от Карен. Он бросился к витрине, давая знак жене, чтобы та пряталась от вихря. Уже через секунду он прижимал кашне к стеклу и высматривал местонахождение цилиндра. Карен стояла в подъезде.
– Иди в спальню и жди меня там! – крикнул Мок, завязывая кашне на узел.
Карен не отреагировала. Мок, заслоняя глаза, направился в сторону гостиницы, откуда пыхало паром и величественным ритмом венского вальса. Он все выглядывал цилиндр, только того нигде не было видно. Эберхард представил, как тот катится по мостовой, измазанный конскими испражнениями. Эта картина его разозлила. Взгляд Мока остановился на Карен, до сих пор стоящей в подворотне. Черт подери, почему она не идет домой?! Неужели привратник напился и заснул? Хорошо, сейчас я его разбужу! При взгляде на съежившуюся фигуру жены, у него даже прошло желание к альковным радостям. Он раскрыл рот и проглотил несколько снежинок. Язык, высохший от избытка спиртного и сигар, показался ему шершавым, не обработанным бруском древесины. Сейчас Моку хотелось только одного: припасть к большому кувшину охлажденного лимонада. Он развернулся на месте и направился к собственному дому, оставляя цилиндр на глумление лошадей всяких там извозчиков.
И тут его курс быстрым шагом пересек высокий мужчина в надвинутом на самые уши котелке. Мок отреагировал инстинктивно. Он уклонился от предполагаемого удара и присел на корточки, следя за нападающим. Но тот не ударил, а протянул в сторону Мока руку, в которой держал его цилиндр.
– Благодарю вас, – с радостью произнес Мок, забирая свой головной убор. – Прошу прощения, но мне показалось, что вы хотите меня атаковать, а тут на тебе, такой добрый поступок…
– Жалко было бы такого дорогого цилиндра, – сказал незнакомец.
– Благодарю вас еще раз. – Мок глянул на Карен, которая улыбалась, наблюдая за всем происшествием. – Здорового вам Нового Года! – повернулся он опять к мужчине.
– Криминаль-оберсекретарь Сойфферт, ассистент криминальдиректора Краузе для специальных поручений, связной офицер между гестапо и абвером. – Молодой человек не ответил пожеланием, а каким-то абсурдным перечнем своих функций, после чего протянул собеседнику свою визитку. – Герр гауптман, срочное политическое дело, вам следует отправиться со мной. По приказу полковника фон Харденбурга.
Фамилию начальника Мока он произнес настолько тщательно, и так акцентируя, словно выговаривал длинное и крайне специальное название какой-то болезни.
Мок отряхнул цилиндр от снега, надвинул его на голову и поглядел на Карен. Та уже не улыбалась.
Бреслау, пятница 1 января 1937 года, четверть пятого утра
В бедненькой гостиничке «Варшавский Двор» на Антониенштрассе 16 царил немалый бардак. Пара полицейских в мундирах тащила носилки с чьим-то телом, прикрытым серой простынкой со штампом института судебной анатомии; рядом с проходной Хельмут Эхлерс, полицейский фотограф и спец по дактилоскопии, складывал штатив, а на лестнице метался судебный врач, доктор Зигфрид Лазариус, который между одним и другим резким жестом объяснял возбужденным голосом криминаль-ассистенту Ханслику, что не в состоянии определить национальность трупа, разве что тот является мужчиной и евреем. Один лишь стоящий на лестничной площадке VII территориального представительства абвера в Бреслау, полковник Райнер фон Харденбург, никаких движений не производил, если только не считать регулярного поднесения ко рту длинной и тонкой сигареты. Мок заметил, что головы всех мужчин украшали цилиндры, лишь на вытянутой черепушке Сойфферта был котелок. Зато никакого головного убора не носил трезвеющий портье, который покачивался за стойкой, регулярно смачивая лицо водой из тазика. У всех присутствующих, кроме только что прибывших Мока и Сойфферта, в руках были высокие стаканы.
– Хорошо, что вы прибыли, капитан Мок! – фон Харденбург приветствовал подчиненного громким голосом, наплевав на новогодние пожелания. – Выпейте-ка содовой и поглядите на тело убитой. Покажите ему девушку! – бросил он двум полицейским, которые, преодолев все ступени, поставили носилки с трупом у самых ног Мока.
"А ганноверец меня знает, – подумал Мок о своем шефе, – знает, что утром после вечеринки на Сильвестра [14]14
Ни для кого ни секрет, что в католических (да и православных) странах что ни день, так и праздник какого-нибудь святого. Так вот, в Польше, Германии и других странах с сильными католическими традициями в ночь с 31 декабря на 1 января отмечают св. Сильвестра, но я, ради удобства, буду говорить о новогоднем праздновании. – Прим. перевод.
[Закрыть]у меня будет похмелье". Он подошел к стойке портье, на которой стояли четыре сифона, крепко схватил один из них и с шумом залил обильную порцию в стакан. После этого он глянул в усталые глаза дежурного, затем на сифоны и понял, что заботливость фон Харденбурга он сильно переоценил. У кого в такое время после Нового Года нет похмелья? Все участвовали в каких-нибудь вечеринках и балах, на которых, естественно, все пили! Все, кроме этого вот – он с презрением отвел взгляд от Сойфферта. Эти канальи из гестапо пьют одну лишь воду и не едят мяса, точно так же, как их идол, несчастный австрийский фельдфебель.
– Я предупреждаю вас, капитан! – Голос фон Харденбурга электризовал всех присутствующих. – Вид незабываемый!
Рядовой полицейский откинул край простыни и прикрыл глаза. Второй вышел из гостиницы вместе с Сойффертом и поднял лицо вверх, откуда валил снег. Эхлерс повернулся спиной к носилкам и стал быстрее упаковывать свое оборудование в большой кожаный кофр; фон Харденбург закурил очередную тонкую сигарету, а бальные туфли Ханслика блеснули отраженным светом, когда он вбегал наверх по лестнице, куда-то заспешив. Один лишь доктор Лазариус склонился над телом и своим неизменным огрызком сигары, словно указкой, начал показывать важные моменты. У Мока, который слушал выводы врача появилось впечатление, будто бы язык во рту набухает.
– Это совсем даже несложно, герр Мок, – Лазариус окурком указывал на кровавое мясо между носом и глазом, – вырвать у человека половину щеки. Мужчина со здоровыми зубами способен на такое без труда. И у него вовсе не должны быть спиленные, острые зубы, словно у людей-леопардов из Камеруна.
Ну да, подобная штука никакого труда не требует.
Мок опорожнил стакан в один глоток. Не помогло. У него появилось впечатление, что теперь рот забит щепками.
– То, что вы здесь видите, – сигара Лазариуса направилась к паховым областям девушки, – это склеенные кровью фрагменты девственной плевы.
Мок направлял взгляд за необычной указкой врача, но тут же почувствовал во рту все блюда, которые ел во время новогоднего празднества. Вначале появился вкус бутерброда с лососиной, квашеных огурцов и рольмопсов из селедки; потом было филе из судака, заливная спаржа с ветчиной, телятина с грибами. Сейчас все эти блюда во рту Мока отдавали прогорклым маслом. Он схватил сифон, сунул краник в рот и нажал на спуск. Содовая смочила язык, но тут же сифон забулькал и выплюнул последние капли. Мок все же смыл вкус прогорклого масла, взял себя в руки и снова глянул на тело.
– Эти вот похожие на полумесяцы кровавые потертости, – Лазариус коснулся шеи девушки, – взялись от пальцев и ногтей. Жертву задушили. Ее изнасиловали, выжрали половину лица и задушили. И это последнее было сделано, похоже, в самом конце. Что вас так удивляет, герр Мок? – Ужас на лице капитана врач принял за изумление. – Все это можно определить даже с первого взгляда. Мы видим результаты кровотечения из щеки и кровоизлияния на половых органах. Это означает, что преступник кусал и насиловал ее, когда жертва еще была жива.
Теперь в иссохшей ротовой полости капитан почувствовал вкус уксуса. Кислота разлилась по языку. Мок бросился в сторону стойки портье. Он начал трясти сифонами. Все были пустые. А уксус требовал какой-нибудь реакции организма. Пищевод сотрясали судороги. И тут Мок увидел, как портье проводит языком по спешимся губам, без какого-либо следа отвращения всматриваясь в белое, худое тело, лицо которого было отдано на откуп какому-то чудовищу. Масло с уксусом стекли куда-то вглубь пищеварительной системы капитана.
– Чего, сволочь, зенки пялишь?! – взвизгнул Эберхард и схватил портье за отвороты грязного фирменного пиджака. – Что, возбуждает, извращенец? Содовую тащи или пиво, только мигом, собака!
Портье обернулся, чтобы сбежать, и Мок помог ему в этом. Прицелился он превосходно. Носок его лаковой туфли угодил портье в самую средину задницы. После чего неудачник исчез.
– Что это вы творите, Мок? – Фон Харденбург был вне себя от возмущения. – Так к людям относиться нельзя! Прошу за мной! Идем наверх! Я покажу вам место преступления. Сойфферт, за нами!
Когда Мок поднимался по ступеням за своим шефом, ему казалось, что скрипят не старые доски, но какие-то соединения в его мозгу. Похмелье расходилось по голове и желудку. А к этому следовало прибавить еще и ужасное зевание, по причине которого заслезились глаза. Он все время спотыкался и ругался, потому что следовало быть внимательным и не поцарапать туфли.
В небольшой комнате стояла железная кровать с подушкой и периной без пододеяльника. Сквозь открытое окно залетал снег. Под окном находилась металлическая стойка с облупаной миской, заслоненной частично открытой дверью шкафа. Мок подошел к нему и закрыл. Безуспешно. Через мгновение дверь сама открылась, издавая звук, заскрежетавший в висках Мока. Капитан высунулся в окно и глянул вниз. Прикрепленный к стене газовый фонарь давал достаточно света. Закоулок был настолько узким, что по нему мог бы проехать разве что опытный велосипедист, которому бы удалось в слаломе преодолеть горы мусора, какие-то остатки мебели и дырявые ведра. После того Мок глянул вверх. Рядом с окном проходила водосточная труба. Один из придерживающих ее крючьев был недавно вырван из стены. Рядом с собой капитан почувствовал дыхание, как и его собственное отдающее спиртным.
– Все так, капитан Мок, – сказал фон Харденбург и указал на край крыши, – преступник ушел именно туда. Возможно, по водосточной трубе. Тогда он был ничтожного веса. Оборвался всего один крюк. Если бы он, так сказать, обладал вашей фигурой, крючья бы не выдержали, и сам он, поломанный, валялся бы внизу, в мусоре.
– Герр полковник, – Мок вновь вернулся в комнату, и вы, и я являемся сотрудниками абвера. Вы являетесь его шефом во всем Бреслау. А этот вон тут, – головой он указал Сойфферта, осматривавшего собственные ладони, – из гестапо. Что делаем здесь мы, черт подери! Почему этим не займется полицейская комиссия по расследованию убийств? В этой комнате должен находиться только Ханслик и никого кроме. На самом же деле здесь собрались все наиболее важные в Силезии офицеры разведки, все с похмелья, которых, к тому же, вытащили прямо с праздничных приемов. Ну… За исключением этого гестаповца… Он, похоже, не танцует и не пьет. А бал видел только на новогодней открытке!
– На вашем месте, – в глазах фон Харденбурга появились веселые искорки, – я бы не выражался столь пренебрежительно… о собственном сотруднике. С нынешнего дня он является вашим ассистентом.
Мок оперся ягодицами о подоконник. Он никак не мог поверить в то, что только что услышал. В 1934 году он сам ушел из полиции в абвер, так как не мог уже смотреть на то, как гестаповские канальи, словно глисты проникают в его мир и там переворачивают все с ног на голову. Он не мог глядеть в глаза своим лучшим людям, которым лишь потому пришлось бросить всю свою профессиональную жизнь, поскольку были евреями. И он ушел, считая, будто бы в абвере его не облепит вся та грязь, что выплыла на поверхность после выборов в Рейхстаг и после "ночи длинных ножей". И на тебе, через три года, в первый же день нового года, это дерьмо его нагнало. А испачканный человек всегда будет испачканным, подумал Мок, проводя языком по шершавому будто песок небу.








