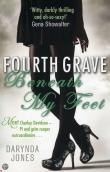Текст книги "Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
– Ну, желаю успеха!
И ушел, все-таки недовольный чем-то. Когда дверь закрылась за ним, Людмила подошла к матери, беззвучно смеясь.
– Я понимаю вас…
Взяв ее под руку, она снова тихо зашагала по комнате.
– У меня тоже есть сын. Ему уже тринадцать лет, но он живет у отца. Мой муж – товарищ прокурора. И мальчик – с ним. Чем он будет? – часто думаю я…
Ее влажный голос дрогнул, потом снова задумчиво и тихо полилась речь:
– Его воспитывает сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мною жить ему нельзя, я живу под чужим именем. Восемь лет не видела я его, – это много – восемь лет!
Остановясь у окна, она смотрела в бледное, пустынное небо, продолжая:
– Если бы он был со мной – я была бы сильнее, не имела бы раны в сердце, которая всегда болит. И даже если бы он умер – мне легче было бы…
– Голубушка вы моя! – тихонько сказала мать, чувствуя, как сострадание жжет ей сердце.
– Вы счастливая! – с усмешкой молвила Людмила. – Это великолепно – мать и сын рядом, – это редко!
Власова неожиданно для себя самой воскликнула:
– Да, хорошо! – И, точно сообщая тайну, понизив голос, продолжала: – Все – вы, Николай Иванович, все люди правды – тоже рядом! Вдруг люди стали родными, – понимаю всех. Слов не понимаю, а все другое – понимаю!
– Вот как! – промолвила Людмила. – Вот как…
Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая ее, говорила почти шепотом и точно сама созерцая то, о чем говорит:
– Миром идут дети! Вот что я понимаю – в мире идут дети, по всей земле, все, отовсюду – к одному! Идут лучшие сердца, честного ума люди, наступают неуклонно на все злое, идут, топчут ложь крепкими ногами. Молодые, здоровые, несут необоримые силы свои все к одному – к справедливости! Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились, идут одолеть безобразное и – одолеют! Новое солнце зажгём, говорил мне один, и – зажгут! Соединим разбитые сердца все в одно – соединят!
Ей вспоминались слова забытых молитв, зажигая новой верой, она бросала их из своего сердца, точно искры.
– Ко всему несут любовь дети, идущие путями правды и разума, и всё облачают новыми небесами, всё освещают огнем нетленным – от души. Совершается жизнь новая, в пламени любви детей ко всему миру. И кто погасит эту любовь, кто? Какая сила выше этой, кто поборет ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочет победы ее, – вся жизнь!
Она отшатнулась от Людмилы, утомленная волнением, и села, тяжело дыша. Людмила тоже отошла, бесшумно, осторожно, точно боясь разрушить что-то. Она гибко двигалась по комнате, смотрела перед собой глубоким взглядом матовых глаз и стала как будто еще выше, прямее, тоньше. Худое, строгое лицо ее было сосредоточенно, и губы нервно сжаты. Тишина в комнате быстро успокоила мать; заметив настроение Людмилы, она спросила виновато и негромко:
– Я, может, что-нибудь не так сказала?..
Людмила быстро обернулась, взглянула на нее как бы в испуге и торопливо заговорила, протянув руки к матери, точно желая остановить нечто.
– Все так, так! Но – не будем больше говорить об этом. Пусть оно останется таким, как сказалось. – И более спокойно продолжала: – Вам уже скоро ехать надо, – далеко ведь!
– Да, скоро! Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово сына повезу, слово крови моей! Ведь это – как своя душа!
Она улыбалась, но ее улыбка неясно отразилась на лице Людмилы. Мать чувствовала, что Людмила охлаждает ее радость своей сдержанностью, и у нее вдруг возникло упрямое желание перелить в эту суровую душу огонь свой, зажечь ее, – пусть она тоже звучит согласно строю сердца, полного радостью. Она взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря:
– Дорогая вы моя! Как хорошо это, когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и – будет время – увидят они его, обнимутся с ним душой!
Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались, и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они все сильнее рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца весны, все ярче цвели и рдели в нем.
– Ведь это – как новый бог родится людям! Всё – для всех, все – для всего! Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы – товарищи, все – родные, все – дети одной матери – правды!
Снова захлестнутая волной возбуждения своего, она остановилась, перевела дух и, широким жестом разведя руки как бы для объятия, сказала:
– И когда я говорю про себя слово это – товарищи! – слышу сердцем – идут!
Она добилась, чего хотела, – лицо Людмилы удивленно вспыхнуло, дрожали губы, из глаз катились слезы, большие, прозрачные.
Мать крепко обняла ее, беззвучно засмеялась, мягко гордясь победою своего сердца.
Когда они прощались, Людмила заглянула в лицо ей и тихо спросила:
– Вы знаете, что с вами – хорошо?
XXIX
На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановись, мать оглянулась: близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко – шел какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.
«Должно быть, в лавочку послали солдатика!» – подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под ее ногами. На вокзал она пришла рано, еще не был готов ее поезд, но в грязном, закопченном дымом зале третьего класса уже собралось много народа – холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда ее с шумом захлопывали. Запах табаку и соленой рыбы густо бил в нос.
Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь – на нее налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках – тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крякали.
Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к матери.
– В Москву? – негромко спросил он.
– Да. К Тане.
– Вот!
Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью, ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.
Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нем, она оглянулась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела.
«Я где-то видела его!» – подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью, ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть еще раз. Она сделала это – человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.
Она не торопясь подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека – один раз в поле, за городом после побега Рыбина, другой – в суде. Там рядом с ним стоял тот околоточный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею следили – это было ясно.
«Попалась?» – спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая: «Может быть, еще нет…»
И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала: «Попалась!»
Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна за другою искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу.
«Оставить чемодан, – уйти?»
Но более ярко мелькнула другая искра:
«Сыновнее слово бросить? В такие руки…»
Она прижала к себе чемодан.
«А – с ним уйти?.. Бежать…»
Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли, ожоги их больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя ее прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх; на висках у нее сильно забились жилы, и корням волос стало тепло.
Тогда, одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно сказав себе: «Стыдись!»
Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив: «Не позорь сына-то! Никто не боится».
Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили все в ней. Сердце забилось спокойнее.
«Что ж теперь будет?» – думала она, наблюдая.
Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.
Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ее. Она подвинулась в глубь скамьи. «Только бы не били…»
Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко, сурово спросил:
– Что глядишь?
– Ничего.
– То-то, воровка! Старая уж, а – туда же!
Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза…
– Я? Я не воровка, врешь! – крикнула она всею грудью, и все перед нею закружилось в вихре ее возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.
– Гляди! Глядите все! – кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум в ушах она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела – бежали быстро, все, отовсюду.
– Что такое?
– Вот, сыщик…
– Что это?
– Украла, говорит…
– Почтенная такая, – ай-ай-ай!
– Я не воровка! – говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на нее со всех сторон.
– Вчера судили политических, там был мой сын – Власов, он сказал речь – вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде…
Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.
– За это тоже не похвалят! – воскликнул чей-то пугливый голос.
Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы, – это снова крепко поставило ее на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растет разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.
– За что судили сына моего и всех, кто с ним, – вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее – вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта… никто не может спорить с нею, никто!
Толпа замолчала и росла, становясь все более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.
– Бедность, голод и болезни – вот что дает людям их работа. Всё против нас – мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи, в невежестве – мы ничего не знаем, и в страхе – мы всего боимся! Ночь – наша жизнь, темная ночь!
– Так! – глухо раздалось в ответ.
– Заткни глотку ей!
Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука ее опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.
– Берите, берите! – сказала она, наклоняясь.
– Разойдись! – кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и, разобщенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретое огнем слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча, мать видела их жадно-внимательные глаза и чувствовала на своем лице теплое дыхание.
– Уходи, старуха!
– Сейчас возьмут!..
– Ах, дерзкая!
– Прочь! Разойдись! – все ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.
Ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям все, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвется.
– Слово сына моего – чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!
Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и со страхом.
Ее толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Все почернело, закачалось в глазах матери, но, превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:
– Собирай, народ, силы свои во единую силу!
Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул:
– Молчи!
Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым.
– Иди! – сказал жандарм.
– Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которой вы всю жизнь дышите…
– Молчать, говорю! – Жандарм взял под руку ее, дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать.
– …которая каждый день гложет сердце, сушит грудь!
Шпион забежал вперед и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:
– Молчать, ты, сволочь!
Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:
– Душу воскресшую – не убьют!
– Собака!
Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки.
– Так ее, стерву старую! – раздался злорадный крик. Что-то черное и красное на миг ослепило глаза матери, соленый вкус крови наполнил рот.
Дробный, яркий взрыв криков оживил ее.
– Не смей бить!
– Ребята!
– Ах ты, мерзавец!
– Дай ему!
– Не зальют кровью разума!
Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, все закружилось, завертелось темным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное. Но глаза ее не угасали и видели много других глаз – они горели знакомым ей смелым, острым огнем, – родным ее сердцу огнем.
Ее толкали в двери.
Она вырвала руку, схватилась за косяк.
– Морями крови не угасят правды…
Ударили по руке.
– Только злобы накопите, безумные! На вас она падет!
Жандарм схватил ее за горло и стал душить. Она хрипела.
– Несчастные…
Кто-то ответил ей громким рыданием.
[Как я первый раз услышал о Гарибальди]
В первый раз я услышал это великое и светлое имя, когда мне было 13 лет.
Я служил тогда кухонным мальчишкой на пассажирском пароходе и целыми днями мыл посуду, наполовину оглушённый стуком машины, наполовину одурелый от горелого жира.
Когда выпадал свободный часок, я шёл на ют.
Там собирались пассажиры третьего класса: крестьяне и рабочие.
Кто сидя, кто стоя, плотной кучкой слушали они тихий и спокойный рассказ одного пассажира.
Я тоже стал слушать.
– Звали его Джузеппе, по-нашему Осип, а фамилия его была Гарибальди, и он был простой рыбак. Великая у него была душа, и он видел горькую жизнь своего народа, которого одолели враги. И кликнул он клич по всей стране: «Братья, свобода выше и лучше жизни! Подымайтесь все на борьбу с врагом, и будем биться, пока не одолеем!» И все послушались его, потому что видели, что он скорей трижды умрёт, чем подастся. Все пошли за ним и победили.
Был вечер, и солнце опускалось в Волгу.
Розоватые волны словно целовали друг друга и таяли в поцелуе.
Потом я много читал о Гарибальди, титане Италии.
Но короткий рассказ неизвестного крестьянина глубже укоренился в моём сердце, чем все книги…
Комментарии
В Америке
Впервые цикл очерков «В Америке» напечатан в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книги одиннадцатая и двенадцатая. Тогда же издан за границей отдельной книгой: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И. Дитца, Штутгарт, 1906.
Очерки написаны весною и летом 1906 г. в Америке.
В феврале 1906 года, по поручению партии большевиков, М. Горький, которому угрожал арест, выехал из России. Перед ним стояли задачи: рассказать иностранным рабочим правду о русской революции, пропагандировать её идеи, организовать сбор средств для революционной борьбы большевистской партии, агитировать против иностранных займов, которые царское правительство стремилось получить для подавления революции. Несколько недель писатель пробыл в Германии, затем отправился в Америку, куда и прибыл 10/23 апреля 1906 г. Через несколько дней М. Горький сообщал друзьям о своих первых впечатлениях от Америки. В письме к К.П. Пятницкому он писал, что американцы «…слишком бизнесмены – люди, делающие деньги, – у них мало жизни духа» (Архив А.М. Горького). Тогда же, сопоставляя Россию эпохи революции 1905 г. с Америкой, М. Горький сообщал И.П. Ладыжникову: «Мы далеко впереди этой свободной Америки, при всех наших несчастьях! Это особенно ясно видно, когда сравниваешь здешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими» (Архив А.М. Горького).
В первых же публичных выступлениях в Америке М. Горький выражал солидарность с американскими трудящимися. В некоторых газетах США в апреле 1906 г. была напечатана телеграмма М. Горького, адресованная Вильяму Хэйвуду и Чарльзу Мойеру – руководителям «Западной федерации рудокопов», заключённым в тюрьму города Кальдуэль. «Привет вам, братья-социалисты! – писал М. Горький. – Мужайтесь! День справедливости и освобождения угнетённых всего мира близок. Навсегда братски ваш».
Выступая на митинге в Грэнд-Пэлейсе в Нью-Йорке, М. Горький заявил: «Я не верю в вражду рас и наций. Я вижу только одну борьбу – классовую. Я не верю в существование специфической психологии, вызывающей у белого человека естественную ненависть к человеку чёрной расы…»
Американская буржуазная пресса открыла злостную кампанию против М. Горького. Писатель был выселен из отеля в Нью-Йорке, где он проживал. Все другие владельцы нью-йоркских отелей также отказались предоставить ему помещение. Американские капиталисты надеялись заставить М. Горького уехать из Америки. Писатель вынужден был поселиться в частном доме, в Нью-Йорке на Отейтен Айленд, у супругов Мартин. У них на даче, в горах Адирондака, в 25 километрах от города Элизабеттоун, М. Горький прожил лето 1906 г.
Появление в американском журнале «Аппельтон мэгэзин» очерка «Город Жёлтого Дьявола» вызвало целый поток читательских откликов. В одном из писем в августе 1906 г. М. Горький сообщал, что сенаторы пишут возражения, а рабочие хохочут.
К.П. Пятницкому М. Горький писал: «Знаете – в ответ на мою статью в «Аппельтоне» о Нью-Йорке газеты получили более 1200 возражений!
Я скоро напечатаю статью «Страна подростков» [2]2
не написана – Ред.
[Закрыть], в которой буду доказывать, что американцы, даже когда они лысы, седы и жуют вставными зубами, даже когда они профессора, сенаторы и миллионеры, – имеют не более 13–15 лет от роду. Вероятно, меня задавят возражениями» (Архив А.М. Горького).
И ещё: «…Меня страшно увлекает каша, заваренная здесь. Любопытно! Говорят – я здесь делаю революцию. Это, конечно, чепуха, но, говоря серьёзно, мне удалось поднять шум» (Архив А.М. Горького).
Первоначально книга «В Америке» состояла из четырёх очерков: «Город Жёлтого Дьявола», «Царство скуки», «МоЬ», «Чарли Мэн». Позднее последний очерк М. Горьким в цикл не включался. В настоящем издании очерк «Чарли Мэн» печатается вне цикла.
ГОРОД ЖЁЛТОГО ДЬЯВОЛА. Впервые напечатано одновременно в американском журнале «Аппельтон мэгэзин», в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга одиннадцатая, СПб, 1906, и в книге: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И.Дитца, Штутгарт, 1906.
В авторизованных машинописных экземплярах текста содержится указание на место создания произведения: «New York. Staten Island».
ЦАРСТВО СКУКИ, «MOB». Впервые напечатаны одновременно в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга двенадцатая, СПб, 1906, и в книге: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И.Дитца, Штутгарт, 1906.
Очерки «В Америке» включались во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.
Печатаются по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».