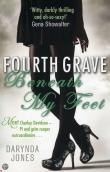Текст книги "Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Послание в пространство
…Не унижай сердца твоего ненавистью к тем, которые, когда сила твоя была нужна для них, звали тебя:
– Герой!
А теперь, когда ты оставил их, чтобы идти дальше к свободе твоей, зовут тебя:
– Варвар!
Береги ненависть твою для врага сильного, гнев твой против достойного, брось нищему духом только презрение твоё – если хочешь быть великодушен даже к ничтожному!
Что они? Ночь была временем славы их, среди сонного молчания рабов говорили они, рабы поклонились им, и рабы признали их вождями – что тебе до них, если сам ты не раб?
Осторожно звучала их речь о благе свободы, и негромко было слово их против насилия, не от их речей так красна заря возрождения, твоего сердца кровью окрашены великие дни!
Охраняя душный мрак исступлённого насилия, чёрные птицы не пугались голоса их. Разве эти люди были во тьме ночи путеводными звёздами? Они мелькали, как огни над болотами, и кто пошёл за ними – заблудился в цепкой тине противоречий, и уже погибли все они в грязи жалких вожделений своих.
Они всегда умеют вовремя присосаться к силе, чтобы питать дряблое тело своё живым соком её – только это и могут они!
Ты – сила, созидающая всё на земле! И когда ты не знал этого, но был нужен им, чтобы освободить их из цепей неволи и насилия, они лицемерно восклицали пред лицом твоим:
– Ты – сила, созидающая всё!
И толкали тебя вперёд на борьбу, веруя, что ты победишь, ты уничтожишь старых, истощённых насильников и тогда дашь им, новым, свободу насиловать тебя и на плечах твоих строить жалкое благополучие свое.
Но, победив однажды, ты захотел бороться до полного освобождения твоего из плена паразитов, и теперь, когда, открыв глаза, ты видишь созданное тобой и требуешь права своего быть хозяином жизни, они злобно кричат тебе:
– Варвар, идущий не созидать, а разрушать!
Им хочется, чтобы ты всегда созидал и созидал только для них, – усмехнись, если хочешь, слепоте паразитов твоих, но сохрани гнев твой для достойного врага.
Они взяли твоей сильной рукой несколько нищенских крох свободы для себя, они взяли её у тебя, точно воры и нищие, но и того не могут удержать слабые руки их, ибо старые насильники ещё имеют звериную силу бороться за первенство подлости своей, первенство насилия над тобой, Человек!
– Иди! Ты – неистощимая сила, созидающая всё, неиссякаемый источник творчества, тобою рождаются и боги и герои, что тебе, если черви дерзко ползают по голеням твоим? Стряхни их вовремя с тела твоего, дабы не проникли они, жадные и хитрые, на грудь твою…
И даже для того, чтобы плюнуть им презрительно в жадные, трусливые души, не оглядывайся на них.
Ибо и плевок презрения твоего будет честью и пищей паразитам твоим.
– Иди!
Все храмы на земле созданы твоими руками – иди дальше, чтобы создать храм истины, свободы, справедливости!
Иди, товарищ!
Солдаты
Патруль
Над городом угрюмо висит холодная, немая тьма и тишина. Звезд нёт, и не видно неба, бездонный мрак насторожился и как будто чутко ждёт чего-то… Лёгкие, сухие снежинки медленно кружатся в воздухе, точно боясь упасть на тёмные камни пустынных улиц.
Ночь полна затаённого страха; в тишине и мраке, пропитанном холодом, напряглось, беззвучно дрожит нечто угрюмое и щекочет сердце ледяными иглами…
Придавленные тьмой дома осели в землю, стали ниже; в их тусклых окнах не видно света. Кажется, что там, внутри, за каменными стенами, неподвижно притаились люди, объятые холодом и тёмным страхом. Они смотрят перед собой, не мигая, широко открытыми глазами и, с трудом сдерживая трепет ужаса в сердце, безнадёжно прислушиваются, молча ждут света, звука…
А с тёмных улиц слепым оком смотрит в окна жадный чёрный зверь…
Целый день в городе гудели пушки, сухо и зло трещали ружья, на улицах валялись трупы, смерть жадно упивалась стонами раненых.
Посредине маленькой площади, где скрещиваются две улицы, горит костёр… Четыре солдата неподвижно, точно серые камни, стоят вокруг него; отблески пламени трепетно ползают по их шинелям, играют на лицах, кажется, что все четыре фигуры судорожно дрожат и странными гримасами что-то сказывают друг другу. Сверкая на штыках, пламя течёт по металлу, точно кровь; острые полоски стали извиваются, стремятся кверху белыми и розовыми струйками…
На огонь и солдат отовсюду давит тьма…
Один из них, низенький, рябой, с широким носом и маленькими глазами без бровей, поправил штыком головни в костре; рой красных искр пугливо взлетел во тьму и исчез. Рябой солдат стал вытирать штык полой шинели. Высокий, тонкий человек, без усов на круглом лице, сунул ружьё подмышку и, вложив руки в рукава шинели, медленно пошёл прочь от костра. Солдат с большими рыжими усами, коренастый, краснощёкий, отмахнул руками дым от лица и хрипящим голосом заметил:
– А вот ежели накалить штык, да в брюхо, какому-нибудь…
– И холодный – хорошо! – негромко отозвался рябой. Голова его покачнулась.
Пожирая дерево, огонь ласково свистит, его разноцветные языки летят кверху и, сплетаясь друг с другом, гибко наклоняются к земле. Белые снежинки падают в костёр. Рыжий солдат сильно дышит через нос, сдувая снег с усов. Четвёртый, худой и скуластый, не отрываясь, смотрит в огонь круглыми, тёмными глазами.
– Ну, и много положили сегодня народу! – вдруг тихо восклицает рябой, раздвигая губы в широкую улыбку. И, ещё тише, он медленно тянет: – А-а-яй…
Уныло шипит сырая головня. Где-то очень далеко родился странный, стонущий звук. Рыжий и рябой насторожились, глядя во тьму, огонь играл на их лицах, и уши опасливо вздрагивали, ожидая ещё звука. Скуластый солдат не двигался, упорно глядя в огонь.
– Да-а… – сказал рыжий густо и громко.
Рябой вздрогнул, быстро оглянулся. И скуластый вдруг вскинул голову, вопросительно глядя в лицо рыжего. Потом вполголоса спросил у него:
– Ты – что?
Рыжий помедлил и ответил:
– Так…
Тогда скуластый солдат мигнул сразу обоими глазами и заговорил негромко и быстро:
– Вчера пензенский солдатик нашей роты земляка видел… Земляк говорит ему: «У нас, говорит, теперь бунтуют. Мужики, говорит, жгут помещиков… Будто говорят: ладно, будет вам, попили нашей крови, теперь – уходите… Да. Земля не ваша, она богова, земля-то. Она, значит, для тех, кто может сам на ней работать, для мужиков она… Уходите, говорят, а то всех пожгём». Вот…
– Этого нельзя! – хрипло сказал рыжий, шевеля усами. – Этого начальство не позволит…
– Конечно-о! – протянул рябой и, позёвывая, открыл глубокий, тёмный рот с мелкими плотными зубами.
– Что делается? – снова опустив голову, спросил скуластый и, глядя в огонь, сам себе ответил: – Ломается жизнь…
Во тьме мелькает фигура четвёртого солдата. Он ходит вокруг костра бесшумно, широкими кругами, точно ястреб. Приклад его ружья зажат подмышкой, штык опустился к земле; покачиваясь, он холодно блестит, будто ищет, нюхает между камнями мостовой. Солдат крепко упёрся подбородком в грудь и тоже смотрит в землю, как бы следя за колебаниями тонкой полоски стали.
Рыжий зорко оглянулся, кашлянул, угрюмо наморщил лоб и, сильно понизив свой хриплый голос, заговорил:
– Мужик, – разве он собака или кто? Он с голоду издыхает, и это ему – обидно…
– Известно! – сказал рябой солдат.
Рыжий сурово взглянул на него и наставительно продолжал:
– Можно было терпеть – он жил смирно. Но ежели помощи нет? И человек освирепел… Мужика я понимаю…
– Ну, конечно! – вполголоса воскликнул рябой, лицо его радостно расплылось. – Все говорят: один работник есть на земле – мужик… И которые бунтуют – тоже так говорят…
Рябой широко обвёл вокруг себя рукой и, таинственно наклонясь к рыжему, тихо вскричал:
– Нету никуда ходу мужику.
– В солдаты гонят! – пробормотал скуластый солдат. Рыжий стукнул прикладом ружья по земле и строго спросил:
– А зачем городские бунтуют?
– Избаловались, конечно! – сказал рябой. – Сколько нашему брату муки из-за них. Голоду, холоду…
– Греха тоже… – тихо перебил скуластый солдат речь рыжего. А он, постукивая прикладом в такт своим словам, настойчиво и жёстко говорил:
– Этих всех уничтожить, – батальонный правильно говорил. Которых перебить, которых в Сибирь. На, живи, сукин сын, вот тебе – снег! Больше ничего…
Взбросил ружьё на плечо и твёрдыми шагами пошёл вокруг костра.
Скуластый солдат снова поднял голову и, задумчиво улыбаясь, сказал:
– Ежели бы господ всех… как-нибудь эдак… Всех…
Сказал, вздрогнул, зябко пожал плечами, оглянулся вокруг и тоскливо продолжал, странно пониженным голосом:
– Снаружи жгёт, а внутри холодно мне… Сердце дрожит даже…
– Ходи! – сказал рыжий, топая ногами. – Вон, Яковлев – ходит.
Движением головы он указал на фигуру солдата, мелькавшую во тьме.
Скуластый солдат посмотрел на Яковлева и, вздохнув, тихо заметил:
– Тошно ему…
– Из-за лавочника? – спросил рябой.
– Ну, да, – тихо ответил скуластый. – Земляки они, одной волости. Письма Яковлеву из села на лавочника шли. И племянница у него… Яковлев говорил: «Кончу службу – посватаюсь…»
– Ничего не поделаешь! – сурово сказал рыжий.
А рябой зевнул, повёл плечами и подтвердил громко, высоким голосом:
– Солдат обязан убивать врагов, присягу положил на себя в этом.
Яковлев неустанно кружился во мраке, то приближаясь к огню костра, то снова исчезая. Когда раздались резкие и острые слова рябого, звуки шагов вдруг исчезли.
– Слаб ты сердцем, Семён! – заметил рябой солдат.
– Ежели бы лавочник бунтовал… – возразил Семён и хотел, должно быть, ещё что-то сказать – взмахнул рукой, – но рыжий подошёл к нему вплоть и раздражённо, хрипло заговорил:
– А как понять – кто бунтует? Все бунтуют!.. У меня дядя в дворниках живёт, денег имеет сот пять, был степенный мужик…
Вдруг где-то близко раздался сухой и краткий звук, подобный выстрелу, солдаты вскинули ружья, крепко сжимая пальцами холодные стволы. Вытянув шеи, они смотрели во тьму, как насторожившиеся собаки, усы рыжего выжидающе шевелились, рябой поднял плечи. Во тьме мерно застучали шаги Яковлева, он не торопясь подошёл к огню, окинул всех быстрым взглядом и пробормотал:
– Дверь хлопнула… а то – вывеска…
Губы у него плотно сжаты. На остром лице сухо сверкают овальные серые глаза и вздрагивают тонкие ноздри. Поправив ногой догоравшие головни, он сел на корточки перед огнём.
– Малов! – сказал рыжий тоном приказания, – ступай за дровами… Там вон, – он ткнул рукой во тьму, – ящики сложены у лавочки…
Рябой солдат вскинул ружьё на плечо и пошёл.
– Оставь ружьё-то… мешать будет, – заметил рыжий.
– Без ружья боязно! – отозвался солдат, исчезая во тьме.
Над костром всё кружатся, летают снежинки, их уже много упало на землю, тёмные камни мостовой стали серыми. Сумрачно смотрят во тьму слепые окна домов, тонут в мраке высокие стены. Костёр догорает, печально шипят головни. Трое солдат долго и безмолвно смотрят на уголья.
– Теперь, должно быть, часа три, – угрюмо говорит рыжий. – Долго ещё нам торчать…
И снова молчание.
– О, господи! – громко шепчет Семён и, вздохнув, спрашивает тихо и участливо: – Что, Яковлев, тошно?
Яковлев молчит, не двигаясь.
Семён зябко повёл плечами и с жалкой улыбкой в глазах, глядя в лицо рыжего солдата, монотонно заговорил, точно рассказывая сказку:
– Гляжу я – лежит она у фонаря, рукой за фонарь схватилась, обняла его, щёки белые-белые, а глаза – открыты…
– Ну, завёл волынку! – угрюмо бормочет рыжий. Семён смотрит на уголья, прищурив глаза, и продолжает:
– И лет ей будет… с двадцать, видно…
– Говорил ты про это! – укоризненно воскликнул рыжий. – Ну, чего язву ковырять?
Семён смотрит в лицо ему и виновато усмехается.
– Жалко мне бабочку, видишь ты… Молодая такая, весёлая, видно, была, по глазам-то… Думаю себе – эх, ты, милёна! Была бы ты жива, познакомились бы мы с тобой, и ходил бы я к тебе по праздникам на квартиру, и целовал бы я твои…
– Будет! – сказал Яковлев, искоса и снизу вверх глядя на рассказчика острым, колющим взглядом.
Семён виновато согнул спину и, помолчав, снова начал:
– Жалко, братцы… Лежит она, как спит, ни крови, ничего! Может, она просто – шла…
– А – не ходи! – сурово крикнул рыжий и матерно выругался.
– Может, её господа послали? – как бы упрашивая его, сказал Семён.
– Нас тоже господа посылают! Мы виноваты? – раздражённо захрипел рыжий. – Иди, как ты принял присягу… – Он снова скверно выругался. – Все посылают народ друг на дружку…
И ещё одно ругательство прозвучало в воздухе. Яковлев поднял глаза, усмехаясь взглянул в лицо рыжего и вдруг отчётливо, раздельно спросил:
– Что есть солдат?
Во тьме раздался громкий треск, скрипящий стон. Семён вздрогнул.
– Малов старается, сволочь! – сказал рыжий, шевеля усами. – Хороший солдат. Прикажет ему ротный живого младенца сожрать – он сожрёт…
– А ты? – спросил Яковлев.
– Его послали ящик взять, – продолжал рыжий, – а он там крушит чего-то. Видно, ларь ломает, животная.
– А ты – сожрёшь? – повторил Яковлев.
Рыжий взглянул на него и, переступив с ноги на ногу, угрюмо ответил:
– Я, брат, в августе срок кончаю…
– Это всё равно! – сказал Яковлев, оскалив зубы. – Ротный заставит – и ты сожрёшь младенца, да ещё собственного… Что есть солдат?
Он сухо засмеялся. Рыжий взглянул на него, стукнул о камни прикладом ружья и, круто повернув шею, крикнул во тьму:
– Малов! Скорей…
– Озорник он, Малов! – вполголоса заговорил Семён. – Давеча, когда стреляли в бунтующих, он всё в брюхо норовил… Я говорю – Малов, зачем же безобразить? Ты бей в ноги. А он говорит – я в студентов всё катаю…
Семён вздохнул и так же монотонно, бесцветно продолжал:
– А я так думаю – студенты хороший народ. У нас в деревне двое на даче жили, так они куда угодно с мужиками. И выпить согласны, и объяснят всё… книжки давали читать… Весёлые люди, ей-богу. Потом приехал к ним какой-то штатский, а за ним, в ту ночь, жандармы из города… Увезли их всех трёх… Мужики даже очень жалели…
Яковлев вдруг поднялся на ноги и, глядя в лицо рыжего солдата неподвижным взглядом – побелевшими глазами, – тяжело заговорил:
– Солдат есть зверь…
Рыжий опустил усы и брови, глядя на Яковлева.
– Солдат есть уничтожитель, – продолжал Яковлев сквозь зубы и тоже выругался крепким, матерным словом.
– Это зачем же ты так? – строго спросил рыжий.
– Мы, Михаил Евсеич, не слыхали никаких этих слов! – просительно сказал Семён. – Это ты, Яковлев, с тоски… так уж…
Яковлев выпрямился и твёрдо стоял против товарищей, снова плотно сжав губы. Только ноздри у него дрожали.
– Ежели Малов узнает про твои речи, он донесёт ротному, пропадёшь ты, Яковлев, да! – внушительно сказал рыжий.
– А ты не донесёшь? – спросил Яковлев, снова оскалив зубы.
Рыжий переступил с ноги на ногу, взглянул вверх и повторил:
– За такие слова не помилуют… брат!
– Ты – донесёшь! – твёрдо заявил Яковлев, упрямый и злой.
– Мне дела нет ни до чего, – угрюмо сказал рыжий. – Я, значит, обязанность исполнил, а летом в запас…
– Мы все пропали! – вполголоса, но сильно крикнул Яковлев. – Тебе что дядя твой сказал?
– Отстань, Яковлев! – попросил Семён.
– Не твоё дело… Хотя бы и дядя…
– Убийца ты, сказал он…
– А ты? – спросил рыжий и ещё раз обругался. Спор принял острый, прыгающий характер. Они точно плевали в лицо друг другу кипящими злобой плевками кратких слов. Семён беспомощно вертел головой и с сожалением чмокал губами.
– И я! – сказал Яковлев.
– Так ты – тоже сволочь…
– Губитель человеческий…
– А ты?
– Братцы, будет! – просил Семён.
– И я! Ну?
– Ага! Так как же ты можешь…
– Не надо, братцы!
Сопровождая каждое слово матерной руганью, солдаты наступали друг на друга, один – болезненно бледный – весь дрожал, другой грозно ощетинил усы и, надувая толстые красные щёки, гневно пыхтел.
– Малов бежит! – сказал Семён с испугом. – Перестаньте, ради Христа…
И в то же время из тьмы раздался пугливый крик Малова:
– Михаил Евсеич! Они форточки открывают…
– Стой! – сказал рыжий. – Смирно!
И он заорал во всю грудь:
– Закрыть форточки, эй! Стрелять будем…
Из мрака выбежал, согнувшись и держа ружьё наперевес, Малов и, задыхаясь, быстро заговорил:
– Я там, – это, – делаю, а они… открывают окно, слышу. Это – чтобы стрелять меня…
– Имеют право! – глухо сказал Яковлев.
– Ах вы, мать…
Малов быстро вскинул ружьё к плечу, раздался сухой треск, – раз, два. Лицо солдата было бледно, ружьё в его руках дрожало, и штык рыл воздух. Рыжий солдат тоже приложился и, прислушиваясь, замер.
– Э, сволочь! – тихо сказал Яковлев, подбивая ствол ударом руки кверху. Раздался ещё выстрел. Рыжий быстро опустил ружьё и тряхнул Малова, схватив его за плечо.
– Перестань, ты…
Малов закачался на ногах и, видя, что все товарищи спокойны, смущённо заговорил:
– Ну и наро-од! Православного человека, солдата престолу-отечеству, – из окошка стрелять, а?
– Трус! Почудилось тебе, – раздражённо сказал рыжий.
Малов завертелся, махая рукой.
– Ничего не почудилось! И не трус. Кому же охота помирать? – забормотал он, ковыряя пальцем замок ружья.
– Сами себя боитесь, – усмехаясь, молвил Яковлев.
Замолчали. И все четверо неподвижно смотрели на груду красных углей у своих ног.
– Ну? – сказал рыжий. – Не самому же мне идти за дровами. Яковлев, ступай…
Яковлев молча сунул ружьё Семёну и, не торопясь, пошёл. Малов взглянул вслед ему, погладил ствол ружья левой рукой, потом поправил фуражку и сказал:
– Один он не снесёт всего, сколько я наломал, конечно!
И тоже шагнул прочь от костра, держа ружьё на плече. Но сейчас же обернулся и радостно объявил:
– Я там целую лавочку расковырял, ей-богу!
У костра остались две свинцовые фигуры и следили, как уголья одевались серым пеплом. Семён погладил рукавом шинели ствол ружья, тихонько кашлянул и спросил:
– Михаил Евсеич! Видит всё это бог?
Рыжий солдат долго шевелил усами, прежде чем глухо и уверенно ответил:
– Бог – должен всё видеть, такая есть его обязанность…
Потом он потёр подбородок и, тряхнув головой, продолжал с упрёком:
– А Яковлев – напрасно это! Обижать меня не за что! Али я хуже других, а?
Они снова замолчали. Там, во тьме, скрипели и хлопали о землю доски. Семён поднял голову, посмотрел в небо, чёрное, холодное, всё во власти тьмы…
Солдат вздохнул и грустно, тихо сказал:
– А может, и нет бога…
Рыжий солдат, тяжело подняв на него глаза, грубо крикнул:
– Не ври!
И начал сгребать уголья в кучу сапогом. Но скоро оставил это, не окончив, оглянулся вокруг и, шевеля усами, хрипло проговорил:
– Надо понять – человек я или нет? Это надо понять, а потом уж…
Он замолчал, закусил усы и снова крепко потер подбородок.
Семён взглянул на него, опустил глаза и осторожно, тихонько, но упрямо заявил:
– Однако другие говорят – нет его…
Рыжий не ответил.
Становилось всё холоднее. Снег перестал падать, и, должно быть, от этого тьма стала неподвижнее и гуще.
Вдали дрожал какой-то странный звук, неуловимый, точно тень…
Из повести
…Вера вышла на опушку леса – узкая тропа потерялась, незаметно сползая по крутому обрыву в круглую котловину.
Омут, в золотых лучах заката, был подобен чаше, полной тёмно-красного вина. Молодые сосны – точно медные струны исполинской арфы; их крепкий запах сытно напоил воздух и ощущался в нём ясно, как звук. В стройной неподвижности стволов, в живом блеске янтарных капель смолы на красноватой коре чувствовалось тугое напряжение роста; сочно-зелёные лапы ветвей тихо качались, их отражения гладили зеркало омута; был слышен дремотный шорох хвои, стучал дятел, в кустах у плотины пели малиновки, и где-то звенел ручей.
Над чёрным хаосом обугленных развалин мельницы курился прозрачный, синий дым, разбросанно торчали брёвна, доски, на грудах кирпича и угля сверкали куски стёкол, и что-то удивлённое мелькало в их разноцветном блеске. Щедро облитая горячим солнцем, ласково окутанная сизыми дымами, мельница жила тихо угасавшею жизнью, печальной и странно красивой. И всё вокруг мягко краснело, одетое в парчовые тени, в огненные пятна тусклого золота, всё было насыщено задумчивой, спокойной песнью весны и жизни, – вечер был красив, как влюблённый юноша.
На плотине, свесив ноги, сдвинув фуражку на затылок, сидел солдат в белой рубахе, с удилищем в руках; он наклонился над водой, точно готовясь прыгнуть в неё. Длинный, гибкий прут ежеминутно рассекал воздух, взлетая кверху, солдат смешно размахивал руками, пятки его глухо стучали по сырым брёвнам плотины, – резко белый и суетливый, он был лишним в тихой гармонии красок вечера.
Неприязненно сдвинув брови, Вера напомнила себе: «Бил мужиков».
Но это не вызвало в ней того чувства, которое она должна была бы испытывать к солдату.
«Если подойти к нему, он, наверное, скажет дерзость», – лениво подумала девушка и, сорвав бархатный лист буковицы, погладила им щёку. В следующую минуту она спускалась вниз, черпая ботинками мелкий песок.
– Вот так караси, барышня! – крикнул солдат навстречу ей. – Глядите-ка!
Поднял левой рукой ведро и протянул Вере.
В мутной воде бились толстые, золотые рыбы с глупыми мордами, мелькали удивлённые круглые глаза. Вера, улыбаясь, наклонилась над ведром, рыба метнулась и обрызгала ей лицо и грудь водою, а солдат засмеялся.
– Здоровенные звери!
Снова закинул удочку, наклонился над омутом, поднял левую руку вверх и замер, полуоткрыв рот. Лицо у него было пухлое, круглое, карие глаза светились добродушно, весело, верхняя губа – вздёрнута, и светлые усы на ней росли неровными пучками. Над головой его толклись комары, они садились на шею, на щёки, на нос – солдат мотал головою, как лошадь, кривил губы, старался согнать комаров сильной струёй свистящего дыхания, а левую руку всё время неподвижно держал в воздухе.
– Эх! – крикнул он, дёрнув удилище; тело его подалось вперёд.
Вера вздрогнула и быстро сказала:
– Вы упадёте в воду…
– Сорвался, окаянный! – с досадой и сожалением сказал солдат. Потом, надевая червяка на крюк, заговорил, качая головой:
– Упаду, сказали? Никак! А и упаду – разве беда? Я – с Волги, казанский, на воде родился, плаваю вроде щуки, мне бы во флот надо, а не в пехоту…
Говорил он быстро, охотно, звонким теноровым голосом и неотрывно смотрел в воду подстерегающим взглядом охотника.
Вера почувствовала, что ей грустно и обидно думать, что он сёк мужиков розгами.
– Вы из экономии? – спросила она негромко.
– Из неё! – отозвался солдат. – Двадцать три человека пригнали нас, пехоты… Чай, скоро назад погонят, в лагери – чего тут делать? Всё уже кончилось, смирно стало. А жить здесь – не больно весело – мужики глядят волками и бабы тоже… Ничего не дают и продавать не хотят. Обиделись!
Он громко вздохнул.
– Послушайте, – печально спросила Вера, – неужели и вы тоже били их?
Солдат взглянул на неё, покачал головой и невесело ответил:
– Я? Нет… Я – не бил. Я – за ноги держал. Одного – старого, старик древний! Начальство говорит – он самый главный заводчик всему этому делу…
Он отвернулся к воде и задумчиво, но рассудительно добавил, как бы говоря сам себе:
– Чай, поди-ка, это ошибка – что же он может, этакий старичок?
– Вам его жалко? – резко спросила Вера. Добродушие солдата возмущало её, в ней росло острое желание придавить этого человека сознанием его вины перед людьми.
– А как же? – пробормотал солдат. – И собаку жалко, не токмо человека. Одного когда пороли, плакал он – не виноват, говорит, простите, не буду – плакал! А другой – только зубом скрипит, молчит, не охнул, – ну, его и забили! Встать с земли не мог, подняли на ноги, а изо рта у него кровь – губу, что ли, прикусил он, или так, с натуги это? Даже не понять – отчего кровь изо рта? По зубам его не били…
Теперь солдат говорил тихо, раздумчиво и дёргал головой снизу вверх. В его словах Вера не слышала сожаления. Она молча, острым взглядом неприязненно прищуренных глаз, рассматривала солдата, тихонько покусывая губы, искала какое-то сильное слово, чтобы ударить в сердце ему и надолго поселить в нём жгучую боль.
– А рыба-то перестала клевать! – озабоченно и негромко воскликнул он. – Она не любит разговоров, рыба! А может – уж поздно!
Он поднял голову, взглянул на небо и улыбнулся, продолжая:
– Хорош вечерок! Ну-ка ещё?
Забросил крючок в омут, посмотрел на Веру и сообщил ей:
– Привычек здешней рыбы не знаю – первый раз ловлю. А у неё разные привычки – тут она так, там – иначе живёт. А вот солдату везде одинаково трудно, особливо же пехоте!
– А крестьянам разве не трудно? – сухо спросила Вера.
– Кто говорит – не трудно! – воскликнул солдат, пожав плечами, и со смешной напыщенностью поучительно добавил: – Ну, начали они дерзко поступать, например – усадьбу поджигали, сено спалили, мельницу – это зачем? Авдеев говорит – дикость это, потому как всё есть человеческая работа и надо её жалеть. Работу, говорит, надо ценить без обиды, а не истреблять зря…
Он пристально взглянул в лицо Веры и строго спросил:
– А вы кто здесь будете?
– Я? Подруга учительницы.
– М-м…
– А что?
– Так. Во время пожара здесь были?
– Нет.
Солдат отвернулся и стал следить за поплавком. Вера почувствовала себя задетой его вопросами, в них явно звучало подозрение. Она решительно опустилась на бревно сзади солдата и выше его и негромко, мягко, но строго заговорила:
– Вы понимаете то, что вас заставляют делать?
Девушка несколько недель агитировала среди рабочих в городе, считала себя опытной, но ей впервые приходилось говорить солдату, её щекотал острый холодок опасности, это возбуждало.
В начале её речи солдат молча и удивлённо посмотрел на неё и невнятно буркнул что-то, потом он отвернулся к спокойному лицу омута и согнул шею, а спустя минуту громко засопел, обиженно заметив:
– Разве я один?
И взмахнул удилищем слишком резко.
Вера убеждённо и горячо говорила о преступной, циничной силе, которая, хитро и расчётливо защищая свою власть, ставит людей друг против друга врагами, будит в них звериные чувства и пользуется ими, точно камнями, для избиения простой и ясной правды жизни, так жадно нужной людям, – правды, о которой тоскует вся тяжкая, больная от усталости и злобы человеческая жизнь.
Солдат бесшумно, не торопясь положил удилище на чёрную, засыпанную углями землю плотины и долго сидел неподвижно, глядя вдаль по течению реки, уходившей в лес.
– Авдеев тоже так говорит! – вдруг заметил он и встал на ноги; лицо у него было озабоченное, а глаза суетливо и радостно бегали по сторонам.
– То же самое, как есть! – торопливо повторил он. – Вы подождите! Он сюда придёт – за рыбой, вы при нём скажите, а?
Беспокойно оглядываясь, он прижал обе руки к груди, болезненно сморщил лицо и громко чмокнул губами, качая головой.
– Али не чувствуешь? Ах ты, господи! Как же нет? А что делать? Приказывают! Идут на усмирение солдаты, и каждый понимает, куда и для чего. И все злятся, нарочно даже разжигают злость, чтобы забыть себя. Ругают дорогой мужиков – дескать, из-за них, сволочей, шагаем по жаре, от них нам беспокойство. Надо быть злым – приказано!
«Какой ничтожный он!» – невольно подумала девушка, разглядывая солдата недобрыми глазами, и лёгкость победы была неприятна ей.
– И, конечно, бывает, верно вы сказали, ты идёшь усмирять бунт, а дома у тебя – свои бунтуют! У нас в третьей роте саратовский солдатик чуть не помешался в уме – он человека заколол во время бунта, а дома у него старшего брата в каторгу заслали, а младшего засекли, умер, тоже за бунт, – вот вам! Ты бьёшь здесь, а твоих – дома, и везде – солдаты! Казаки тоже, ну, казак – он чужой, не русский, дома у него бунта нет, он – другой жизни. А нашему брату каково? Сечёшь человека, и думаешь – может, отца твоего теперь тоже секут? Чай, и мы люди, барышня, а вы вините нас, дескать – звери, – Ну, господи же! Уж какой закон, если русский русского бьёт насмерть! За это в тюрьму садят. Конечно, народ озлился, помещиков жгёт, и это непорядок, а – однако земли-то мужику надобно!?
Слова сыпались из его рта торопливо, он мигал глазами, точно ослеплённый, оглядывался по сторонам, махая правой рукой, и топтался на месте, похожий на пойманную рыбу.
– Вот приду я домой, – говорил он, – а к чему приду? Земли у нас с братом три с половиной – как обернёшься с ней? У брата двое ребят. Да, скажем, я женюсь, тоже и дети – чего будет?
Всё, что он говорил, казалось Вере эгоизмом мужика и глупостью солдата, она слушала холодно, искала в его словах звуки искренней скорби человека, не находила их, и в ней росло чувство недовольства собой.
«Ну – разбудила я в нём крестьянина, какой же в этом смысл?» – с досадой спросила она себя.
А солдат всё говорил, быстро перескакивая с одного на другое, и было трудно следить за его бессвязною речью.
В лесу родился протяжный, печальный звук.
– Кто-то идёт, – сказала Вера, вставая. Солдат замолчал, поднял голову и, глядя в небо, стал слушать.
Лес был наполнен тенями ночи, они смотрели на плотину и воду омута сквозь ветви сосен уже чёрные, но ещё боялись выйти на открытое пространство.
– Это Авдеев поёт, – сказал солдат тихонько. Мягкий голос выбивался из леса и задумчиво плыл в тишине.
– Хорошая песня, – молвил солдат, – Авдеев у нас в роте первый по голосу, только он невесёлый. Вот вы ему скажите – он понимает…
Вере хотелось уйти, но она почувствовала, что это будет неловко, и села снова на бревно, усталая и недовольная собой.
Э-эх, да по но-очам она…
Солдат снова вскинул голову, закрыл глаза, неожиданно, вполголоса подхватил замиравшие звуки песни:
Ма-атушка моя родная-а…
И, улыбаясь, заметил:
– И я тоже люблю песни петь…
А из лесу ему ответили грустно и безнадёжно:
В поле выходила, ждала-ожидала…
Покачивая головой, солдат одним дыханием протяжно вывел:
Эх, да ожидала сына беглого домой…
На гладкой воде омута появился чуть заметный белый серп луны и гордо засверкала большая звезда.
С конца плотины крикнули:
– Эй, Шамов!
– Эй! – отозвался солдат.
Засунув руки в карманы, медленно шёл высокий, серый человек. Вера, не видя его лица, чувствовала чужой взгляд, догадывалась о первой мысли идущего при виде её, и эта мысль была обидна ей.
– Много наловил?
– Много…
– А кто это с тобой?
– Учительша. Вот, браток…
– Здравствуйте! – сказал Авдеев, прикладывая руку к фуражке.
Вера кивнула головой, – мягкий голос прозвучал небрежно и неласково.
Плотная стена сосен медленно подвигалась на плотину, уступая напору теней, а сзади, с другого берега, веяло холодом. Вместе с тьмою сгущалась и тишина, тёплый воздух становился влажным, затруднял дыхание, сердце билось тяжело, жуткая неловкость обнимала тело. Быстро, негромко и точно жалуясь товарищу, Шамов говорил, указывая рукой на Веру:
– Вот, видишь ты, подошла она ко мне и попрекает: вы, говорит, зачем людей бьёте…
– Угу, – неопределённо буркнул Авдеев, присел на корточки и, засучив рукав рубахи, сунул руку в ведро с рыбой.
– Али, говорит, не видите, обманывают вас, солдат-пехоту? – обиженно рассказывал Шамов. Голос его жужжал всё тише и опутывал девушку предчувствием опасности.