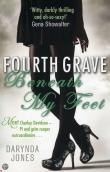Текст книги "Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
Она улыбнулась и снова обвела всех сияющим взглядом.
– Теперь он говорит – товарищи! И надо слышать, как он это говорит. С какой-то смущенной, мягкой любовью, – этого не передашь словами! Стал удивительно прост и искренен, и весь переполнен желанием работы. Он нашел себя, видит свою силу, знает, чего у него нет; главное, в нем родилось истинно товарищеское чувство…
Власова слушала речь Саши, и ей было приятно видеть суровую девушку смягченной, радостной. Но в то же время где-то глубоко в ее душе зарождалась ревнивая мысль: «А как же Паша-то?..»
– Он, – продолжала Саша, – весь охвачен мыслями о товарищах, и знаете, в чем убеждает меня? В необходимости устроить для них побег, да! Он говорит, что это очень просто и легко…
Софья подняла голову и оживленно сказала:
– А вы как думаете, Саша? Это – мысль!
Чашка чая в руке матери задрожала. Саша нахмурила брови, сдерживая свое оживление, помолчала и серьезным голосом, но радостно улыбаясь, сбивчиво проговорила:
– Если действительно все так, как он говорит, – мы должны попытаться! Это наша обязанность!..
Она покраснела, опустилась на стул, замолчала. «Милая ты моя, милая!» – улыбаясь, думала мать. Софья тоже улыбнулась, а Николай, мягко глядя в лицо Саши, тихо засмеялся. Тогда девушка подняла голову, строго посмотрела на всех и, бледная, сверкнув глазами, сухо, с обидой в голосе, сказала:
– Вы смеетесь, я понимаю вас… Вы считаете меня лично заинтересованной?
– Почему, Саша? – лукаво спросила Софья, вставая и подходя к ней.
Вопрос этот показался матери лишним и обидным для девушки, она вздохнула и, подняв бровь, с упреком посмотрела на Софью.
– Но – я отказываюсь! – воскликнула Саша. – Я не приму участия в решении вопроса, если вы будете рассматривать его…
– Перестаньте, Саша! – спокойно сказал Николай.
Мать тоже подошла к ней и, наклонясь, осторожно погладила ее голову. Саша схватила ее руку и, подняв кверху покрасневшее лицо, смущенно взглянула в лицо матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать Саше, печально вздохнула. А Софья села рядом с Сашей на стул, обняла за плечи и, с любопытной улыбкой заглядывая ей в глаза, сказала:
– Вы чудачка!..
– Да, я, кажется, наглупила…
– Как могли вы подумать… – продолжала Софья. Но Николай деловито и серьезно прервал ее:
– Об устройстве побега, если он возможен, – не может быть двух мнений. Прежде всего – мы должны знать, хотят ли этого заключенные товарищи…
Саша опустила голову.
Софья, закуривая папиросу, взглянула на брата и широким жестом бросила спичку куда-то в угол.
– Как, чай, им не хотеть! – вздохнув, сказала мать. – Только не верю я, что можно это…
Все молчали, а ей так хотелось послушать еще о возможности побега!
– Мне нужно повидаться с Весовщиковым! – сказала Софья.
– Завтра я скажу вам, когда и где! – негромко ответила Саша.
– Что он будет делать? – спросила Софья, расхаживая по комнате.
– Его решили пристроить наборщиком в новую типографию. до того времени поживет у лесничего.
Брови Саши нахмурились, лицо приняло обычное суровое выражение, и голос звучал сухо. Николай подошел к матери, перемывавшей чашки, и сказал ей:
– Вы послезавтра на свидание идете, так надо передать Павлу записку. Понимаете – нужно знать…
– Я понимаю, понимаю! – торопливо отозвалась она. – Я уж передам…
– Я ухожу! – заявила Саша и, быстро, молча пожав всем руки, шагая как-то особенно твердо, ушла, прямая и сухая.
Софья положила руки на плечи матери и, покачивая ее на стуле, с улыбкой спросила:
– Вы, Ниловна, любили бы такую дочь?..
– О господи! Хоть день один видеть их вместе! – воскликнула Власова, готовая заплакать.
– Да, немножко счастья – это хорошо для каждого!.. – негромко заметил Николай. – Но нет людей, которые желали бы немножко счастья. А когда его много – оно дешево…
Софья села за пианино и начала играть что-то грустное.
XII
На другой день поутру несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы, ожидая, когда вынесут на улицу гроб их товарища. Вокруг них осторожно кружились шпионы, ловя чуткими ушами отдельные возгласы, запоминая лица, манеры и слова, а с другой стороны улицы на них смотрела группа полицейских с револьверами у пояса. Нахальство шпионов, насмешливые улыбки полиции и ее готовность показать свою силу раздражали толпу. Иные, скрывая свое раздражение, шутили, другие угрюмо смотрели в землю, стараясь не замечать оскорбительного, третьи, не сдерживая гнева, иронически смеялись над администрацией, которая боится людей, вооруженных только словом. Бледно-голубое небо осени светло смотрело в улицу, вымощенную круглыми серыми камнями, усеянную желтой листвой, и ветер, взметывая листья, бросал их под ноги людей.
Мать стояла в толпе и, наблюдая знакомые лица, с грустью думала: «Не много вас, не много! А рабочего народа – нет почти…»
Отворились ворота, на улицу вынесли крышку гроба с венками в красных лентах. Люди дружно сняли шляпы – точно стая черных птиц взлетела над их головами. Высокий полицейский офицер с густыми черными усами на красном лице быстро шел в толпу, за ним, бесцеремонно расталкивая людей, шагали солдаты, громко стуча тяжелыми сапогами по камням. Офицер сказал сиплым, командующим голосом:
– Прошу снять ленты!
Его тесно окружили мужчины и женщины, что-то говорили ему, размахивая руками, волнуясь, отталкивая друг друга. Перед глазами матери мелькали бледные, возбужденные лица с трясущимися губами, по лицу одной женщины катились слезы обиды…
– Долой насилие! – крикнул чей-то молодой голос и одиноко потерялся в шуме спора.
Мать тоже почувствовала в сердце горечь и, обращаясь к соседу своему, бедно одетому молодому человеку, сказала возмущенно:
– И похоронить человека не дают, как хочется товарищам, – что уж это!
Росла враждебность, над головами людей качалась крышка гроба, ветер играл лентами, окутывая головы и лица, и был слышен сухой и нервный шелест шелка.
Мать обнял страх возможного столкновения, она торопливо и негромко говорила направо и налево:
– Бог с ними, коли так, – снять бы ленты! Уступить бы, что уж!..
Громкий и резкий голос звучал, заглушая шум:
– Мы требуем, чтобы нам не мешали проводить в последний путь замученного вами…
Кто-то высоко и тонко запел:
– Вы жертвою пали в борьбе…
– Прошу снять ленты! Яковлев, срежь!
Был слышен лязг вынимаемой шашки. Мать закрыла глаза, ожидая крика. Но стало тише, люди ворчали, огрызались, как затравленные волки. Потом молча, низко опустив головы, они двинулись вперед, наполняя улицу шорохом шагов.
Впереди плыла в воздухе ограбленная крышка гроба со смятыми венками, и, качаясь с боку на бок, ехали верхом полицейские. Мать шла по тротуару, ей не было видно гроба в густой, тесно окружившей его толпе, которая незаметно выросла и заполнила собой всю широту улицы. Сзади толпы тоже возвышались серые фигуры верховых, по бокам, держа руки на шашках, шагала пешая полиция, и всюду мелькали знакомые матери острые глаза шпионов, внимательно щупавшие лица людей.
– Прощай, наш товарищ, прощай… —
грустно запели два красивых голоса.
– Не надо! – раздался крик. – Будем молчать, господа!
В этом крике было что-то суровое, внушительное. Печальная песня оборвалась, говор стал тише, и только твердые удары ног о камни наполняли улицу глухим, ровным звуком. Он поднимался над головами людей, уплывая в прозрачное небо, и сотрясал воздух подобно отзвуку первого грома еще далекой грозы. Холодный ветер, все усиливаясь, враждебно нес встречу людям пыль и сор городских улиц, раздувал платье и волосы, слепил глаза, бил в грудь, путался в ногах…
Эти молчаливые похороны без попов и щемящего душу пения, задумчивые лица, нахмуренные брови вызывали у матери жуткое чувство, а мысль ее, медленно кружась, одевала впечатления в грустные слова.
«Не много вас, которые за правду…» Она шагала, опустив голову, и ей казалось, что это хоронят не Егора, а что-то другое, привычное, близкое и нужное ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце наполнялось шероховатым тревожным чувством несогласия с людьми, провожавшими Егора.
«Конечно, – думала она, – Егорушка в бога не верил, и все они тоже…»
Но не хотела окончить свою мысль и вздыхала, желая столкнуть тяжесть с души.
«О, господи, господи Иисусе Христе! Неужто и меня вот так…»
Пришли на кладбище и долго кружились там по узким дорожкам среди могил, пока не вышли на открытое пространство, усеянное низенькими белыми крестами. Столпились около могилы и замолчали. Суровое молчание живых среди могил обещало что-то страшное, от чего сердце матери вздрогнуло и замерло в ожидании. Между крестов свистел и выл ветер, на крышке гроба печально трепетали измятые цветы…
Полиция насторожилась, вытянулась, глядя на своего начальника. Над могилой встал высокий молодой человек без шапки, с длинными волосами, чернобровый, бледный. И в то же время раздался сиплый голос начальника полиции:
– Господа…
– Товарищи! – громко и звучно начал чернобровый.
– Позвольте! – крикнул полицейский. – Объявляю, что не могу допустить речей…
– Я скажу всего несколько слов! – спокойно заявил молодой человек. – Товарищи! Над могилой нашего учителя и друга давайте поклянемся, что не забудем никогда его заветы, что каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе, угнетающей ее, – самодержавию!
– Арестовать! – крикнул полицейский, но его голос заглушил нестройный взрыв криков:
– Долой самодержавие!
Расталкивая толпу, полицейские бросились к оратору, а он, тесно окруженный со всех сторон, кричал, взмахнув рукой:
– Да здравствует свобода!
Мать оттолкнули в сторону, там она в страхе прислонилась к кресту и, ожидая удара, закрыла глаза. Буйный вихрь нестройных звуков оглушал ее, земля качалась под ногами, ветер и страх затрудняли дыхание. Тревожно носились по воздуху свистки полицейских, раздавался грубый, командующий голос, истерично кричали женщины, трещало дерево оград, и глухо звучал тяжелый топот ног по сухой земле. Это длилось долго, и стоять с закрытыми глазами ей стало невыносимо страшно. Она взглянула и, крикнув, бросилась вперед, протягивая руки. Недалеко от нее, на узкой дорожке, среди могил, полицейские, окружив длинноволосого человека, отбивались от толпы, нападавшей на них со всех сторон. В воздухе бело и холодно мелькали обнаженные шашки, взлетая над головами и быстро падая вниз. Мелькали трости, обломки оград, в дикой пляске кружились крики сцепившихся людей, возвышалось бледное лицо молодого человека, – над бурей злобного раздражения гудел его крепкий голос:
– Товарищи! На что тратите себя?..
Он побеждал. Бросая палки, люди один за другим отскакивали прочь, а мать все пробивалась вперед, увлекаемая неодолимой силой, и видела, как Николай, в шляпе, сдвинутой на затылок, отталкивал в сторону охмеленных злобой людей, слышала его упрекающий голос:
– Вы с ума сошли! Да успокойтесь же!..
Ей казалось, что одна рука у него красная.
– Николай Иванович, уйдите! – закричала она, бросаясь к нему.
– Куда вы? Вас там ударят…
Схватив ее за плечо, рядом с нею стояла Софья, без шляпы, с растрепанными волосами, поддерживая молодого парня, почти мальчика. Он отирал рукой разбитое, окровавленное лицо и бормотал дрожащими губами:
– Пустите, ничего…
– Займитесь им, отвезите к нам! Вот платок, завяжите лицо!.. – быстро говорила Софья и, вложив руку парня в руку матери, побежала прочь, говоря: – Скорее уходите, арестуют!..
По всем направлениям кладбища расходились люди, за ними, между могил, тяжело шагали полицейские, неуклюже путаясь в полах шинелей, ругаясь и размахивая шашками. Парень провожал их волчьим взглядом.
– Идем скорее! – тихо крикнула мать, отирая платком его лицо.
Он бормотал, выплевывая кровь:
– Да вы не беспокойтесь, – не больно мне. Он меня ручкой сабли… Ну, и я его тоже – ка-ак дам палкой! Даже завыл он!..
И, потрясая окровавленным кулаком, закончил срывающимся голосом:
– Погодите, не то будет. Мы вас раздавим без драки, когда мы встанем, весь рабочий народ!
– Скорее! – торопила мать, быстро шагая к маленькой калитке в ограде кладбища. Ей казалось, что там, за оградой, в поле спряталась и ждет их полиция и, как только они выйдут, – она бросится на них, начнет бить. Но, когда, осторожно открыв дверку, она выглянула в поле, одетое серыми тканями осенних сумерек, – тишина и безлюдье сразу успокоили ее.
– Дайте-ка я завяжу вам лицо-то, – говорила она.
– Да не надо, мне и так не стыдно! Драка честная: он – меня, я – его…
Мать наскоро перевязала рану. Вид крови наполнял ей грудь жалостью, и, когда пальцы ее ощущали влажную теплоту, дрожь ужаса охватывала ее. Она молча и быстро повела раненого полем, держа его за руку. Освободив рот, он с усмешкой в голосе говорил:
– Куда вы меня тащите, товарищ? Я сам могу идти!..
Но она чувствовала, что он шатается, ноги его шагают нетвердо и рука дрожит. Слабеющим голосом он говорил и спрашивал ее, не дожидаясь ответа:
– Я жестяник Иван, – а вы кто? Нас трое было в кружке Егора Ивановича, – жестяников трое… а всех одиннадцать. Очень мы любили его – царство ему небесное!.. Хоть я не верю в бога…
В одной из улиц мать наняла извозчика, усадив Ивана в экипаж, шепнула ему:
– Теперь молчите! – и осторожно закутала рот ему платком.
Он поднял руку к лицу и – уже не мог освободить рта, рука бессильно упала на колени. Но все-таки продолжал бормотать сквозь платок:
– Ударов этих я вам не забуду, милые мои… А до него с нами занимался студент Титович… политической экономией… Потом арестовали…
Мать, обняв Ивана, положила его голову себе на грудь, парень вдруг весь отяжелел и замолчал. Замирая от страха, она исподлобья смотрела по сторонам, ей казалось, что вот откуда-нибудь из-за угла выбегут полицейские, увидят завязанную голову Ивана, схватят его и убьют.
– Выпил? – спросил извозчик, обернувшись на козлах и добродушно улыбаясь.
– Хватил горячего до слез! – вздохнув, ответила мать.
– Сын?
– Да, сапожник. А я в кухарках живу…
– Маешься. Та-ак…
Махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся и тише продолжал:
– А сейчас, слышь, на кладбище драка была!.. Хоронили, значит, одного политического человека, – из этаких, которые против начальства… там у них с начальством спорные дела. Хоронили его тоже этакие, дружки его, стало быть. И давай там кричать – долой начальство, оно, дескать, народ разоряет… Полиция бить их! Говорят, которых порубили насмерть. Ну, и полиции тоже попало… – Он замолчал и, сокрушенно покачивая головой, странным голосом выговорил: – Мертвых беспокоят, покойников будят!
Пролетка с треском подпрыгивала по камням, голова Ивана мягко толкала грудь матери, извозчик, сидя вполоборота, задумчиво бормотал:
– Идет волнение в народе, – беспорядок поднимается с земли, да! Вчера ночью в соседях у нас пришли жандармы, хлопотали чего-то вплоть до утра, а утром забрали с собой кузнеца одного и увели. Говорят, отведут его ночью на реку и тайно утопят. А кузнец – ничего человек был…
– Как звали его? – спросила мать.
– Кузнеца-то? Савел, а прозвище Евченко. Молодой еще, уж много понимал. Понимать-то, видно, – запрещается! Придет, бывало, и говорит: «Какая ваша жизнь, извозчики?» – «Верно, говорим, жизнь хуже собачьей».
– Стой! – сказала мать.
Иван очнулся от толчка и тихо застонал.
– Развезло парня! – заметил извозчик. – Эх ты, водка-водочка…
С трудом переставляя ноги, качаясь всем телом, Иван шел по двору и говорил:
– Ничего, – я могу…
XIII
Софья была уже дома, она встретила мать с папиросой в зубах, суетливая, возбужденная.
Укладывая раненого на диван, она ловко развязывала его голову и распоряжалась, щуря глаза от дыма папиросы.
– Иван Данилович, привезли! Вы устали, Ниловна? Напугались, да? Ну, отдыхайте. Николай, Ниловне рюмку портвейна!
Ошеломленная пережитым, тяжело дыша и ощущая в груди болезненное покалывание, мать бормотала:
– Вы обо мне не беспокойтесь…
И всем существом своим трепетно просила внимания к себе, успокаивающей ласки.
Из соседней комнаты вышли Николай, с перевязанной рукой, и доктор Иван Данилович, весь растрепанный, ощетинившийся, как еж. Он быстро подошел к Ивану, наклонился над ним, говоря:
– Воды, больше воды, чистых полотняных тряпок, ваты!
Мать двинулась в кухню, но Николай взял ее под руку левой рукой и ласково сказал, уводя ее в столовую:
– Это не вам говорят, а Софье. Наволновались вы, милый человек, да?
Мать встретила его пристальный, участливый взгляд и с рыданием, которого не могла удержать, воскликнула:
– Что это было, голубчик вы мой! Рубили, людей рубили!
– Я видел! – подавая ей вино и кивнув головой, сказал Николай. – Погорячились немного обе стороны. Но вы не беспокойтесь – они били плашмя, и серьезно ранен, кажется, только один. Его ударили на моих глазах, я его и вытащил из свалки…
Лицо Николая и голос, тепло и свет в комнате успокаивали Власову. Благодарно взглянув на него, она спросила:
– Вас тоже ударили?
– Это я сам, кажется, неосторожно задел рукой за что-то и сорвал кожу. Пейте чай, – холодно, а вы одеты легко…
Она протянула руку к чашке, увидала, что пальцы ее покрыты пятнами запекшейся крови, невольным движением опустила руку на колени – юбка была влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она искоса смотрела на свои пальцы, голова у нее кружилась и в сердце стучало:
«Так вот и Пашу тоже, – могут!»
Вошел Иван Данилович в жилете, с засученными рукавами рубашки, и на молчаливый вопрос Николая сказал своим тонким голосом:
– На лице незначительная рана, а череп проломлен, хотя тоже не сильно, – парень здоровый! Однако много потерял крови. Будем отправлять в больницу?
– Зачем? Пускай остается здесь! – воскликнул Николай.
– Сегодня можно, ну, пожалуй, завтра, а потом мне удобнее будет, чтобы он лег в больницу. У меня нет времени делать визиты! Ты напишешь листок о событии на кладбище?
– Конечно! – ответил Николай.
Мать тихо встала и пошла на кухню.
– Куда вы, Ниловна? – беспокоясь, остановил он ее. – Соня одна управится!
Она взглянула на него и, вздрагивая, ответила, странно усмехаясь:
– В крови я…
Переодеваясь в своей комнате, она еще раз задумалась о спокойствии этих людей, об их способности быстро переживать страшное. Это отрезвляло ее, изгоняя страх из сердца. Когда она вошла в комнату, где лежал раненый, Софья, наклонясь над ним, говорила ему:
– Глупости, товарищ!
– Да я стеснять вас буду! – возражал он слабым голосом.
– А вы молчите, это вам полезнее…
Мать встала позади Софьи и, положив руки на ее плечо, о улыбкой глядя в бледное лицо раненого, усмехаясь, заговорила, как он бредил на извозчике и пугал ее неосторожными словами. Иван слушал, глаза его лихорадочно горели, он чмокал губами и тихо, смущенно восклицал:
– Ох… экий дурак!
– Ну, мы вас оставим! – поправив на нем одеяло, заявила Софья. – Отдохните!
Они ушли в столовую и там долго беседовали о событии дня.
И уже относились к драме этой как к чему-то далекому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая приемы работы на завтра. Лица были утомлены, но мысли бодры, и, говоря о своем деле, люди не скрывали недовольства собой. Нервно двигаясь на стуле, доктор, с усилием притупляя свой тонкий, острый голос, говорил:
– Пропаганда, пропаганда! Этого мало теперь, рабочая молодежь права! Нужно шире поставить агитацию, – рабочие правы, я говорю…
Николай хмуро и в тон ему отозвался:
– Отовсюду идут жалобы на недостаток литературы, а мы все еще не можем поставить хорошую типографию. Людмила из сил выбивается, она захворает, если мы не дадим ей помощников…
– А Весовщиков? – спросила Софья.
– Он не может жить в городе. Он возьмется за дело только в новой типографии, а для нее не хватает еще одного человека…
– Я не подойду? – тихо спросила мать.
Они все трое взглянули на нее и несколько секунд молчали.
– Хорошая мысль! – воскликнула Софья.
– Нет, это трудно для вас, Ниловна! – сухо сказал Николай. – Вам пришлось бы жить за городом, прекратить свидания с Павлом и вообще…
Вздохнув, она возразила:
– Для Паши это не велика потеря, да и мне эти свидания только душу рвут! Говорить ни о чем нельзя. Стоишь против сына дурой, а тебе в рот смотрят, ждут – не скажешь ли чего лишнего…
События последних дней утомили ее, и теперь, услышав о возможности для себя жить вне города, вдали от его драм, она жадно ухватилась за эту возможность.
Но Николай замял разговор.
– О чем думаешь, Иван? – обратился он к доктору.
Подняв низко опущенную над столом голову, доктор угрюмо ответил:
– Мало нас, вот о чем! Необходимо работать энергичнее… и необходимо убедить Павла и Андрея бежать, они оба слишком ценны для того, чтобы сидеть без дела…
Николай нахмурил брови и сомнительно покачал головой, мельком взглянув на мать. Она поняла, что при ней им неловко говорить о ее сыне, и ушла в свою комнату, унося в груди тихую обиду на людей за то, что они отнеслись так невнимательно к ее желанию. Лежа в постели с открытыми глазами, она, под тихий шепот голосов, отдалась во власть тревог.
Истекший день был мрачно непонятен и полон зловещих намеков, но ей тяжело было думать о нем, и, отталкивая от себя угрюмые впечатления, она задумалась о Павле. Ей хотелось видеть его на свободе, и в то же время это пугало ее: она чувствовала, что вокруг нее все обостряется, грозит резкими столкновениями. Молчаливое терпение людей исчезало, уступая место напряженному ожиданию, заметно росло раздражение, звучали резкие слова, отовсюду веяло чем-то возбуждающим… Каждая прокламация вызывала на базаре, в лавках, среди прислуги и ремесленников оживленные толки, каждый арест в городе будил пугливое, недоумевающее, а иногда и бессознательно сочувственное эхо суждений о причинах ареста. Все чаще слышала она от простых людей когда-то пугавшие ее слова: бунт, социалисты, политика; их произносили насмешливо, но за насмешкой неумело прятался пытливый вопрос; со злобой – и за нею звучал страх; задумчиво – с надеждой и угрозой. Медленно, но широкими кругами по застоявшейся темной жизни расходилось волнение, просыпалась сонная мысль, и привычное, спокойное отношение к содержанию дня колебалось. Все это она видела яснее других, ибо лучше их знала унылое лицо жизни, и теперь, видя на нем морщины раздумья и раздражения, она и радовалась и пугалась. Радовалась – потому что считала это делом своего сына, боялась – зная, что если он выйдет из тюрьмы, то встанет впереди всех, на самом опасном месте. И погибнет.
Иногда образ сына вырастал перед нею до размеров героя сказки, он соединял в себе все честные, смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала. Тогда, умиленная, гордая, в тихом восторге, она любовалась им и, полная надежд, думала: «Все будет хорошо, все!» Ее любовь – любовь матери – разгоралась, сжимая сердце почти до боли, потом материнское мешало росту человеческого, сжигало его, и на месте великого чувства, в сером пепле тревоги, робко билась унылая мысль: «Погибнет… пропадет!..»
XIV
В полдень она сидела в тюремной канцелярии против Павла и, сквозь туман в глазах рассматривая его бородатое лицо, искала случая передать ему записку, крепко сжатую между пальцев.
– Здоров, и все здоровы! – говорил он негромко. – Ну, а ты как?
– Ничего! Егор Иванович скончался! – машинально сказала она.
– Да? – воскликнул Павел и тихо опустил голову.
– На похоронах полиция дралась, арестовали одного! – простодушно продолжала она. Помощник начальника тюрьмы возмущенно чмокнул тонкими губами и, вскочив со стула, забормотал:
– Это запрещено, надо же понять! Запрещено говорить о политике!..
Мать тоже поднялась со стула и, как бы не понимая, виновато заявила:
– Я не о политике, о драке! А дрались они, это верно. И даже одному голову разбили…
– Все равно! Я прошу вас молчать! То есть молчать обо всем, что не касается лично вас – семьи и вообще дома вашего!
Чувствуя, что запутался, он сел за столом и, разбирая бумаги уныло и утомленно добавил:
– Я – отвечаю, да…
Мать оглянулась и, быстро сунув записку в руку Павла, облегченно вздохнула.
– Не понимаешь, о чем говорить…
Павел усмехнулся.
– Я тоже не понимаю…
– Тогда не нужны и свидания! – раздраженно заметил чиновник. – Говорить не о чем, а ходят, беспокоят…
– Скоро ли суд-то? – помолчав, спросила мать.
– На днях прокурор был, сказал, что скоро…
Они говорили друг другу незначительные, ненужные обоим слова, мать видела, что глаза Павла смотрят в лицо ей мягко, любовно. Все такой же ровный и спокойный, как всегда, он не изменился, только борода сильно отросла и старила его, да кисти рук стали белее. Ей захотелось сделать ему приятное, сказать о Николае, и она, не изменяя голоса, тем же тоном, каким говорила ненужное и неинтересное, продолжала:
– Крестника твоего видела…
Павел пристально взглянул ей в глаза, молча спрашивая. Желая напомнить ему о рябом лице Весовщикова, она постучала себя пальцем по щеке…
– Ничего, мальчик жив и здоров, на место скоро определится.
Сын понял, кивнул ей головой и с веселой улыбкой в глазах ответил:
– Это – хорошо!
– Ну, вот! – удовлетворенно произнесла она, довольная собой, тронутая его радостью.
Прощаясь с нею, он крепко пожал руку ее.
– Спасибо, мать!
Ей хмелем бросилось в голову радостное чувство сердечной близости к нему, и, не находя сил ответить словами, она ответила молчаливым рукопожатием.
Дома она застала Сашу. Девушка обычно являлась к Ниловне в те дни, когда мать бывала на свидании. Она никогда не расспрашивала о Павле, и если мать сама не говорила о нем, Саша пристально смотрела в лицо ее и удовлетворялась этим. Но теперь она встретила ее беспокойным вопросом:
– Ну, что он?
– Ничего, здоров!
– Записку отдали?
– Конечно! Я так ловко ее сунула…
– Он читал?
– Где же? Разве можно!
– Да, я забыла! – медленно сказала девушка. – Подождем еще неделю, еще неделю! А как вы думаете – он согласится?
Она нахмурила брови и смотрела в лицо матери остановившимися глазами.
– Да я не знаю, – размышляла мать. – Почему не уйти, если без опасности это?
Саша тряхнула головой и сухо спросила:
– Вы не знаете, что можно есть больному? Он просит есть.
– Все можно, все! Я сейчас…
Она пошла в кухню, Саша медленно двинулась за ней.
– Помочь вам?
– Спасибо, что вы?!
Мать наклонилась к печке, доставая горшок. Девушка тихо сказала ей:
– Подождите…
Лицо ее побледнело, глаза тоскливо расширились, и дрожащие губы с усилием зашептали горячо и быстро:
– Я хочу вас просить. Я знаю – он не согласится! Уговорите его! Он – нужен, скажите ему, что он необходим для дела, что я боюсь – он захворает. Вы видите – суд все еще не назначен…
Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпрямилась, смотрела в сторону, голос у нее звучал неровно. Утомленно опустив веки, девушка кусала губы, а пальцы крепко сжатых рук хрустели.
Мать была смята ее порывом, но поняла его и, взволнованная, полная грустного чувства, обняв Сашу, тихонько ответила:
– Дорогая вы моя! Никого он, кроме себя, не послушает, никого!
Они обе молчали, тесно прижавшись друг к другу. Потом Саша осторожно сняла с своих плеч руки матери и сказала вздрагивая:
– Да, ваша правда! Все это глупости, нервы…
И вдруг, серьезная, просто кончила:
– Однако давайте покормим раненого…
Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково спрашивала:
– Сильно болит голова?
– Не очень, только смутно все! И слабость, – конфузливо натягивая одеяло к подбородку, отвечал Иван и прищуривал глаза, точно от яркого света. Заметив, что он не решается есть при ней, Саша встала и ушла.
Иван сел на постели, взглянул вслед ей и, мигая, сказал:
– Кра-асивая!..
Глаза у него были светлые и веселые, зубы мелкие, плотные, голос еще не установился.
– Вам сколько лет? – задумчиво спросила мать.
– Семнадцать…
– Родители-то где?
– В деревне; я с десяти лет здесь, – кончил школу и – сюда! А вас как звать, товарищ?
Мать всегда смешило и трогало это слово, обращенное к ней. И теперь, улыбаясь, она спросила:
– На что вам знать?
Юноша, смущенно помолчав, объяснил:
– Видите, студент из нашего кружка, то есть который читал с нами, он говорил нам про мать Павла Власова, рабочего, – знаете, демонстрация Первого мая?
Она кивнула головой и насторожилась.
– Он первый открыто поднял знамя нашей партии! – с гордостью заявил юноша, и его гордость созвучно отозвалась в сердце матери. – Меня при том не было, – мы тогда думали здесь свою демонстрацию наладить – сорвалось! Мало нас было тогда. А на тот год – пожалуйте!.. Увидите!
Он захлебнулся от волнения, предвкушая будущие события, потом, размахивая в воздухе ложкой, продолжал:
– Так вот Власова – мать, говорю. Она тоже вошла в партию после этого. Говорят, такая – просто чудеса!
Мать широко улыбнулась, ей было приятно слышать восторженные похвалы мальчика. Приятно и неловко. Она даже хотела сказать ему: «Это я Власова!..», но удержалась и с мягкой насмешкой, с грустью сказала себе: «Эх ты, старая дура!..»
– А вы – кушайте больше! Выздоравливайте скорее для хорошего дела! – вдруг взволнованно заговорила она, наклоняясь к нему.
Дверь отворилась, пахнуло сырым осенним холодом, вошла Софья, румяная, веселая.
– Шпионы за мной ухаживают, точно женихи за богатой невестой, честное слово! Надо мне убираться отсюда… Ну как, Ваня? Хорошо? Что Павел, Ниловна? Саша здесь?
Закуривая папиросу, она спрашивала и не ждала ответов, лаская мать и юношу взглядом серых глаз. Мать смотрела на нее и, внутренне улыбаясь, думала: «Вот и я тоже выхожу в хорошие люди!»
И, снова наклонясь к Ивану, сказала:
– Выздоравливайте, сынок!
И ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше:
– У нее уже готово триста экземпляров! Она убьет себя такой работой! Вот – героизм! Знаете, Саша, это большое счастье жить среди таких людей, быть их товарищем, работать с ними…
– Да! – тихо ответила девушка.
Вечером за чаем Софья сказала матери:
– А вам, Ниловна, снова надо посетить деревню.
– Ну, что же! Когда?
– Дня через три – можете?
– Хорошо…
– Вы поезжайте! – негромко посоветовал Николай. – Наймите почтовых лошадей и, пожалуйста, другой дорогой, через Никольскую волость…
Он замолчал и нахмурился. Это не шло к его лицу, странно и некрасиво изменяя всегда спокойное выражение.
– Через Никольское далеко! – заметила мать. – И дорого на лошадях…
– Видите ли что, – продолжал Николай. – Я вообще против этой поездки. Там беспокойно, – были уже аресты, взят какой-то учитель, надо быть осторожнее. Следовало бы выждать время…
Софья, постукивая пальцами по столу, заметила:
– Нам важно сохранить непрерывность в распространении литературы. Вы не боитесь ехать, Ниловна? – вдруг спросила она.
Мать почувствовала себя задетой.
– Когда же я боялась? И в первый раз делала это без страха… а тут вдруг… – Не кончив фразу, она опустила голову. Каждый раз, когда ее спрашивали – не боится ли она, удобно ли ей, может ли она сделать то или это, – она слышала в подобных вопросах просьбу к ней, ей казалось, что люди отодвигают ее от себя в сторону, относятся к ней иначе, чем друг к другу.