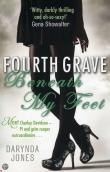Текст книги "Том 7. Мать. Рассказы, очерки 1906-1907"
Автор книги: Максим Горький
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
– А что я сказал попу? – продолжал он спокойнее. – После схода в селе сидит он с мужиками на улице и рассказывает им, что, дескать, люди – стадо, для них всегда пастуха надо, – так! А я пошутил: «Как назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы – нет!» Он покосился на меня, заговорил насчет того, что, мол, терпеть надо народу и богу молиться, чтобы он силу дал для терпенья. А я сказал – что, мол, народ молится много, да, видно, время нет у бога, – не слышит! Вот. Он привязался ко мне – какими молитвами я молюсь? Я говорю – одной всю жизнь, как и весь народ: «Господи, научи таскать барам кирпичи, есть каменья, выплевывать поленья!» Он мне и договорить не дал. Вы – барыня? – вдруг оборвав рассказ, спросил Рыбин Софью.
– Почему я барыня? – быстро спросила она его, вздрогнув от неожиданности.
– Почему! – усмехнулся Рыбин. – Такая судьба, с тем родились! Вот. Думаете – ситцевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем попа и в рогоже. Вы вот локоть в мокро на столе положили – вздрогнули, сморщились. И спина у вас прямая для рабочего человека…
Боясь, что он обидит Софью своим тяжелым голосом, усмешкой и словами, мать торопливо и строго заговорила:
– Она моя подруга, Михайло Иваныч, она – хороший человек, – в этом деле седые волосы нажила. Ты – не очень…
Рыбин тяжело вздохнул.
– Разве я говорю обидное?
Софья, взглянув на него, сухо спросила:
– Вы что-то хотели сказать мне?
– Я? Да! Вот тут недавно человек явился новый, двоюродный брат Якову, больной он, в чахотке. Позвать его – можно?
– Что же, позовите! – ответила Софья. Рыбин взглянул на нее, прищурив глаза, и, понизив голос, сказал:
– Ефим, ты бы пошел к нему, – скажи, чтобы к ночи он явился, – вот.
Ефим надел картуз и молча, ни на кого не глядя, не торопясь, скрылся в лесу. Рыбин кивнул головой вслед ему, глухо говоря:
– Мучается! Ему идти в солдаты, – ему и вот Якову. Яков просто говорит: «Не могу», а тот тоже не может, а хочет идти… Думает – можно солдат потревожить. Я полагаю – стены лбом не прошибешь… Вот они – штыки в руку и пошли. Да-а, мучается! А Игнатий бередит ему сердце, – напрасно!
– Вовсе не напрасно! – хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина. – Его там обработают, начнет палить не хуже других…
– Едва ли! – задумчиво отозвался Рыбин. – Но, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика – где найдешь? Паспортишко достал и ходи по деревням…
– Я так и сделаю! – заметил Игнат, постукивая себе щепой по ноге. – Уж как решились идти против – иди прямо!
Разговор оборвался. Заботливо кружились пчелы и осы, звеня в тишине и оттеняя ее. Чирикали птицы, и где-то далеко звучала песня, плутая по полям. Помолчав, Рыбин сказал:
– Ну, – нам работать надо… Вы, может, отдохнете? Там, в шалаше, нары есть. Набери-ка им листа сухого, Яков… А ты, мать, давай книги…
Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбин наклонился над ними и, довольный, говорил:
– Немало принесли, – ишь ты! Давно в этих делах, – как вас звать-то? – обратился он к Софье.
– Анна Ивановна! – ответила она. – Двенадцать лет… А что?
– Ничего. В тюрьме бывали, чай?
– Бывала…
– Видишь? – негромко и с упреком сказала мать. – А ты грубое говорил при ней…
Он помолчал и, забрав в руки кучу книг, сказал, оскалив зубы:
– Вы на меня не обижайтесь! Мужику с барином как смоле с водой, – трудно вместе, отскакивает!
– Я не барыня, а человек! – возразила Софья, мягко усмехаясь.
– И это может быть! – отозвался Рыбин. – Говорят, будто собака раньше волком была. Пойду, спрячу это.
Игнат и Яков подошли к нему, протянув руки.
– Дай-ка нам! – сказал Игнат.
– Все одинаковы? – спросил Рыбин Софью.
– Разные. Тут газета есть…
– О?
Они трое поспешно ушли в шалаш.
– Горит мужик! – тихонько сказала мать, проводив их задумчивым взглядом.
– Да, – тихо отозвалась Софья. – Никогда я еще не видала такого лица, как у него, – великомученик какой-то! Пойдем и мы туда, мне хочется взглянуть на них…
– Вы на него не сердитесь, что суров он… – тихонько попросила мать.
Софья усмехнулась.
– Какая вы славная, Ниловна…
Когда они встали в дверях, Игнат поднял голову, мельком взглянул на них и, запустив пальцы в кудрявые волосы, наклонился над газетой, лежавшей на коленях у него; Рыбин, стоя, поймал на бумагу солнечный луч, проникший в шалаш сквозь щель в крыше, и, двигая газету под лучом, читал, шевеля губами; Яков, стоя на коленях, навалился на край нар грудью и тоже читал.
Мать, пройдя в угол шалаша, села там, а Софья, обняв ее за плечи, молча наблюдала.
– Дядя Михайло, ругают нас, мужиков! – вполголоса сказал Яков, не оборачиваясь. Рыбин обернулся, взглянул на него и ответил усмехаясь:
– Любя!
Игнат потянул в себя воздух, поднял голову и, закрыв глаза, молвил:
– Написано тут – «крестьянин перестал быть человеком», – конечно, перестал!
По его простому, открытому лицу скользнула тень обиды.
– На-ко, поди, надень мою шкуру, повертись в ней, я погляжу, чем ты будешь, – умник!
– Я лягу! – тихонько сказала мать Софье. – Устала все-таки немного, и голова кружится от запаха. А вы?
– Не хочу.
Мать протянулась на нарах и задремала. Софья сидела над нею, наблюдая за читающими, и, когда оса или шмель кружились над лицом матери, она заботливо отгоняла их прочь. Мать видела это полузакрытыми глазами, и ей была приятна забота Софьи.
Подошел Рыбин и спросил гулким шепотом:
– Спит?
– Да.
Он помолчал, пристально посмотрел в лицо матери, вздохнул и тихо заговорил:
– Она, может, первая, которая пошла за сыном его дорогой, первая!
– Не будем ей мешать, уйдемте! – предложила Софья.
– Да, нам работать надо. Поговорить хотелось бы, да уж до вечера! Идем, ребята…
Они ушли все трое, оставив Софью у шалаша. А мать подумала: «Ну, ничего, слава богу! Подружились…»
И спокойно уснула, вдыхая пряный запах леса и дегтя.
VI
Пришли дегтярники, довольные, что кончили работу. Разбуженная их голосами, мать вышла из шалаша, позевывая и улыбаясь.
– Вы работали, а я, будто барыня, спала! – сказала она, оглядывая всех ласковыми глазами.
– Прощается тебе! – отозвался Рыбин. Он был более спокоен, усталость поглотила избыток возбуждения.
– Игнат, – сказал он, – схлопочи-ка насчет чая! Мы тут поочередно хозяйство ведем, – сегодня Игнатий нас поит, кормит!
– Я бы уступил свою очередь! – заметил Игнат и стал собирать щепки и сучья для костра, прислушиваясь.
– Всем гости интересны! – проговорил Ефим, усаживаясь рядом с Софьей.
– Я тебе помогу, Игнат! – тихо сказал Яков, уходя в шалаш.
Он вынес оттуда каравай хлеба и начал резать его на куски, раскладывая по столу.
– Чу! – тихо воскликнул Ефим. – Кашляет…
Рыбин прислушался и сказал, кивнув головой:
– Да, идет…
И, обращаясь к Софье, объяснил:
– Сейчас придет свидетель. Я бы его водил по городам, ставил на площадях, чтобы народ слушал его. Говорит он всегда одно, но это всем надо слышать…
Тишина и сумрак становились гуще, голоса людей звучали мягче. Софья и мать наблюдали за мужиками – все они двигались медленно, тяжело, с какой-то странной осторожностью, и тоже следили за женщинами.
Из леса на поляну вышел высокий сутулый человек, он шел медленно, крепко опираясь на палку, и было слышно его хриплое дыхание.
– Вот и я! – сказал он и начал кашлять.
Он был одет в длинное, до пят, потертое пальто, из-под круглой измятой шляпы жидкими прядями бессильно свешивались желтоватые прямые волосы. Светлая бородка росла на его желтом костлявом лице, рот у него был полуоткрыт, глаза глубоко завалились под лоб и лихорадочно блестели оттуда, из темных ям.
Когда Рыбин познакомил его с Софьей, он спросил ее:
– Книг, слышал я, принесли?
– Принесла.
– Спасибо… за народ!.. Сам он еще не может понять правды… так вот я, который понял… благодарю за него.
Он дышал быстро, хватая воздух короткими, жадными вздохами. Голос у него прерывался, костлявые пальцы бессильных рук ползали по груди, стараясь застегнуть пуговицы пальто.
– Вам вредно быть в лесу так поздно. Лес – лиственный, сыро и душно! – заметила Софья.
– Для меня уже нет полезного! – ответил он задыхаясь. – Мне только смерть полезна…
Слушать его голос было тяжело, и вся его фигура вызывала то излишнее сожаление, которое сознает свое бессилие и возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломятся, вытер потный лоб. Волосы у него были сухие, мертвые.
Вспыхнул костер, все вокруг вздрогнуло, заколебалось, обожженные тени пугливо бросились в лес, и над огнем мелькнуло круглое лицо Игната о надутыми щеками. Огонь погас. Запахло дымом, снова тишина и мгла сплотились на поляне, насторожась и слушая хриплые слова больного.
– А для народа я еще могу принести пользу как свидетель преступления… Вот, поглядите на меня… мне двадцать восемь лет, но – помираю! А десять лет назад я без натуги поднимал на плечи по двенадцати пудов, – ничего! С таким здоровьем, думал я, лет семьдесят пройду, не спотыкнусь. А прожил десять – больше не могу. Обокрали меня хозяева, сорок лет жизни ограбили, сорок лет!
– Вот она, его песня! – глухо сказал Рыбин.
Снова вспыхнул огонь, но уже сильнее, ярче, вновь метнулись тени к лесу, снова отхлынули к огню и задрожали вокруг костра в безмолвной, враждебной пляске. В огне трещали и ныли сырые сучья. Шепталась, шелестела листва деревьев, встревоженная волной нагретого воздуха. Веселые, живые языки пламени играли, обнимаясь, желтые и красные, вздымались кверху, сея искры, летел горящий лист, а звезды в небе улыбались искрам, маня к себе.
– Это – не моя песня, ее тысячи людей поют, не понимая целебного урока для народа в своей несчастной жизни. Сколько замученных работой калек молча помирают с голоду… – Он закашлялся, сгибаясь, вздрагивая.
Яков поставил на стол ведро с квасом, бросил связку зеленого луку и сказал больному:
– Иди, Савелий, я молока тебе принес…
Савелий отрицательно качнул головой, но Яков взял его под мышку, поднял и повел к столу.
– Послушайте, – сказала Софья Рыбину тихо, с упреком, – зачем вы его сюда позвали? Он каждую минуту может умереть…
– Может! – согласился Рыбин. – Пока что – пусть говорит. Для пустяков жизнь погубил – для людей пусть еще потерпит, – ничего! Вот.
– Вы точно любуетесь чем-то! – воскликнула Софья.
Рыбин взглянул на нее и угрюмо ответил:
– Это господа Христом любуются, как он на кресте стонал, а мы от человека учимся и хотим, чтобы вы поучились немного…
Мать пугливо подняла бровь и сказала ему:
– А ты – полно!..
За столом больной снова заговорил:
– Истребляют людей работой, – зачем? Жизнь у человека воруют, – зачем, говорю? Наш хозяин, – я на фабрике Нефедова жизнь потерял, – наш хозяин одной певице золотую посуду подарил для умывания, даже ночной горшок золотой! В этом горшке моя сила, моя жизнь. Вот для чего она пошла, – человек убил меня работой, чтобы любовницу свою утешить кровью моей, – ночной горшок золотой купил ей на кровь мою!
– Человек создан по образу и подобию божию, – сказал Ефим усмехаясь, – а его вот куда тратят…
– А не молчи! – воскликнул Рыбин, ударив ладонью по столу.
– Не терпи! – тихо добавил Яков.
Игнат усмехнулся.
Мать заметила, что парни, все трое, слушали с ненасытным вниманием голодных душ и каждый раз, когда говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстерегающими глазами. Речь Савелия вызывала на лицах у них странные, острые усмешки. В них не чувствовалось жалости к больному.
Нагнувшись к Софье, мать тихонько спросила:
– Неужто правду говорит он?
Софья ответила громко:
– Да, это правда! О таком подарке в газетах писали, это было в Москве…
– И казни ему не было, никакой! – глухо сказал Рыбин. – А надо бы его казнить, – вывести на народ и разрубить в куски и мясо его поганое бросить собакам. Великие казни будут народом сделаны, когда встанет он. Много крови прольет он, чтобы смыть обиды свои. Эта кровь – его кровь, из его жил она выпита, он ей хозяин.
– Холодно! – сказал больной.
Яков помог ему встать и отвел к огню.
Костер горел ярко, и безлицые тени дрожали вокруг него, изумленно наблюдая веселую игру огня. Савелий сел на пень и протянул к огню прозрачные, сухие руки. Рыбин кивнул в его сторону и сказал Софье:
– Это – резче книг! Когда машина руку оторвет или убьет рабочего, объясняется – сам виноват. А вот когда высосут кровь у человека и бросят его, как падаль, – это не объясняется ничем. Всякое убийство я пойму, а истязание – шутки ради – не понимаю! Для чего истязуют народ, для чего всех нас мучают? Ради шуток, ради веселья, чтобы забавно было жить на земле, чтобы все можно было купить на кровь – певицу, лошадей, ножи серебряные, посуду золотую, игрушки дорогие ребятишкам. Ты работай, работай больше, а я накоплю денег твоим трудом и любовнице урыльник золотой подарю.
Мать слушала, смотрела, и еще раз перед нею во тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла и всех, с кем он шел.
Окончив ужин, все расположились вокруг костра; передними, торопливо поедая дерево, горел огонь, сзади нависла тьма, окутав лес и небо. Больной, широко открыв глаза, смотрел в огонь, непрерывно кашлял, весь дрожал – казалось, что остатки жизни нетерпеливо рвутся из его груди, стремясь покинуть тело, источенное недугом. Отблески пламени дрожали на его лице, не оживляя мертвой кожи. Только глаза больного горели угасающим огнем.
– Может, в шалаш уйти тебе, Савелий? – спросил Яков, наклонясь над ним.
– Зачем? – ответил он с натугой. – Я посижу, – недолго мне осталось с людьми побыть!..
Он оглянул всех, помолчал и, бледно усмехнувшись, продолжал:
– Мне с вами хорошо. Смотрю на вас и думаю – может, эти возместят за тех, кого ограбили, за народ, убитый для жадности…
Ему не ответили, и скоро он задремал, бессильно свесив голову на грудь. Рыбин посмотрел на него и тихонько заговорил:
– Приходит к нам, сидит и рассказывает всегда одно – про эту издевку над человеком. В ней – вся его душа, как будто ею глаза ему выбили и больше он ничего не видит.
– Да ведь чего же надо еще? – задумчиво сказала мать. – Уж если люди тысячами день за днем убиваются в работе для того, чтобы хозяин мог деньги на шутки бросать, чего же?..
– Скучно слушать его! – сказал тихо Игнат. – Это и один раз услышишь – не забудешь, а он всегда одно говорит!
– Тут в одном – все стиснуто… вся жизнь, пойми! – угрюмо заметил Рыбин. – Я десять раз слыхал его судьбу, а все-таки, иной раз, усомнишься. Бывают добрые часы, когда не хочешь верить в гадость человека, в безумство его… когда всех жалко, и богатого, как бедного… и богатый тоже заблудился! Один слеп от голода, другой – от золота. Эх, люди, думаешь, эх, братья! Встряхнись, подумай честно, подумай, не щадя себя, подумай!
Больной качнулся, открыл глаза, лег на землю. Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принес оттуда полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софьей.
Румяное лицо огня, задорно улыбаясь, освещало темные фигуры вокруг него, и голоса людей задумчиво вливались в тихий треск и шелест пламени.
Софья рассказывала о всемирном бое народа за право на жизнь, о давних битвах крестьян Германии, о несчастиях ирландцев, о великих подвигах рабочих-французов в частых битвах за свободу…
В лесу, одетом бархатом ночи, на маленькой поляне, огражденной деревьями, покрытой темным небом, перед лицом огня, в кругу враждебно удивленных теней – воскресали события, потрясавшие мир сытых и жадных, проходили один за другим народы земли, истекая кровью, утомленные битвами, вспоминались имена борцов за свободу и правду.
Тихо звучал глуховатый голос женщины. Как бы доходя из прошлого, он будил надежды, внушал уверенность, и люди молча слушали повесть о своих братьях по духу. Они смотрели в лицо женщины, худое, бледное; перед ними все ярче освещалось святое депо всех народов мира – бесконечная борьба за свободу. Человек видел свои желания и думы в далеком, занавешенном темной, кровавой завесой прошлом, среди неведомых ему иноплеменников, и внутренне, – умом и сердцем, – приобщался к миру, видя в нем друзей, которые давно уже единомышленно и твердо решили добиться на земле правды, освятили свое решение неисчислимыми страданиями, пролили реки крови своей ради торжества жизни новой, светлой и радостной. Возникало и росло чувство духовной близости со всеми, рождалось новое сердце земли, полное горячим стремлением все понять, все объединить в себе.
– Наступит день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут – довольно! Мы не хотим более этой жизни! – уверенно звучал голос Софьи. – Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью; уйдет земля из-под ног их и не на что будет опереться им…
– Так и будет! – сказал Рыбин, наклоняя голову. – Не жалей себя – все одолеешь!
Мать слушала, высоко подняв бровь, с улыбкой радостного удивления, застывшей на лице. Она видела, что все резкое, звонкое, размашистое, – все, что казалось ей лишним в Софье, – теперь исчезло, утонуло в горячем, ровном потоке ее рассказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше всего – строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не нарушать спокойное течение рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров в огонь и, когда из костра поднимались рои искр и дым, – отгонял искры и дым от женщин, помахивая в воздухе рукой.
Однажды Яков встал, тихонько попросил:
– Подождите говорить…
Сбегал в шалаш, принес оттуда одежду, и вместе с Игнатом они молча окутали ноги и плечи женщин. Снова Софья говорила, рисуя день победы, внушая людям веру в свои силы, будя в них сознание общности со всеми, кто отдает свою жизнь бесплодному труду на глупые забавы пресыщенных. Слова не волновали мать, но вызванное рассказом Софьи большое, всех обнявшее чувство наполняло и ее грудь благодарно молитвенной думой о людях, которые среди опасностей идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары честного разума, дары любви к правде.
«Помоги, господи!» – думала она, закрывая глаза.
На рассвете Софья, утомленная, замолчала и, улыбаясь, оглянула задумчивые, посветлевшие лица вокруг себя.
– Пора нам идти! – сказала мать.
– Пора! – устало молвила Софья.
Кто-то из парней шумно вздохнул.
– Жалко, что уходите вы! – необычно мягким голосом сказал Рыбин. – Хорошо говорите! Большое это дело – породнить людей между собой! Когда вот знаешь, что миллионы хотят того же, что и мы, сердце становится добрее. А в доброте – большая сила!
– Ты его добром, а он тебя – колом! – тихонько усмехнувшись, сказал Ефим и быстро вскочил на ноги. – Уходить им пора, дядя Михайло, покуда не видал никто. Раздадим книжки – начальство будет искать – откуда явились? Кто-нибудь вспомнит – а вот странницы приходили…
– Ну, спасибо, мать, за труды твои! – заговорил Рыбин, прервав Ефима. – Я все про Павла думаю, глядя на тебя, – хорошо ты пошла!
Смягченный, он улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе с расстегнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала:
– Надел бы что-нибудь – холодно!
– Изнутри греет! – ответил он.
Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело небо, таяли тени, вздрагивали листья, ожидая солнца.
– Ну, прощайте, значит! – говорил Рыбин, пожимая руку Софье. – А как вас в городе найти?
– Это ты меня ищи! – сказала мать.
Парни медленно, тесной группой подошли к Софье и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. В каждом ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское, и это чувство, должно быть, смущало их своей новизной. Улыбаясь сухими от бессонной ночи глазами, они молча смотрели в лицо Софьи и переминались с ноги на ногу.
– Молока не выпьете ли на дорогу? – спросил Яков.
– Да есть ли оно? – сказал Ефим.
Игнат, смущенно приглаживая волосы, заявил:
– Нету, – пролил я его…
И все трое усмехнулись.
Говорили о молоке, но мать чувствовала, что они думают о другом, без слов, желая Софье и ей доброго, хорошего. Это заметно трогало Софью и тоже вызывало у нее смущение, целомудренную скромность, которая не позволила ей сказать что-нибудь иное, кроме тихого:
– Спасибо, товарищи!
Они переглянулись, точно это слово мягко покачнуло их.
Раздался глухой кашель больного. Угасли угли в горевшем костре.
– Прощайте! – вполголоса говорили мужики, и грустное слово долго провожало женщин.
Они, не торопясь, шли в предутреннем сумраке по лесной тропе, и мать, шагая сзади Софьи, говорила:
– Хорошо все это, словно во сне, так хорошо! Хотят люди правду знать, милая вы моя, хотят! И похоже это, как в церкви, пред утреней на большой праздник… еще священник не пришел, темно и тихо, жутко во храме, а народ уже собирается… там зажгут свечу пред образом, тут затеплят и – понемножку гонят темноту, освещая божий дом.
– Верно! – весело ответила Софья. – Только здесь божий дом – вся земля.
– Вся земля! – задумчиво качая головой, повторила мать. – Так это хорошо, и поверить трудно даже… И хорошо говорили вы, дорогая моя, очень хорошо! А я боялась – не понравитесь вы им…
Софья, помолчав, ответила тихо и невесело:
– С ними становишься проще…
Они шли и разговаривали о Рыбине, о больном, о парнях, которые так внимательно молчали и так неловко, но красноречиво выражали свое чувство благодарной дружбы мелкими заботами о женщинах. Вышли в поле. Встречу поднималось солнце. Еще не видимое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей, и капли росы в траве заблестели разноцветными искрами бодрой, вешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро веселым звоном. Хлопотливо каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые вороны, где-то тревожно свистела иволга. Открывались дали, снимая встречу солнцу ночные тени со своих холмов.
– Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не понимаешь, покуда не удастся ему сказать тебе какое-то простое слово, и одно оно вдруг все осветит! – вдумчиво рассказывала мать. – Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидное, такое дрянное. Господи! Неужели для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе? Это – без оправдания!
Мысль матери остановилась на случае, и он своим тупым, нахальным блеском освещал перед нею ряд однородных выходок, когда-то известных ей и забытых ею.
– Видно – уж всем они сыты и тошно им! Знаю я – земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланяться, когда по деревне вели, и кто не кланялся, того он под арест сажал. Ну, зачем это нужно было ему? Нельзя понять, нельзя!
Софья негромко запела песню, бодрую, как утро…
VII
Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими, неровными лучами, всего касаясь, пытались все осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно сложиться тоске о сыне и страху за него.
Софья скоро уехала куда-то, дней через пять явилась веселая, живая, а через несколько часов снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами, порою заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой.
Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце, оно бьется ровнее и, как зерна в земле, обильно увлажненной, глубоко вспаханной, в нем быстро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силою звуков.
Матери трудно было мириться с неряшливостью Софьи, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и еще труднее с ее размашистыми речами, – все это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого, а на людей смотрит как на любопытные игрушки. Она много говорила о святости труда и бестолково увеличивала труд матери своим неряшеством, говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, постоянными спорами, В ней было много противоречивого, и мать, видя это, относилась к ней с напряженной осторожностью, с подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее Николай.
Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день однообразной, размеренной жизнью: в восемь часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжелая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги. Она чувствовала в нем нечто общее с Андреем. Как хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в новую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея, и не так ярка. Он говорил всегда спокойно, голосом честного и строгого судьи, и хотя – даже говоря о страшном – улыбался тихой улыбкой сожаления, – но его глаза блестели холодно и твердо. Видя их блеск, мать понимала, что этот человек никому и ничего не прощает, – не может простить, – и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалела Николая. И все более он нравился ей.
В девять часов он уходил на службу, она убирала комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое платье и, сидя в своей комнате, рассматривала картинки в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда требовало от нее напряжения, и, читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов. А рассматривание картинок увлекало ее, как ребенка, – о, ни открывали перед нею понятный, почти осязаемый мир, новый и чудесный. Вставали огромные города, прекрасные здания, машины, корабли, монументы, неисчислимые богатства, созданные людьми, и поражающее ум разнообразие творчества природы. Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное, неведомое, чудесное, и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила рассматривать фолианты зоологического атласа, и хотя он был напечатан на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте, богатстве и обширности земли.
– Велика земля! – говорила она Николаю.
Более всего умиляли ее насекомые и особенно бабочки, она с изумлением рассматривала рисунки, изображавшие их, и рассуждала:
– Красота какая, Николай Иванович, а? И сколько везде красоты этой милой, – а все от нас закрыто и все мимо летит, не видимое нами. Люди мечутся – ничего не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если бы знали, как земля богата, как много на ней удивительного живет. И всё – для всех, каждый – для всего, – так ли?
– Именно! – говорил Николай улыбаясь. И приносил еще книг с картинками.
По вечерам у него часто собирались гости – приходил Алексей Васильевич, красивый мужчина с бледным лицом и черной бородой, солидный и молчаливый; Роман Петрович, угреватый круглоголовый человек, всегда с сожалением чмокавший губами; Иван Данилович, худенький и маленький, с острой бородкой и тонким голосом, задорный, крикливый и острый, как шило; Егор, всегда шутивший над собою, товарищами и своей болезнью, все разраставшейся в нем. Являлись и другие люди, приезжавшие из разных дальних городов. Николай вел с ними долгие и тихие беседы, всегда об одном – о рабочих людях земли. Спорили, горячились, размахивая руками, пили много чая, иногда Николай, под шум беседы, молча сочинял прокламации, потом читал товарищам, их тут же переписывали печатными буквами, мать тщательно собирала кусочки разорванных черновиков и сжигала их.
Она разливала чай и удивлялась горячности, с которой они говорили о жизни и судьбе рабочего народа, о том, как скорее и лучше посеять среди него мысли о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не соглашались друг с другом, обвиняли один другого в чем-то, обижались и снова спорили.
Мать чувствовала, что она знает жизнь рабочих лучше, чем эти люди, ей казалось, что она яснее их видит огромность взятой ими на себя задачи, и это позволяло ей относиться ко всем ним с снисходительным, немного грустным чувством взрослого к детям, которые играют в мужа и жену, не понимая драмы этих отношений. Она невольно сравнивала их речи с речами сына, Андрея и, сравнивая, чувствовала разницу, которой сначала не могла понять. Порою ей казалось, что здесь кричат сильнее, чем, бывало, кричали в слободке, она объясняла это себе: «Знают больше – говорят громче…»
Но слишком часто она видела, что все эти люди как будто нарочно подогревают друг друга и горячатся напоказ, точно каждый из них хочет доказать товарищам, что для него правда ближе и дороже, чем для них, а другие обижались на это и, в свою очередь доказывая близость к правде, начинали спорить резко, грубо. Каждый хотел вскочить выше другого, казалось ей, и это вызывало у нее тревожную грусть. Она двигала бровью и, глядя на всех умоляющими глазами, думала: «Забыли про Пашу-то с товарищами…»
Всегда напряженно вслушиваясь в споры, конечно, не понимая их, она искала за словами чувство и видела – когда в слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом, а здесь все разбивалось на куски и мельчало; там глубже и сильнее чувствовали здесь была область острых, все разрезающих дум. И здесь больше говорили о разрушении старого, а там мечтали о новом, от этого речи сына и Андрея были ближе, понятнее ей…
Замечала она, что когда к Николаю приходил кто-либо из рабочих, – хозяин становился необычно развязен, что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он иначе, чем всегда, не то грубее, не то небрежнее.
«Старается, чтобы поняли его!» – думала она. Но это ее не утешало, и она видела, что гость-рабочий тоже ежится, точно связан изнутри и не может говорить так легко и свободно, как он говорит с нею, простой женщиной. Однажды, когда Николай вышел, она заметила какому-то парню:
– Чего ты стесняешься? Чай, не мальчонка на экзаменте…
Тот широко усмехнулся.
– С непривычки и раки краснеют… все-таки не свой брат…
Иногда приходила Сашенька, она никогда не сидела долго, всегда говорила деловито, не смеясь, и каждый раз, уходя, спрашивала мать:
– Что, Павел Михайлович – здоров?