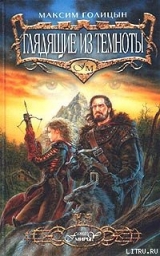
Текст книги "Глядящие из темноты"
Автор книги: Максим Голицын
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Передай, что мы сейчас будем, – кивнул Берг. Айльф хмыкнул и многозначительно поглядел на Берга.
– Он велел прийти только вам, амбассадор Берг. Вам одному.
– Ладно, – кивнул Берг, – передай, я приду. Когда Айльф прикрыл за собой дверь, Берг недоуменно поглядел на Леона:
– Почему только я?
– Потому что они наконец поняли, кто тут главный, – ехидно сказал Леон.
– Ну и ну… – недоуменно покачал головой Берг, – побудь на связи, ладно? На всякий случай.
– На какой случай? – безнадежно спросил Леон.
Его светлость маркграф Солерский облачен был в охотничий костюм, что явно свидетельствовало в пользу неофициального характера приема.
Берг склонил голову и, дождавшись ответного благосклонного кивка, придвинул тяжелый стул и уселся напротив.
– Слушаю вас, государь, – сказал он.
Но тот молчал, глядя на переплетенные пальцы. Берг тоже молчал. Наконец, когда тишина в комнате стала невыносимой, маркграф резко спросил:
– Полагаю, вы осведомили Терру об обстановке в Солере?
– Терре, – осторожно подбирая слова, ответил Берг, – известно, что творится в Срединных графствах. В том числе и в Солере.
– И что она собирается предпринять?
– Ничего, заверяю вас. Терра не вмешивается во внутренние дела.
– По своей воле не вмешивается, – подчеркнул его светлость.
– До сей поры, – спокойно сказал Берг, – никому еще не удавалось навязать Терре свою волю.
– Быть может, ваши владетели просто опасаются приводить корабль в чумную страну?
– Быть может, и так… Зачем им рисковать? Достаточно того, что мы здесь.
– Ретра, – заметил маркграф, – тоже осведомлена о том, что делается в Солере. И она выводит к своей границе войска.
– Я их понимаю, – осторожно сказал Берг.
– Я тоже их понимаю. Увы, боюсь, что в нынешней ситуации я бессилен удержать народный гнев. Мои люди рвутся на Ретру. Она, понимаете ли, душила Солер пошлинами в благополучные годы, а сейчас, когда наши закрома пусты…
«Как удачно, – подумал Берг, – что народный гнев обратился именно на Ретру – а не на тех, что поближе. В солерском замке сейчас паршиво, но никто вроде бы пока не пухнет с голоду».
– Ретра богаче Солера, это верно, – согласился Берг.
– Неизмеримо…
– Пожалуй… Но, по слухам, там скоро будет не лучше, чем в Солере.
– Я обещал этому мерзавцу Эрмольду, – задумчиво проговорил маркграф, – и сдержу слово. Но, если вдуматься, чего оно стоит, данное клятвопреступникам? Орсон обещал нам безопасность…
– Орсон погиб, – все так же осторожно сказал Берг, – а слово есть слово.
– Верно. Вот и я так думаю. Но вот если бы отыскалась могущественная сила, которая не имела бы никаких обязательств перед Ретрой?
Он еле двигал челюстью, точно одеревенел, и Берга вдруг осенило.
«Да ему стыдно, – подумал он. – Понятия о чести связали его по рукам и ногам, а он пытается разорвать эти путы… Господи, да если он переступит через себя, если убедит себя в том, что понятия „честь“ и „слово государя“ пустой звук, он больше ни перед чем не остановится. Ну и влипли же мы… Да еще и этот… непредвиденный фактор… Как все наметалось…»
– Государь, – решился он, – уж если вы ищете помощи, почему вы ищете ее у нас? Почему бы вам не обратиться к тем, кто гораздо могущественнее?
На какой-то момент в комнате воцарилось тяжелое неловкое молчание, точно терранский амбассадор вдруг начал ни с того ни с сего снимать штаны на официальном приеме, потом маркграф медленно поднял брови.
– Это к кому же?
– К… – он не решался сказать прямо, словно и сам стал одним из местных, аборигеном, в чью плоть и кровь въелся страх перед запретными словами, – к тем, кто внизу… полагаю… Из того, что я слышал, если правильно к ним обратиться, они…
– Мало того, что вы мне советуете искать милости у нечисти, – холодно сказал его собеседник, – так еще у нечисти несуществующей. Я не склонен к тому божественному экстазу, в котором нынче пребывает святой отец, но лучше уж так, чем… Это даже не ересь… это кощунство.
Берг выпрямился во весь свой внушительный рост и так же холодно посмотрел ему в глаза.
– Я вашей веры не оскорблял, – медленно, с расстановкой произнес он, – мы просто не поняли друг друга.
– Очень на это надеюсь, – внушительно ответил маркграф.
«Вот зараза, – подумал Берг, – что это я как мальчишка. Какой черт меня дернул?»
– Вы правы, я вас, вероятно, просто неправильно понял, – неожиданно покладисто произнес маркрграф, – вы достойный человек и не посоветуете дурного… Простите, если я был резок… Сердце мое разрывается при виде этого разорения. Смута, голодные бунты… Этого не должно допускать, если ты достойный правитель. Ведь долг сильного – заботиться о малых сих, о тех, кто слаб… старики, дети, женщины… В особенности молодые, красивые женщины. Кто в такой обстановке может поручиться за их безопасность? Берг встал. Не дожидаясь позволения.
– Полностью с вами согласен, государь, – медленно сказал он. – Люди, которым нечего терять, порою ведут себя… отчаянно. Потеряй я, – это я так, для примера, – кого-то близкого мне… Какое было бы мне дело до Солера? Или даже до собственной моей жизни? Ну а случись что-то со мной… или с амбассадором Леоном…
– Терре, – удивился маркграф, – еще не приходилось терять своих послов?
– Приходилось, – согласился Берг, – поэтому она знает, как поступать в таких случаях. Он коротко кивнул, развернулся и вышел.
* * *
– Ты все слышал?
Берг в возбуждении шагал по комнате.
– Ну, – неохотно отозвался Леон, – это ж не в первый раз, ты ж сам говорил…
– Говорил, – задумчиво проговорил Берг, – но с тех пор все зашло еще дальше. Ему нечего терять. А нам нечего тут делать, Леон. У нас перед ним нет никаких обязательств. Мало того. В свете недавних событий мы просто обязаны свернуть миссию и залечь до прибытия Второй Комплексной. Собственно говоря, это приказ…
– Значит, Фембра?
– Да. Фембра. Впрочем, просто так он нас не отпустит. – Берг наконец остановился, с удивлением поглядел на собственные, судорожно сжатые кулаки, медленно разжал их. – Ты знаешь, я думаю, он не так-то рвется идти на Ретру. Понимает, что с этой толпой голодных оборванцев Ретры ему не взять. Вот и старается подставить вместо себя заморскую державу.
– Умеет же он просить любезно!
– А, – Берг хрустнул пальцами, – я все же надеюсь, что дальше угроз он не пойдет. Он все-таки человек чести. Мы его гости. И послы. А вот под домашний арест посадить может – пока мы не станем посговорчивей. Я бы на его месте так и сделал. Так что нам нужно торопиться, Леон…
– Бежать…
– Да. Бежать.
– Без сопровождения, без эскорта? Берг задумался, поджал губы.
– Быть может, – сказал он, – нам следует обратиться к лорду Ансарду. Он рад будет насолить дядюшке.
– Один раз сошло, сойдет и во второй? – усомнился Леон.
– Никакой прямой выгоды Ансарду от нашего присутствия тут нет. От нашего отсутствия, впрочем, тоже. Мы, естественно, щедро его отблагодарим.
– Стекляшками, – Леон поморщился. – В смутные времена они, знаешь ли, теряют цену…
– Почему – стекляшками? Благорасположение Терры тоже немалого стоит. Ансард честолюбив.
– Торгуешь тем, что тебе не принадлежит?
Берг круто развернулся, остановился перед Леоном, поглядел ему в глаза.
– Я готов торговаться на что угодно, – сказал он. – Обещать все, что он попросит. И даже сдержать обещание. Но нам нельзя здесь оставаться, Леон. Сам видишь…
– Да, – неохотно согласился Леон, – вижу. А кстати, где Сорейль?
– При леди Герсенде.
– Ты бы вызвал ее – на всякий случай.
«Если нам все же удастся уйти, – подумал он, – лучше бы она была здесь, а то этот дурень совсем потеряет голову».
– Да, – поспешно кивнул Берг, – я позову ее… да…
* * *
– Сыграй мне что-нибудь, Сорейль, – сказала леди Герсенда, – мне не спится.
Девушка молча опустилась на крохотную скамеечку, пальцы ее обхватили гриф лютни. Мелодия разрасталась, перекрывая шум дождя за окном.
– Эта музыка, – сказала маркграфиня, – ах, эта музыка!
С подпорченных сыростью гобеленов глядели нарядные дамы в алых и розовых платьях, ведущие на поводках лебедей и единорогов, розовые кусты на невидимом ветру осыпали лепестки и никак не могли облететь.
– Что осталось в жизни, кроме этой музыки и этих вышитых людей? – задумчиво произнесла леди Герсенда. – Тени, одни тени! Я уже даже не могу вспомнить, чтобы было иначе. Пытаюсь, но не могу. Ты – иное дело. Иногда я тебе завидую. Ты молода… Ты знаешь, что такое любовь. Амбассадор Берг… Он храбр и силен. И так тебя любит!
Не отрывая пальцев от струн, Сорейль мягко произнесла в такт музыке:
– Вы тоже молоды, сударыня. Молоды и прекрасны. Прислушайтесь, что говорит лютня! Она поет о храбром рыцаре, о герое, который готов бросить к вашим ногам целый мир. Его страсть вернет жизни былые краски. Она как огонь, который согревает кровь усталым путникам, как алое вино, напоенное летним солнцем.
– Что ты такое говоришь! – пробормотала Герсенда. – Мне нельзя слушать…
– Это же мечта, сударыня, – отозвалась Сорейль, – песня… Песня о молодом храбреце, готовом отдать жизнь за прекрасную даму… О, нет! Он готов возродить ее к жизни, точно царевну из старой сказки, спящую в ледяном гробу… Он воскресит ее поцелуем и горячими объятьями!
Она запнулась и покраснела. Покраснела и леди Герсенда – краска залила даже шею.
– Страсть царственной женщины и сильного мужчины оплодотворит скудный край.
– Замолчи, – торопливо сказала леди Герсенда.
– Он такой пылкий, – тихо продолжала девушка. – Он тут, он рядом! Неужто не обжигают вас его пылкие взгляды, не трепещете вы от случайного прикосновения? Сильный, смелый… Ах, один лишь взгляд, одна ваша милостивая улыбка – и жизнь наполнится благоуханием роз и музыкой. Каждый день будет скрывать сокровища ночи, как золотой покров…
– Ты говоришь, – слабо откликнулась леди Герсенда, – недозволенные вещи.
– Я говорю о том, что мне ведомо, – твердо сказала девушка, – я знаю. Боги разгневались на Солер, ибо в царственном союзе недоставало огня.
– Ах, ты меня смущаешь. И этот дождь…
– Он прекратится. Рука об руку вы выйдете в сад, наполненный благоуханием цветов.
Она помолчала и вкрадчиво добавила:
– Это не вы неплодны, сударыня. Это он… Маркграфиня вздрогнула.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. И если вы хотите услышать детский смех… Она мечтательно добавила:
– Дитя будет прикасаться к вам своими крохотными ручками. И грудь ваша наполнится молоком, как земля Солера наполнится благом…
– Замолчи! – Леди Герсенда отвернулась, подошла к окну и еще тише повторила: – Замолчи…
– Чтобы скрепить священный союз мужчины и женщины, Двое поставят на небе радугу… и краски вернутся в мир, и нивы вновь станут плодородными… Разве не ваш священный долг вновь вдохнуть жизнь в лишенный благодати край?
– Я не знаю, – тихо сказала леди Герсенда, – о, я не знаю.
– Это вам только кажется, сударыня, – отозвалась девушка.
Записано со слов Сорейль, фрейлины Герсенды, маркграфини Солерской
Когда-то давным-давно в дельте реки Пенны жила молодая девушка. Ее семья была небогата и ничем не знаменита, но сама она прославилась своей красотой настолько, что бродячие торговцы разносили слухи о ней по всей земле и знатные господа проделывали путь в несколько дней, лишь бы только взглянуть на нее. Рассказывали, что, когда ей не было и года, речная фея, владычица дельты, пролетая мимо на своих прозрачных крыльях, задержалась на миг у колыбели и поцеловала девочку – и оттого глаза ее сверкали и искрились, точно вода в летний полдень, а зубы были белы, как речной жемчуг. И нравом она была как река – легкая, веселая, хоть и капризная и переменчивая. Да, знатные лорды пускались в долгий путь, чтобы полюбоваться на нее, а она отдала свое сердце юноше – сыну местного кузнеца, потому что, как бы ни была она тщеславна (а все красивые и юные девы тщеславны, ибо такова их природа), она понимала, что не будет ей счастья ни во дворце, ни в замке, ибо жить надо не там, где хочешь жить, а там, где предпочел бы умереть – а она предпочла бы закрыть глаза среди речных заводей, тихих плесов и заливных лугов, где летом над осокой стоят стрекозы и бродят по воде водомерки, а зимой ищет корм перелетная птица. И вот уже была назначена свадьба, но неспокойно было у девушки на душе, ибо, хотя она понимала, что будущий муж станет любить ее и баловать, она грустила по своей девичьей воле и по отчему дому, который ей предстояло покинуть, – дом кузнеца, как и заведено у мастеров кузнечного дела, стоял на перекрестке дорог, что ведут в Солер и Ворлан. Видя, как она томится и не находит себе места, ее мать, женщина добрая, но неразумная, сказала: «Я знаю способ утишить твои тревоги. Чтобы сердце было спокойное, нужно жить в мире со всеми богами – и со старыми и с новыми, а те, кого нельзя называть, злопамятны и вдобавок покровительствуют всему, что рождается, живет и умирает. Отдай им перед свадьбой то, что положено им, – увидишь, тебе сразу станет спокойней». И девушка подумала: «Говорят, владычица реки – моя покровительница, а силы земли и силы воды в родстве, уж она-то замолвит за меня особое словечко. Живущие в роще и под рощей ведают всем, что рождается, живет и умирает, и могут навести порчу в ночь зачатия и поворотить глаза мужу, из-за чего он не будет любить меня и баловать так, как я бы хотела, и высушить молоко у коров. Лучше и впрямь пойти к ним, ибо они не помнят добра, но не прощают обиды». И она, накинув на плечи плащ, а на голову – платок, поздно вечером по росе направилась в запретную рощу, собрав все бусы и украшения, что она носила в девичестве, ибо в замужестве ей предстояло носить уже другие украшения. С реки тянуло холодом, солнце зашло за дальний плес, но вода чуть серебрилась, отражая небесный свет, в омуте играла рыба, и выпь кричала в тростниках, что считается недобрым знаком, если затеешь какое-нибудь дело.
Глупой девушке бы подумать, что у старых богов, как и у людей, бывает всякое настроение и дурные дни и что не под силу человеку понимать, почему они поступают так, а не иначе.
Итак, дошла она по росе до запретной рощи (а деревья светились в темноте) и увидела, что там по ветру развеваются пестрые ленточки, привязанные к веткам, хоть многие уже и выгорели на солнце и истрепались под дождями, потому что мало кто в последнее время носил приношения старым богам из страха перед новыми, и повесила на ветку свои бусы – красные, синие и зеленые, – и потревоженный козодой слетел с ветки и напугал ее, и стало ей вдруг не по себе, да так, что она, не разбирая дороги, побежала прочь, но, выбежав из рощи, вдруг поняла, что не может найти пути домой: уже совсем стемнело, лишь река по-прежнему источала серебряный свет, и трава была такая густая и высокая, что почти смыкалась у нее над головой, и она не видела, куда ей идти. Ей стало страшно, что она проплутает всю ночь и опоздает к собственной свадьбе – и что тогда подумает ее любимый? Так что она стала и заплакала, и вдруг услышала, что у нее за спиною кто-то сказал: «Почему ты плачешь?»
Она знала всех в округе, а голос был незнакомый, но приятный, ласковый, и она поборола испуг и обернулась. Перед ней стоял юноша, прекрасный, точно речной бог, на нем был зеленый камзол и богатый плащ, вышитый по подолу дубовыми листьями, и цвет у них был точь-в-точь как он бывает по осени – темно-красный и золотой.
«Не бойся, – сказал он, – я тебя не обижу. Тебя-то я и искал – ведь это ты такая-то?» И он назвал ее имя. А была она девушка, как я уже говорила, тщеславная, вот она и подумала: «Наверное, это из тех, кто приезжает сюда, чтобы посмотреть на мою красоту. Ну, так ведь в этом нет греха, а после свадьбы мне нельзя будет уже красоваться перед чужими мужчинами». Потому она утерла слезы, подняла голову и улыбнулась ему, потому что он был красив и держал себя учтиво. «Козодой вспорхнул прямо у меня перед лицом, а выпь закричала совсем рядом, – сказала она, – я испугалась, побежала не разбирая дороги и вот заблудилась». Потому что она нипочем бы не призналась, что ходила в запретную рощу, да еще чужому, пришлому человеку, хотя он, судя по всему, был учтив и воспитан, богат и знатен. «Ну, так я провожу тебя домой», – сказал он и улыбнулся, и страх ее пропал, и она пошла за ним, куда он показывал, и шли они так, пока небо совсем не стемнело и река не погасла, и тут он остановился и сказал: «Вот мы и пришли», – и она поняла, что опять попала в какое-то незнакомое место: по сторонам росли белые деревья, похожие на те, что были в запретной роще, и светились они точно свечи, а с них свисали желтые цветы и золотые плоды – все в одно и то же время. «Куда ты меня привел? Это не мой дом», – сказала она. «Да, – ответил он, – но это мой дом, и мы будем жить с тобой тут, пока не рухнет небо, и я ни в чем не стану тебе отказывать, потому что женщина прекраснее тебя еще не ступала по этой земле». И она увидела, что деревья отбрасывают тени, а он – нет, и поняла, какие силы разбудила, сама того не желая. И она закричала так, что желтые цветы посыпались с деревьев, а плоды закачались на своих ножках. И он, хотя и понял, что она поняла, начал уговаривать ее приятным голосом и говорить: «Ну что же ты кричишь? Я не причиню тебе зла, потому что ты слишком красива для жителей земли. Что тебе в этом прокопченном подмастерье – он всего лишь человек и состарится и умрет, как человек, а ты, если останешься со мной, будешь жить вечно, пока не рухнет небо». Но она, хотя была девушкой тщеславной и капризной, сердце все же имела истинное, и она сказала: «Люди сотворены, чтобы делить участь друг друга, и я пройду тот путь, что мне предназначен, – и я уже дала клятву». Он показывал ей драгоценности, которые невозможно даже описать, и наряды, к которым не прикасалась рука ни одной смертной женщины, и говорил, что все они будут ее. Но она даже глядеть не хотела на все это великолепие, и отталкивала от себя подношения, и плакала и кричала так, что он в конце концов махнул рукой и сказал: «Я мог бы внушить тебе любовь к себе – такую, что ты позабыла бы, как зовут твоего избранника и себя самое, и жила бы со мной в счастье и довольстве, угождая всем моим желаниям, пока не рухнет небо, но ты тогда будешь не лучше остальных иллюзий, которые я мастер наводить, а мастерство мне прискучило. Я отпущу тебя, – сказал он, – и ничего за это не потребую». И он вновь махнул рукой, и она увидела, что наряды, и деревья, и золотые плоды – все пропало, а сама она стоит по щиколотку в густом иле и вдалеке светится запретная роща. Она взглянула на своего спутника и увидела, что он не человек и никогда человеком не был: перед ней выплясывало премерзкое создание с высунутым языком и горбатое, так что шея у него была свернута назад и он принужден был стоять задом наперед.
Но она уже так испугалась, что дошла до предела собственного страха, а потому лишь молча подобрала юбки и стала выбираться из болота. Тот, кого нельзя называть, не пытался ей помешать, но, когда она уже взбиралась на холм, сказал ей вслед голосом тихим, но звучным: «Я не стану тебе препятствовать, но настанет день, когда ты сама придешь ко мне, и тогда я спрошу за свою обиду такую цену, какую ты только сможешь заплатить». И пропал, точно язык пламени, а она побежала к дому, который, как она теперь увидела, был совсем рядом.
Она ничего никому не сказала и в урочный час сыграла свадьбу со своим суженым, и жизнь пошла своим чередом. Молодой супруг оказался человеком ласковым и покладистым, и любил ее и баловал так, как ей того хотелось, но, конечно, из далеких краев богатые господа уже не приезжали посмотреть на ее красоту – она прикрывала волосы и одевалась скромно, как полагается замужней особе, так что былому веселью пришел конец. Однако долгое время супруги, хотя и жили душа в душу, были бездетны, и уж как она радовалась, когда, прожив десять лет в супружестве, поняла, что наконец оказалась в тягости. Ребенка своего, первого и единственного, она полюбила пуще всего остального и не могла на него нарадоваться, потому что он был красивым и здоровым младенчиком. Однако счастье ее длилось недолго, потому что малыш вскоре начал чахнуть и кашлял так, что задыхался и синел, и старуха, которая приходила поить его травами, в конце концов сказала, что эта болезнь не из тех, что проходят сами по себе, и что на младенчика, скорее всего, навели порчу. «Знаешь ли ты какого-нибудь врага, который радовался бы твоему горю?» – спросила старуха. Молодая женщина удивилась – она была нраву легкого и ладила со всеми, а если кто из подруг завидовал ей когда-то, нынче все это давно минуло и позабылось. «Нет, – сказала старуха, – я говорю не о тех, кто ходит по этой земле, а о тех, кто ходит под ней. Может, ты прогневала кого из них?» И тут молодая мать в ужасе вспомнила тo, что она постаралась позабыть как дурной сон. Ночью она, оставив спящего мужа и неспящее в колыбели дитя, тайком выбралась из дому и побежала в запретную рощу не разбирая дороги, потому что жизнь ее была в ее ребенке и угасала вместе с ним. Посрывав с себя украшения, которыми когда-то одарил ее муж (а они, хоть и подарены были из любви, ничего не стоили по сравнению с теми, что когда-то, давным-давно, предлагал ей тот, кого нельзя называть), она бросила их на землю, упала на колени и стала ждать.
Наконец деревья вокруг вспыхнули, точно свадебные свечи, и она увидела своего давнего знакомого: он вновь предстал перед ней в облике прекрасного юноши, но, когда он заговорил с ней, голос его был холоден и нелюбезен.
«Что тебе здесь надо? – спросил он. – Когда-то ты убежала отсюда не разбирая дороги».
Она, плача, рассказала, что так, мол, и так, и не может ли он помочь ее горю – она втайне полагала, что он и был причиной ее бед, но говорить это прямо побоялась.
«Раньше просил я, – сказал он, – а теперь ты просишь меня. Согласись, это совсем другое дело».
«Я прошу о милости, – ответила она, – и готова за нее расплатиться. Если я все еще желанна тебе, я готова бросить все и уйти с тобой и жить с тобой, пока не рухнет небо. Только сделай так, чтобы мой малыш больше не болел».
«Когда —давным-давно или краткий миг назад, что для меня одно и то же, – я говорил с тобой, – возразил он, – ты была красивее всех женщин, когда-либо ступавших по этой земле. Теперь ты просто одна из многих. Время не щадит никого из живущих под этим небом. Ты не исключение. Зачем ты мне нужна?» В ней пробудилась былая гордость, и она сказала: «Муж говорит, что я все еще красива».
«Ах да, – сказал он, – муж. Что ж, жизнь за жизнь. Глупый ребенок за глупого мужчину. Убей его своей рукой – и твой малыш больше не будет болеть».
Она, бедняжка, задрожала, и упала на землю, и стала молить его о пощаде, но он был непреклонен.
«Жизнь за жизнь, – сказал он, – унижение за унижение. Но я проявлю сострадание; я дам тебе некое снадобье, от которого он просто заснет и не проснется. Иначе твое дитя не переживет этой ночи».
«Хорошо же ты отплатил мне за прошлые обиды, – сказала она грустно. – Ты оставляешь меня вдовой с малышом на руках, да еще и убийцей любимого мужа». «Верно, – сказал он, – об этом я не подумал. Это не входит в мою цену. Что ж, раз ты боишься оставаться одна (а родители ее к тому времени уже умерли), приходи сюда – я отведу тебя в такое место, где ты не будешь знать горя и твой ребенок больше не будет болеть».
И с этими словами он пропал, и как она ни билась, как ни умоляла, запретная роща оставалась пустой. Когда она поняла, что на сострадание ей рассчитывать не приходится (жалость – удел тех, кто ходит по земле, а не тех, кто ходит под ней), она встала и побрела домой и уже на пороге дома заметила, что сжимает в руке склянку с каким-то снадобьем, а как оно попало к ней в руку – неизвестно. Муж уже проснулся и сидел у колыбели малыша, потому что дитя как раз зашлось в кашле. «Ты ходишь по ночам невесть куда, – сказал он, – пока сын наш умирает. Недаром мне говорили про тебя, что ты перед самой свадьбой бегала знаться с духами воздуха и воды и тебя видели там, где женщину видеть негоже». И в голосе его послышался упрек, и она не выдержала и, поцеловав его в последний раз, кинула незаметно щепотку из склянки в кружку с вином, которая стояла на столе. После чего сказала, что сама посидит у колыбели, а он отхлебнул вино и отправился спать, и она задремала, сидя у колыбели, а проснулась от того, что ребенок засмеялся, размахивая кулачками, словно бы он не болел никогда, и, взглянув в ужасе на постель, она увидела, что муж ее лежит холодный и неподвижный. И столь непосильно для нее было увидеть упрек на его лице, что она, обезумев, выхватила малыша из колыбельки и кинулась в запретную рощу, хотя уже рассвело, и туман поднимался с дальних плесов, и те птицы, что перекликались в тумане, уже не были ночными птицами. И там, под белым деревом, на котором были развешаны все ее украшения – и те, что она повесила в ночь перед свадьбой, и те, что кинула на землю нынче ночью, – под белым деревом стоял тот, кого нельзя называть.
«Ты пришла, – сказал он, – хорошо. Больше тебе нечего бояться».
«Я и не боюсь, – возразила она, – потому что я дошла до самого края».
«Ты не нужна мне, – сказал он, – но в память о былом желании я сделаю так, чтобы ты никогда не знала горя. Я отведу тебя в такое место, где твой ребенок никогда больше не будет болеть, а тебе будет хорошо и спокойно».
И она вдруг почувствовала, как неведомая сила подхватила ее и перенесла в совсем иное место. Она очутилась на крохотной лесной прогалине, где меж камней тек прозрачный ручей, а рядом с ним стоял домик, крохотный, но уютный, весь увитый плющом, и дверь домика была открыта, и было видно, как там, внутри, горит очаг и слабо качается пустая колыбелька. «Должно быть, он все-таки пожалел меня, раз устроил все таким образом, – подумала она, – или посчитал, что я достаточно расплатилась за то, что когда-то отказала ему, – ведь те, кто ходит под землей, не помнят добра, но не прощают обиды». Держа на руках ребенка, она переступила порог.
…Через десять лет егеря владетеля Ворланского, деда нынешнего лорда, преследуя раненого оленя, набрели на крохотный домик над ручьем. Он казался нежилым, потому что порос мхом, и дверь, покосившись, свисала на одной петле, – но в доме, у колыбели, беспрерывно покачивая ее, сидела седая женщина, счастливо смеялась и что-то говорила. Когда ее попробовали увести, она умерла, цепляясь за колыбель, в которой лежал крохотный скелетик ребенка.
* * *
– Я искренне расположен к вам, амбассадор Берг, – мягко сказал Ансард, – и к амбассадору Леону. Должен сказать, вы попали в затруднительное положение.
– Ну не настолько уж, – Берг спрятал руки в широкие рукава – в комнате было зябко. – В конце концов за нами стоит сильная держава. Но, мне кажется, для всех будет лучше, если мы на время… устранимся. Лучше, чем если бы, например, мы вдруг очутились в Ретре…
– А!
– Или представьте, например, такую картину… Терра, не дождавшись от нас вестей, присылает миссию, спрашивает о нас… Маркграф, его светлость, – человек прямой. Он хитрить не умеет. Что он ответит?
– А! – вновь повторил Ансард.
– С другой стороны… разве вам самому никогда не понадобится поддержка? И благоволение сильной руки? С Террой лучше быть в мире, знаете ли…
– Я вас понял. – На лице Ансарда ничего не отразилось. – Хорошо… Итак, насколько я понял, вы просите отряд, который сопровождал бы вас…
– До определенного места.
– Не до Ретры, надеюсь.
– О нет.
– Кто мне поручится?
– Не знаю, – сказал Берг, – не знаю, чего нынче стоит честное слово… Но, помилуйте, разве у вас нет своих лазутчиков? Вы будете осведомлены о нашем местонахождении, даже если мы и попытаемся его скрыть. Так что за вами преимущество, милорд.
Какое-то время Ансард смотрел на свои сплетенные пальцы, раздумывая.
– Хорошо, – сказал он наконец, – я дам вам сопровождение. Моего Варрена и отряд с ним. Возможно, вы правы. Мой сиятельный родич сейчас на краю отчаяния, а отчаяние толкает на поступки не… – Он замялся.
– Недальновидные? – подсказал Берг.
– Вот именно.
Ансард выглянул за дверь, бросил караульному:
– Позови Варрена. Скажи ему, пусть готовит людей. И вы, – он обернулся в сторону Берга, – будьте готовы уйти на рассвете. Налегке. Повозкой я вас снабдить не могу – слишком… вызывающе…
«Это ерунда, – подумал Берг, – вещи – небольшая плата за свободу». С оборудованием он не разберется, даже не сообразит, что это оборудование, а на Фембре полно всего. А остальное… Что ж, Ансарду же что-то нужно поиметь с этого…
– Разумеется, – сказал он, – что такое нынче имущество? Прах под ногами…
– Вот именно, – рассеянно отозвался Ансард.
* * *
– Так мы уезжаем, сударь? – в голосе Айльфа не слышалось страха, лишь обычное жизнерадостное любопытство.
– Да, – согласился Леон, – вернее, убегаем. Собери самое необходимое.
– А ваши вещи? Такие замечательные вещи!
– Останутся здесь. Я же сказал – самое необходимое.
– И она тоже, сударь? – он покосился на Сорейль, которая неподвижно сидела в кресле, напоминая вырезанную из мрамора статую. Губы ее были полуоткрыты, глаза неотрывно глядели на Берга.
– Да, – неохотно отозвался Леон, – она тоже. Айльф покачал головой, но ничего не сказал. Он аккуратно выложил на кушетку походную одежду, извлек сапоги для верховой езды.
– Почистить надо бы, – пробормотал он, обтирая замшу рукавом.
– Зачем? – удивился Леон. – Все равно выпачкаются. Ты только погляди, что на дворе творится!
– Положено так, сударь. – Он сгреб сапоги за голенища и выскользнул в прихожую, но тут же вернулся.
– Там вас кое-кто спрашивает, сударь, – вполголоса произнес он, покосившись на Сорейль. – Вас или амбассадора Берга.
– Кто? – удивился Берг.
– Не велел говорить.
– Ладно, – сказал Берг, в свою очередь не отводя взгляда от Сорейль, – погляди, что там, Леон. Вот тайны Мадридского двора, ей-богу!
Леон вышел в полутемную прихожую. Она казалась пустой, и он невольно вздрогнул, когда от стены отделилась темная фигура.
– Варрен! – удивленно воскликнул он. – Что так рано?
– Планы изменились, сударь, – тихо отозвался Варрен. – Лучше бы уйти во вторую стражу…
– Что ж, ночью скакать? А как же отряд? Варрен приблизился к нему вплотную, схватил за рукав. Даже сквозь грубую ткань Леон почувствовал жар его ладони.
– Не… надо… Я сам вас выведу. Это…
Он запнулся, глаза его сверкали в полумраке.
– Но лорд Ансард велел, – нерешительно возразил Леон.
– Я всегда делал так, как он велел, – неопределенно отозвался Варрен, – нынче же… Что дороже ценится там, в небесах, – рыцарская верность или рыцарская честь?
Решительно ничего не поняв, Леон пожал плечами: – Это одно и то же, Варрен.
– Не всегда, сударь мой Леон… – угрюмо отозвался Варрен. —Ладно, да что там… Не знаю, может, Двое давно уж отвернулись от нас, что бы там нынче ни гвердил святой отец, но если они все же не совсем нас оставили… то пускай видят…








