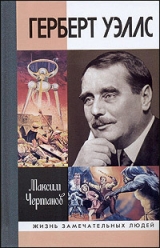
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
В сентябре 1925-го Эйч Джи ездил в Англию, в нарушение своего принципа взяв с собой Одетту; потом съездил еще раз, на Рождество, и засел в «Лу-Бастидон» до мая 1926-го. Его и Кэтрин материальное положение продолжало улучшаться: за «Схему истории» супруги ежегодно получали 30 тысяч долларов роялти, «Клиссольд» также сулил неплохой доход. Куда Уэллсы девали деньги? Жили широко, посещали дорогие курорты, учили детей в шикарных колледжах, кормили пол-Лондона обедами, себя не обижали, но помогали и другим. Кэтрин большую часть своей половины дохода тратила на благотворительность. Уэллс платил за обучение своих четверых детей, содержал Изабеллу с ее мужем, Ребекку Уэст, сестру Одетты, Дороти Ричардсон, помогал Элизабет Хили. Делал пожертвования в Британскую ассоциацию развития науки, в фонды, занимающиеся медицинскими исследованиями, в школы Оундл и Саммерхилл. Давал деньги на содержание журналов и газет – даже когда эти издания ему не нравились. При этом мог поднять невообразимый шум из-за 100 фунтов гонорара или судебных издержек.
Он перестал опасаться аппетитов Одетты и рассказал ей правду о своем богатстве. Хозяйство было поставлено на широкую ногу, куплен автомобиль, Одетте назначена рента. Жизнь в «Лу-Бастидон» была в целом приятна, но отношения между «страстными друзьями» стали ухудшаться, когда Одетта поняла, насколько ее партнер богат и знаменит и какие влиятельные люди числятся в его друзьях. В «Постскриптуме»
Эйч Джи не пощадил Одетту: бестолковая, вульгарная, алчная. Одетта говорила, что он капризный, неблагодарный, пошлый, грубый, жадный, эгоистичный, так что разобраться, кто был виноват в ссорах, не представляется возможным. Уэллс пишет, что она обижала соседей, оскорбляла прислугу, при гостях вела себя непристойно. По словам Одетты, это он со всеми ссорился, беспричинно ревновал ее, ударил, обходился как с прислугой или наложницей, не позволял перед гостями рта раскрыть. Преувеличивали, вероятно, оба. Но домоправительница Фелисия Голетто вспоминала, что «хозяин» был учтив и добр с прислугой и жившими по соседству крестьянами, а от «хозяйки» никому не было житья.
В 1926-м Уэллс хлопотал о предоставлении Одетте Кюн французского гражданства и характеризовал ее так: «Порывистая, неблагоразумная, болтает лишнее, авантюрная… но я знаю ее достаточно, чтобы утверждать: она слишком честна, слишком порывиста, чтобы участвовать в каких-либо политических интригах… Она дала мне счастье и безмятежную дружбу, каких никто никогда не давал мне…» Эти слова так же нельзя считать правдивыми, как и ругательства, которыми Уэллс осыпал Одетту. Они свидетельствуют лишь о том, что, какими бы ни были отношения Уэллса с человеком, он не отказывался для него хлопотать в практических вопросах.
Конец марта и часть апреля 1926 года Уэллс провел в Лондоне по издательским делам, а в мае, когда он вернулся в Грасс, Англию парализовала забастовка. Черчилль, министр финансов, послушался экспертов, которые предлагали искусственно повышать курс фунта. Кейнс предупреждал, что этого делать нельзя. Рост фунта привел к дефляции цен и зарплат. Особенно это отразилось на горной промышленности. Владельцы шахт решились на сокращение зарплаты на 10–50 процентов и увеличение трудового дня. Черчилль дал согласие на выплату горнякам денежных пособий, но в 1926-м распорядился выплаты остановить. Ответом стала крупнейшая в истории забастовка, к которой присоединились рабочие других отраслей: общее количество участников достигло пяти миллионов. Черчилль воспринял это как объявление войны. Организовали штрейкбрехеров. Осенью шахтеры капитулировали.
Уэллс откликнулся на события романом «Между тем» – (Meanwhile (The Picture Of A Lady): всеобщая забастовка в нем присутствует «между тем», то есть в качестве предлога для бесед, ведущихся богатыми англичанами на Ривьере. Он поделил себя между писателем Семпаком, разглагольствующим о новом мироустройстве, и совестливым богачом Райландсом. «Легко нам сидеть здесь и терпеливо ждать, но каково шахтеру там, в темном и сыром подземелье», – говорит Райландс, полагающий, что состоятельные люди должны шахтеру как-нибудь помочь, а Семпак ему на это отвечает: «Если я пошлю ему немного денег, это не решит проблему. Так зачем же притворяться? <…> Сперва необходимо исправить человеческие умы, и только после этого страданиям рабочих в темных шахтах может быть положен конец».
Другая тема курортных разговоров – фашизм. Тремя годами ранее Муссолини пообещал «очистить Италию от „коммунистов и масонов“» (что не помешало его правительству признать СССР); в июле 1924-го ввел ограничения на свободу прессы, а зимой 1926-го присвоил себе право издавать законы без согласования с парламентом. «Ослабевший мир жаждал уверенного и волевого человека, – говорят персонажи уэллсовского романа, – и этот человек пришел». Сильной руки жаждали не только в Италии; в 1923 году в Англии была образована партия «Британские фашисту», потом еще одна, «Имперская фашистская лига». Фашисты предложили свои услуги для подавления шахтерских выступлений. Консерваторы от помощи фашистов брезгливо отказались, и те канули в небытие (фашизм в Британии возродится через восемь лет и с тем же успехом). Но в мае Уэллсу казалось, что фашизм в его стране недалек от победы. «Злобные, ненавидящие все новое, нравственно ограниченные люди теснят нас повсюду». Итальянский фашизм в 1920-е годы импонировал очень многим «приличным» людям. Уэллс в их число не входил: «Италия – одна большая тюрьма. Тюрьма с казнями и пытками, тюрьма для каждого, кто мыслит, кто высказывает свое мнение». Почему человек, так легко «раскусивший» фашистов, в то время как иные мыслители годами прислушивались к ним, был слеп в отношении большевиков? Он видел лишь то, что отличает одних от других: фашисты проповедовали религиозный фундаментализм и национализм, тогда как большевики то и другое (во всяком случае, на словах) отрицали. Того, что объединяло две системы, он не заметил.
Напоследок одна деталь. Семпак постоянно твердит о планировании, но однажды произносит следующее: «Все вещи в человеческой жизни, которые чего-то стоят, были созданы неловкими и неэлегантными людьми, людьми, находящимися в жестоком конфликте с самими собой, людьми, которые движутся на ощупь и ошибаются. Они терзают себя и не успокаиваются». Как же тогда утопийцы, действующие по плану, а не на ощупь, ни от чего не страдающие, живущие в ладу с собой (исключение – «Сон»), будут создавать вещи, которые чего-то стоят?
* * *
Летом Уэллс провел много времени в Англии со старшими сыновьями. Джипу, который был сотрудником кафедры зоологии лондонского Университетского колледжа, отец предложил стать его соавтором: у него появилась новая грандиозная идея. Нужно написать книгу наподобие «Схемы истории», только с естественно-научным уклоном. Проект получил название «Наука жизни» (Science of Life). Вдвоем справиться с таким объемом работы было немыслимо, тем более что Уэллс-старший не был сколько-нибудь приличным биологом; третьим позвали оксфордского профессора Джулиана Хаксли, внука учителя Уэллса. Составили план, в соответствии с которым львиная доля труда на первых порах досталась Хаксли. Тот принял должность в лондонском Кингс-колледже и писал Уэллсу, что у него не хватает времени на новый проект, Уэллс ругался: «Я не могу следить за вами с Джипом, как старая курица за утятами. Праздники, отдых, каникулы, всевозможные подобные пустяки, похоже, делают дальнейшую работу над „Наукой жизни“ невозможной. Хорошо, значит, бросим это, и чем скорее бросим, тем меньше сил будет потрачено впустую». Это были обычные рабочие трения.
С планом «Науки жизни» Эйч Джи в августе 1926-го вернулся в Грасс, где его ждало другое грандиозное мероприятие: он затеял строить дом с гаражом на несколько автомобилей, большой современной кухней, удобным кабинетом. Купил участок в четверти мили от «Лу-Бастидона»: рядом – скалы, речка, роща оливковых деревьев. Архитектор, как и при строительстве «Спейд-хауса», был в отчаянии: заказчик во все вмешивался. Тем не менее строительство завершилось менее чем за год. Дом назвали «Лу-Пиду» (сокращение от французского «Le Petit Dieu» – «маленький бог» – так льстивая Одетта любила называть своего друга). На дом был оформлен узуфрукт – право пожизненного пользования, в пользу Кюн, а над камином выбита надпись «Сей дом построили двое влюбленных», которая вызывала недоуменные смешки у гостей. По соседству снимали виллу Расселы: Элизабет, недолюбливавшая Уэллса, назвала строящееся жилище «громадным особняком в восточном стиле, наподобие дворца Кубла-хана, вмещающего много дев и арф».
В начале 1927-го Уэллс провел несколько недель в Лондоне и познакомился с человеком, который надолго станет связующим звеном между ним и Россией. Поводом к знакомству послужили китайцы. Их компартия находилась в тесных отношениях с ВКП(б) и Коминтерном, в Европе и США к китайским «левым» относились очень плохо. Уэллс опубликовал в конце 1926-го серию статей на «китайскую тему» в «Санди экспресс», где убеждал своих соотечественников в том, что в Китае коммунисты вовсе не «режут людей», а пытаются создать планируемое общество. (Позднее Уэллс изменит свое мнение о китайском коммунизме.) Статьи прочел Иван Майский, советник полпредства в Лондоне и поклонник уэллсовских книг. Он отправил автору письмо, в котором мягко укорял его за отрицание диктатуры пролетариата. Обычно у Эйч Джи слова «диктатура пролетариата» вызывали изжогу. Но письмо Майского было так деликатно и мило составлено, что Уэллс пригласил его отобедать в «Истон-Глиб».
Майский был революционером со студенческих лет, в 1908-м эмигрировал, окончил экономический факультет Мюнхенского университета, с 1912 по 1917 год жил в Англии, вернувшись в Россию, входил в состав эсеро-меньшевистского правительства в Самаре, в 1920-м стал большевиком. Это был общительный, интеллигентный человек, любитель искусства. Он уже встречался с Уэллсом в ноябре 1926-го на приеме в советском полпредстве, но тот его не запомнил. Теперь знакомство состоялось: чета Майских посетила чету Уэллсов, все друг другу понравились, предполагалось, что общение станет регулярным. Но уже через несколько месяцев Майскому пришлось уехать. 12 мая 1927 года Скотленд-Ярд провел обыск в здании, где находились советское торгпредство и английская (с советским капиталом) торговая компания «Аркос», и обнаружил у шифровальщиков торгпредства документы, подтверждающие связь с компартиями Англии и США. На заседании палаты общин Болдуин заявил, что советские торговые учреждения ведут шпионаж и подрывную деятельность. Советское посольство утверждало, что «подрывные документы» подброшены полицией. Но по предложению Болдуина торговые и дипломатические отношения с СССР были разорваны. Лейбористы выступили против такого шага, но очень вяло. Майский получил назначение в Токио и в начале июня пришел к Уэллсу попрощаться. Говорили о русских делах. Но Уэллсу было совсем не до России.
В марте его пригласили в Сорбоннский университет – прочесть лекцию. В Париж с ним приехала Кэтрин, жившая тогда во Франции. Они давно не проводили столько времени вместе: оказалось, что гулять вдвоем по Парижу приятно и весело. Познакомились с четой Кюри. В Лондон вернулись тоже вместе. Кэтрин сказала, что ей нездоровится, но значения этому не придала, не до того: Джип должен был жениться. 24 апреля состоялась его свадьба с Марджори Крэйг, а 25-го часть семейства уехала во Францию: молодожены – в свадебное путешествие, отец – достраивать дом. В июне он должен был ехать в Женеву на конференцию по вопросам демографии. Перед отъездом попросил Кэтрин на всякий случай показаться врачу. Два дня спустя она была на консультации у хирурга, через неделю консилиум диагностировал неоперабельный рак. Жить ей оставалось полгода.
* * *
«Родная мамуля, моя дорогая, дорогая моя жена!
Сегодня я получил письмо от Фрэнка и узнал, как серьезно ты больна и что ты, может быть, еще долго будешь больна. Моя дорогая, я люблю тебя больше всех на свете, как никого никогда не любил, и я немедленно еду, чтобы быть с тобой и заботиться о тебе и делать все, чтобы тебе было хорошо… Я еду сейчас же, только улажу здесь пару мелочей, чтобы не возвращаться и быть с тобой безотлучно столько, сколько нужно. Моя дорогая, моя дорогая, самое дорогое мое сердечко…»
К вечеру 13 мая Уэллс уже был в Англии. Он надеялся, что Кэтрин не знает о приговоре, но она знала. Джип с женой тоже приехали. Эйч Джи не мог смириться, приглашал одного врача за другим, все-таки сделали операцию, облучали рентгеном – все это было мучительно, и она просила оставить ее в покое. В отчаянии Уэллс написал Маргарет Сэнджер, что примет «абсолютно любой совет, любую помощь» медицинского характера. В советах не было недостатка, в том числе идиотских: Шоу полагал, что рак является следствием «дурных мыслей» и рекомендовал гомеопатию. Беннет отыскал врача, который обещал, что его методика может продлевать жизнь онкологическим больным, но оказался шарлатаном. Уэллс, однако, не оставлял попыток, ведя переговоры со специалистами в Англии и во Франции (куда он ездил в то лето несколько раз на один день).
До конца июня Кэтрин могла спускаться по лестнице, потом ее стали носить. Купили кресло-каталку, каждый день возили ее в парк. Ей хотелось в последний раз увидеть море – в автомобиле ее свозили на курорт Феликстоу. В «Истон-Глиб» бывали гости, как раньше. Она попросила купить патефонных пластинок с классической музыкой. «Мы усаживались вместе на солнышке и слушали Бетховена, Баха, Перселла и Моцарта, а когда она стала слабее и ей трудно было сосредоточиться, мы сидели рядом в тишине, в сумерках, и с интересом смотрели, как среди только что занявшихся поленьев мерцают первые голубые огоньки и разгорается пламя».
Кэтрин хотела дожить до свадьбы младшего сына с его подругой Пегги Гиббонс, которая была назначена на 7 октября. В ход пошел морфий. «Вначале я приходил к ней во время завтрака, и она бывала весела, а часам к одиннадцати сиделки вывозили ее в сад. Потом она стала уже начинать день с ленча, после которого спала до чая, и только между чаем и отходом к ночному сну приходила в себя и как-то оживлялась. Она худела и стала совсем тоненькая, но в изнуренном лице было странное очарование, что-то напоминавшее Джейн в юности. Она иссохла и стала поистине крохотной. При этом вид у нее был не изможденный и не пугающий, и она неизменно ухитрялась не приводить окружающих в отчаяние. Еще за месяц до смерти она провела час или даже больше со своим парикмахером из Лондона, и он завил и уложил ее прелестные волосы». Она сама заказывала свадебный завтрак и весь день 5 октября провела в хлопотах. 6-го она совсем ослабела и вечером, когда муж держал ее за руку, умерла. Откладывать свадьбу ни у кого не было сил. Бракосочетание состоялось в церкви ранним утром, чтобы избежать посторонних. «Так хороши были лиловые и белые хризантемы в то октябрьское утро! Казалось, просто невероятно, что я уже не могу принести их ей полюбоваться».
Она оставила записную книжку с распоряжениями по хозяйству, среди которых содержалось требование кремировать ее тело. Кремация состоялась 10 октября. Обряд был не церковный: Уэллс сам написал прощальную речь, а прочел ее Томас Пейдж, доктор филологии. Шарлотта Шоу оставила странные воспоминания о похоронах, которые много лет переходят из книги в книгу: по ее мнению, церемония представляла собой «нечто кошмарное», ее нервы «были истерзаны», музыка «безобразна», речь, произнесенная «бог знает кем», «ужасна», а атмосфера «повергала в пучину страдания», в результате чего она пришла домой разбитой (тогда как с похорон подруги надлежит возвращаться, по-видимому, бодрой и в приподнятом настроении). «А когда дошло до места, где говорилось: „Она никогда не позволяла себе чем-нибудь возмутиться, она никогда никого не осудила“, слушателей, каждый из которых был в большей или меньшей степени знаком с подробностями личной жизни Уэллса, пробрала дрожь… и Эйч Джи – Эйч Джи вдруг самым натуральным образом завыл…» Эйч Джи действительно все время плакал, по словам той же Шарлотты Шоу, «как ребенок»: его горе миссис Шоу почему-то истолковала как отчаяние нераскаянной души по поводу своих грехов.
Остальные присутствующие нашли церемонию красивой и трогательной. В зал, где стоит печь, вдовец идти боялся, но Шоу посоветовал ему сделать это. А вот заключительный фрагмент из речи, которой проводили Кэтрин: «Ее жизнь была звездой, огонь устремляется к огню и свет к свету. Она возвращается в горнило всего сущего, из которого была извлечена ее жизнь, но она остается, бережно хранимая в глубине наших сердец, и живет вечно в самой сути свершенных ею дел». У верующих и неверующих могут быть разные представления о том, куда ушла Кэтрин Уэллс. Но мы знаем точно, что Дверь в стене для нее открылась. «Сон в этой жизни, но ведь и эта жизнь – тоже сон… Сны во сне; сны, в которых спишь и видишь сновидения».
Глава третья ЗАГОВОРЩИКИ«В каком-то смысле моя жизнь в прошлом году окончилась, и я пытаюсь вести некую разновидность существования, которое тоже подходит к концу. Я не могу жить в Англии. Сердце рвется из нее вон». Так Эйч Джи писал своему старшему брату Фрэнку спустя год после смерти жены. В память о ней он подготовил «Книгу Кэтрин Уэллс». Дом остался детям и внукам: его хозяин уехал в Грасс. Ему казалось, что он не живет, а доживает; он составил новое завещание (по предыдущему почти все его состояние наследовала Кэтрин), в котором делил наследство между детьми; были также предусмотрены суммы для братьев и Изабеллы. Одетта и Ребекка в том завещании не упоминались – обеим было выделено содержание, которое они должны были получать до замужества.
С Ребеккой поддерживалась переписка; зимой заболел Энтони, подозревали туберкулез, отец писал обеспокоенные письма, просил Ребекку не стесняться в расходах. Мальчика устроили в туберкулезный санаторий, но диагноз оказался ошибочным. Опасность миновала, и отношения между матерью и отцом снова ухудшились. Уэст выпустила сборник рецензий «Странная необходимость» – в одной из них было немало ядовитых стрел в адрес Уэллса. Тот отозвался россыпью иронических писем: Уэст не является серьезным критиком, а ее беллетристика становится все хуже и хуже. Но эта перепалка была не так важна, как ссоры из-за воспитания сына. «Мне очень жаль Энтони, – писал Уэллс Ребекке, – он чудесный и обаятельный мальчик, но боюсь, что в нем проявится дурная наследственность от нас обоих».
Ребекка не разрешила Энтони провести с отцом очередные каникулы; Эйч Джи попытался в суде определить место проживания сына у себя. Адвокат Уэллса собрал массу доказательств «неподобающего поведения» Ребекки и ее пренебрежения родительскими обязанностями. Процесс все же завершился в пользу матери, но с оговорками: она была обязана «консультироваться с отцом по вопросам воспитания ребенка» и не препятствовать их общению во время каникул; был даже оговорен пункт о том, что в случае, если Ребекка умрет раньше Уэллса, он становится опекуном Энтони. Ребекку, молодую и здоровую женщину, этот пункт натолкнул на странную идею: назначить сыну опекуна еще при своей жизни. Для этой цели она выбрала Бертрана Рассела, о чем написала ему, мотивируя свою просьбу тем, что Уэллс «боится вас и не посмеет сделать ничего плохого». Рассел, разумеется, ответил отказом. Уэст пыталась найти других опекунов, Уэллс негодовал: эти дрязги отнимали у него много сил и нервов, но в то же время отвлекали от мыслей о смерти Кэтрин и своей, которой он ждал чуть ли не со дня на день. И, конечно, было главное лекарство от тоски: работа. Если прошлый год в литературном отношении получился почти что «мертвым», то в 1928-м Уэллс свое наверстал.
Для начала он написал один из самых знаменитых своих трактатов с устрашающим названием «Открытый заговор: план мировой революции» (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution). На самом деле ничего особенно революционного и ужасного в этом тексте не содержалось. По сравнению с «Уильямом Клиссольдом», где предлагалось нескольким десяткам богачей без выборов захватить власть над миром, «Открытый заговор» – гораздо более миролюбивая и мягкая вещь. Умные люди (не богачи, а представители интеллектуальной элиты), понимающие, что национализм и милитаризм могут привести ко всеобщему краху, должны осознать, что единственный путь спасения цивилизации есть создание Всемирного Государства, и объединить свои усилия в борьбе против того, что этому мешает: «флагов, военных, президентов и королей».
Но что именно «заговорщики» должны делать? Здесь Уэллс при всей любви к «раскладыванию по полочкам» опять не смог сказать ничего определенного. Он прописал первый шаг: надо собираться «во всевозможные группы для изучения мира и деятельности в области прогресса», чтобы, «встречаясь и часто беседуя», «обмениваться мнениями» и «прийти к выводу о необходимости конструктивных перемен в мире». Его воображения хватило еще на два конкретных шага: а) способствовать изменению системы школьного и вузовского образования и б) отказываться от службы в армии (в этом месте он приносил свои извинения пацифистам). Далее все должно происходить как-то так, само собой. «Открытый заговор под тем или иным названием или дух его под разными обличьями завоюет школы и колледжи, привлечет молодых людей, достойных и умелых, честных и прямых, решительных и непоколебимых. В конце концов он охватит все человечество». Что делать, если большая часть человечества все-таки захочет по-прежнему выяснять отношения с помощью танков и бомб или откажется реформировать образование? Этого Уэллс нам не сказал. Айв самом деле – что?
Одна из глав «Открытого заговора» посвящена вопросу о том, какие страны пригодны для деятельности «заговорщиков», а какие – нет. Когда речь заходит о России, нетрудно увидеть, что отношение Уэллса к советской власти с 1920 года сильно переменилось. Идеи большевиков он назвал «банальными и несвежими», «догматическими и непрогрессивными», а их самих – «тщеславно воображающими себя проводниками мировой революции». А что, собственно, случилось?
До 1923 года Уэллс довольно интенсивно занимался «русскими делами». Работал в Комитете помощи русским ученым, организовывал посылки научной литературы. Горький благодарил: «Вы сделали еще одно хорошее дело, что меня не удивляет, – это, очевидно, ваш обычай». В 1921-м, когда в России начался голод, Горький написал Уэллсу: «Положение крайне острое. Если вы можете – помогайте!» Уэллс мог помочь только призывами к общественности, что и делал.
Но европейская и американская общественность и без него была настроена помогать: после того как в июле был создан Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), Горький опубликовал обращение «Ко всем честным людям», а патриарх Тихон обратился с воззванием к иерархам всех церквей, возник ряд организаций, занимавшихся отправкой продовольствия, прежде всего – АРА (American Relief Administration) во главе с Гербертом Гувером (эту организацию большевики не любили) и Международный комитет помощи России под эгидой Лиги Наций (а эту любили, потому что она не контролировала, куда идут присланные продукты). Уже через месяц Ленин нашел, что Помгол способствует проникновению буржуазного влияния, и комитет был расформирован, а его члены репрессированы. На Уэллса это произвело тягостное впечатление. Осенью он получил от Горького письмо, в котором тот передавал просьбу Ленина содействовать организации помощи в Штатах (с аналогичной просьбой Ленин рекомендовал Горькому обратиться к Шоу – советское руководство явно преувеличивало влияние писателей на правительства); потом Горький сообщал Ленину: «Я писал ему, чтобы он повлиял на У. Гардинга, чего он, кажется, и достиг…» Ни о каком «влиянии» Уэллса на президента Гардинга неизвестно, они не были знакомы и не переписывались. Весной 1922-го Уэллс приглашал Горького в Англию – тот отказался. А в начале 1923-го советское правительство объявило, что заграничная помощь больше не нужна. С этого периода переписка Уэллса с Горьким постепенно пошла на убыль. (Они обсуждали и другие темы: Горький содействовал переводу и публикации текстов Уэллса, опять предлагал писать книги для детей.)
Уэллс также принимал участие в деятельности Общества культурных связей между Великобританией и СССР, созданного после установления дипломатических отношений. (Членами этого общества были также Рассел, Кейнс, Грегори, Беатриса Уэбб.) Общество устраивало лекции о советской науке, здравоохранении, театре и т. д., демонстрировало советские фильмы. В начале 1920-х в России произошло много такого, что не нравилось Уэллсу, – процесс, над эсерами, высылка «философского парохода»; все это, однако, не изменило его отношения к Ленину как «грандиозному мыслителю» и советскому строю как «познавательному» и «полезному» опыту, о чем он написал в статье на смерть вождя «Ленин и после», опубликованной 9 февраля 1924-го в «Вестминстер газетт»: «Возможно, вся европейская система, подобно России, все-таки нуждается в прививке к этому новому неизвестному корню коммунизма, прежде чем она вступит в новый созидательный период».
Но после 1925 года его оценки «полезного опыта» становились все прохладнее. Одной из причин такой перемены могло быть влияние Кейнса, которому Уэллс во всем доверял. Кейнс в 1921-м называл большевизм «преходящей горячкой» и, как Уэллс, критиковал экономическую блокаду советской России. Он приехал в СССР в 1925-м на несколько месяцев (и женился на русской балерине Лопуховой), а по возвращении опубликовал серию статей «Краткий обзор России», в которой подверг советскую идеологию критике (хотя по-прежнему одобрял социалистическую экономику): «какие-то идеалы, возможно, кроются глубоко под всей мерзостью, жестокостью и глупостью новой религии», заявил, что революционные эксцессы обусловлены характером русских, особенно когда среди них есть евреи, и выразил надежду на то, что «система, осуждающая личное обогащение, все же сумеет привести страну к нормальному состоянию».
Главной причиной разочарования Уэллса было то, что Советская страна не пыталась двигаться к Всемирному Государству, а, напротив, замыкалась в себе и ощетинивалась против остального мира. В своей характеристике России Уэллс продемонстрировал проницательность, доходящую до гениальности: он не замечал сходства между Сталиным и Гитлером, поскольку никогда не задумывался о тоталитаризме (у него, если можно так выразиться, отсутствовал орган, посредством которого эту вещь чувствуют), но был настроен на то, чтобы повсюду улавливать самое слабое дуновение «имперскости», и поэтому понял то, до чего никто тогда недодумался: если Россия ленинская пыталась идти по пути прогресса, то сталинская, не зря выбравшая своим символом Ивана Грозного, возвращалась к идеалам империи. «Новое русское правительство, при всей его космополитической фразеологии, все более явно становится наследником навязчивых идей царского империализма, используя коммунистов для пропаганды своего строя, как другие страны использовали христианских миссионеров». «Марксизм потерял мир, – считал он, – когда, придя в Москву, принял традиции царизма, как христианство потеряло мир, когда, придя в мир, приняло традиции цезарей». Так что Россия – хотя и освободившаяся уже от нехорошего Зиновьева [91]91
Разгром «троцкистско-зиновьевской оппозиции» произошел в ноябре-декабре 1927 года.
[Закрыть]– для распространения прогрессивных идей больше не годилась.
«Открытый заговор» вышел осенью 1928 года в издательстве «Голланц», потом главы из него печатали в «Таймс» и других газетах. Продавалась эта вещь активно: люди любят книжки, в которых коротко написано, что надобно делать, чтобы всем жить хорошо, а книга Уэллса к тому же, несмотря на страшное название, не требовала ничего кроме как «беседовать» и «обмениваться мнениями». (Из знакомых Уэллса разругал «Открытый заговор» только Майский, после чего их переписка на два года прервалась.) Рассел написал, что согласен с Уэллсом и готов «вступить в круг заговорщиков»; он также надеется привлечь Эйнштейна. Беатриса Уэбб назвала книгу «очень вдохновляющей» и заметила, что в ней выражена суть фабианства (последнее замечание Уэллсу вряд ли понравилось). В Европе и Америке стали возникать группы, которые объявляли себя членами «заговора» – правда, дальше объявлений о членстве и «бесед» дело у них как-то не шло.
Такой необременительный «заговор» понравился даже Ллойд Джорджу, который нашел, что идея отражает суть либерализма (так уж была написана эта книга, что каждому казалось, будто она выражает именно его мнение), и приехал в «Лу-Пиду», дабы встретиться с ее автором. Поговорили, признали, что прогресс – хорошо, а регресс – плохо, решили организовать нечто вроде клуба «сподвижников», собрали интеллектуалов – Рассел, Голсуорси, Кейнс, Беннет, Барри – один раз встретились, обменялись мнениями, и все заглохло. Уэллс пытался вовлечь в «заговор» других членов – молодых парламентариев Гарольда Макмиллана и Гарольда Николсона, – но они не понравились Ллойд Джорджу. Тем не менее группы «заговорщиков» продолжали возникать повсюду: собирались, обменивались мнениями. Справедливо ли сказать, что все это была пустая болтовня? Нет, несправедливо: Декларация прав человека, ЮНЕСКО, движения за разоружение – все выросло из таких посиделок и разговоров, все всегда вырастает из них. Это не то, чего хотел Уэллс, – он надеялся, что человечество будет мчаться вперед, а оно ползет как улитка, останавливаясь, чтобы переварить съеденный листок, отступая назад, но это – не ничто.
Другая вещь, над которой Уэллс работал одновременно с «Открытым заговором» (она также была завершена осенью 1928-го и вышла в издательстве «Бенн»), – роман «Мистер Блетсуорси на острове Рэмпол» (Mr Blettsworthy on Rampole Island). Герой описывает свои приключения на острове кровожадных дикарей, чьи обычаи представляют собой сатиру на современное общество. Роман очень смешной, по сей день актуальный и больше, чем какое-либо другое произведение Уэллса, напоминает Свифта. «В противоположность обычаям других дикарей, на этом острове господствовало странное воззрение, что только на войне можно безнаказанно убить человека. Существовал, однако, весьма строгий кодекс поведения, и малейшее нарушение табу, которых было великое множество, малейшая погрешность против ритуала, малейшее новшество, неожиданная выходка, проявление лени и неумелое выполнение обязанностей наказывались ударом по голове, который именовался „укоризной“. Так как эту „укоризну“ воздавал здоровенный дикарь, орудуя дубиной из твердого дерева весом чуть ли не в центнер и утыканной зубами акулы, то в большинстве случаев она заканчивалась смертью. После этого мертвое тело подвергали обряду „примирения“». Племя, в котором живет герой, начинает войну против соседнего племени, дабы отнять у него запасы вкусного ореха, и все это понимают, но говорить об этом нельзя, ибо официально считается, что цель войны – внедрение цивилизации у неправильно живущих соседей.








