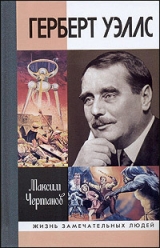
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
Создание здоровой общественной атмосферы – главное средство развития личности; долой низкопробную беллетристику и таблоиды, нужны умные книги, серьезная периодика – и тут отец Джипа говорит о своих коллегах. Чтобы заработать на жизнь, литератор вынужден писать много и халтурно; разве это хорошо? Нет, если писатель однажды доказал, что он может создать хорошую книгу, нам следовало бы поддержать его, назначив ему пособие, которое позволило бы ему писать вдумчиво и спокойно, и благодарный писатель ответит созданием книг, которые будут развивать наших детей. О нет, мы, писатели, не страдаем манией величия: «Мы – лишь ящерицы в пустом дворне, лягушки, скачущие по трону. Но это – дворец, это – трон, и, может быть, наши жалкие голоса будут постепенно пробуждать мир».
В «Человечестве» Уэллс сделал попытку, правда, очень невнятную, ответить на вопрос о том, как же все-таки управляется Новая Республика. Он предполагает, что управлять могли бы некие группы людей, наподобие жюри присяжных, избираемые на непродолжительный срок и публично отчитывающиеся перед обществом, и что неплохо бы ввести образовательный ценз для участия в органах управления, что-то вроде низшей ступени рыцарства, в которую посвящались бы образованные люди.
Новую работу Уэллса высоко оценили большинство его друзей-политиков, хотя все сочли ее чересчур благодушной; друзьям-писателям она не понравилась. (Она понравилась бы вдумчивым молодым матерям, но они редко читают философские трактаты.) Беннет заявил, что книга написана дурно и автор даже не в ладах с грамматикой. Конрад опять сказал, что Уэллс призывает к созданию элиты (этот упрек можно отнести к «Предвидениям», но не к «Человечеству») и что их идейные разногласия весьма принципиальны: «холодная, жестокая насмешка, с какой Вы взираете на человечество, порой бросает меня в дрожь». Трудно найти «холодную и жестокую насмешку» в «Человечестве». Ее не увидел Генри Джеймс, назвавший книгу «человечной, яркой, искренней и смелой»; Джеймс, придававший столь огромное значение стилистике, но не сделавший в адрес небрежно написанного «Человечества» ни единого упрека. Он сам умел писать о детях.
31 октября 1903 года у Джипа появился брат – Фрэнк Ричард. (Роды опять проходили тяжело, и доктора сказали, что у Кэтрин больше не может быть детей.) Разумеется, у него было все – предметы для разбирания и кусания, множество махровых полотенец, нежная мать и заботливый отец, который ползал по ковру вместе с сыновьями и демонстрировал им, как надо правильно ломать игрушки. У Джипа и Фрэнка была, кроме спальни, специальная комната для игр – «дневная детская». Няня у них тоже была общая, она занималась ими до 1908 года, когда ей на смену пришла гувернантка Матильда Мейер, впоследствии рассказывавшая, как постоянно обнаруживала хозяина дома в «дневной детской» – на четвереньках, с игрушечными солдатиками в руках и в зубах. Мальчиков воспитывали в точности по «Человечеству»: учили чтению, музыке, иностранным языкам (включая русский), приучали к долгим прогулкам и физическим упражнениям на свежем воздухе; Эйч Джи придумывал для них не только игрушки, но и игры, которые позднее опишет в книгах «Игры на полу» (1910) и «Маленькие войны» (1913); последняя имеет подзаголовок: «Игра для мальчиков в возрасте от двенадцати до ста пятидесяти лет, а также для умных девочек, которые любят играть в те же игры, что мальчики».
Одно из условий приема гувернантки на работу гласило: «не бояться мышей»: у Джипа была ручная мышь, чье право приходить поиграть в «дневную детскую» никто не оспаривал. Он станет потом ученым-зоологом, достаточно известным в своей области. Фрэнк займется кинематографом, будет работать как продюсер и сценарист [36]36
Сейчас их обоих уже нет. Они умерли в 1980-х, прожив долгую и хорошую жизнь.
[Закрыть]. В «Опыте автобиографии» старик Уэллс писал о своих взаимоотношениях с взрослыми сыновьями, подчеркивая, что относится к ним не как к «родным кровинушкам», а как «к просто хорошим людям». «Они много значат для меня, для ощущения дружелюбия, для интереса к жизни, для счастья, но они не играют существенной роли во внутренней жизни моего „я“. Иной раз они заговорят, не без смущенья, о моей работе или о том, чем заняты сами, и я, в свою очередь, с еще большим смущеньем что-нибудь посоветую или о чем-то отзовусь неодобрительно. <…> Мы не хотим, чтобы в наших отношениях главенствовали чувства, не хотим быть ничем связанными». Понятно, что он не испытывал по отношению к этим солидным мужчинам, которые уже сами были отцами, той нежности, как к ясноглазым малышам, что, держась за его палец, входили в игрушечные лавки; но он будто никогда и не слыхивал, что его глубокое, теплое и уважительное чувство к ним, как и их к нему, люди тоже называют любовью.
Под Рождество во Франции умер Джордж Гиссинг. Он был болен воспалением легких; на сочельник Уэллсы получили от его жены телеграмму, в которой сообщалось, что он при смерти. Эйч Джи сам был сильно простужен, но решил немедленно ехать. Гиссинга он застал уже в бреду; его жена вела себя с умирающим бестолково, как в «Анне Карениной» сожительница Николая Левина. С Левиным была Кити, которая все взяла на себя, Уэллс приехал один – и ему пришлось превратиться в сиделку. Два дня он обтирал и переворачивал больного; Генри Джеймс, узнав об этом, заметил, что вряд ли существовал другой человек, по отношению к которому Уэллс проявил бы столь трогательную заботу. Гиссинг в сознание не приходил. Мужская особь нашего биологического вида, как правило, не способна ходить за умирающим долго, даже если взялась за это с энтузиазмом – через двое суток Уэллс пал духом и уехал. Гиссинг умер на следующий день. После его смерти литератор Эдмунд Госсе обратился к тогдашнему премьер-министру Бальфуру с просьбой назначить пособие детям Гиссинга; поскольку умерший был фигурой весьма аморальной по тогдашним меркам, Госсе попросил Уэллса заранее сообщить ему о Гиссинге все самое ужасное, чтобы в разговоре с Бальфуром избежать неприятных сюрпризов. Уэллс счел просьбу оправданной обстоятельствами и поведал Госсе о своем покойном друге все, что знал. Потом ругал себя за это. Но сам в автобиографии выложил о жизни бедного Гиссинга массу подробностей, без которых можно было обойтись. Он всегда был не прочь посплетничать.
* * *
В 1901-м в «Стрэнде» и других журналах вышли рассказы «Новейший ускоритель» (The New Accelerator), «Армагеддон» (A Dream of Armageddon), «Филмер» (Filmer), в 1902-м – «Неопытное привидение» (The Inexperienced Ghost), в 1903-м были опубликованы «Волшебная лавка», «Правда о Пайкрафте» (The Truth about Pyecraft), «Земноходные броненосцы» (The Land Ironclads), «Долина пауков» (The Valley of Spiders) и «Мистер Скелмерсдейл в стране фей» (Mr. Skelmersdale in Fairyland) [37]37
Большая часть этих рассказов вошла в сборник «Двенадцать историй и сон» (1903).
[Закрыть], начала публиковаться «Пища богов». Для литератора столь гигантской трудоспособности это очень мало – в количественном отношении, но не в качественном, если среди этих текстов, наряду с неудобоваримой «Пищей», оказались изделия такой сказочной прелести, как «Волшебная лавка» и «Мистер Скелмерсдейл». Первый из этих рассказов общепризнан как шедевр, но второй не выделяют из массы уэллсовского творчества. А зря: в нем, как и в знаменитой «Двери в стене», спрятан ключик ко всей жизни автора.
Приказчик Скелмерсдейл заснул на лесной лужайке и очнулся в гостях у британского «малого народца», а потом вернулся и рассказал о своих приключениях автору – это сам Эйч Джи: «Человек я по натуре приветливый, работы никакой вроде бы не делаю, ношу твидовые куртки и брюки гольф». «В середине лета я как раз заканчивал трактат о Патологии Духа – мне думается, писать его было еще труднее, чем читать». Скелмерсдейла полюбила крошечная Королева фей и надеялась, что он ее полюбит, но он оставил в деревне невесту и мечтал купить лавку: «Воображаю, как он сидел в странном оцепенении среди этой невиданной красоты и все твердил про Милли и про лавку, которую он заведет, и что нужна лошадь и тележка… Я так и вижу – крошечная волшебница не отходит от него ни на шаг, все старается его развлечь, она слишком беспечна, чтобы понять, как тяжко ему приходится, и слишком полна нежности, чтобы его отпустить». Но он не решился быть с нею и сбежал к своей Милли. «И вот что казалось мне самым поразительным во всей этой истории: сидит маленький франтоватый приказчик из бакалейной лавки, рассказ его окончен, на столе перед ним рюмка виски, в руке сигара – и от него ли я слышу горестные признания, пусть теперь уже и притупилась эта боль, о безысходной тоске, о сердечной муке, которая терзала его в те дни?..
– Не ел, – рассказывал он. – Не спал. В заказах ошибался, сдачу путал. Все о ней думал. И так по ней тосковал! Так тосковал! Все там пропадал, чуть не каждую ночь пропадал на Олдингтонском холме, часто и в дождь. Брожу, бывало, по холму, снизу доверху облазал, кличу их, прошу, чтобы пустили. Зову. Чуть не плачу. Ополоумел от горя. Все повторял, что, мол, виноват. А по воскресеньям и днем туда лазал и в дождь и в вёдро, хоть и знал не хуже вашего, что днем не выйдет. И еще старался там уснуть.
Он неожиданно замолчал и отхлебнул виски. – Все старался там уснуть, – продолжал он, и, готов поклясться, у него дрожали губы. – Сколько раз хотел там уснуть. И, знаете, сэр, не мог – ни разу. Я думал: если там усну, может, что и выйдет… Но сижу ли там, бывало, лягу ли – не заснуть, думы одолевают и тоска. Тоска… А я все хотел…»
Уж не первый раз Эйч Джи об этом проговорился: ах, какие, должно быть, самому ему снились сны, не социалистические, а те, другие, какие снятся русалкам, феям и ангелам – сны, в которых нет благоустроенных квартир, набитых бытовой техникой, а есть трава, и светлячки, и хороводы на лужайке под луной… А он… Лавка, лошадь, тележка, светские рауты, брюки гольф, трактаты, которые «писать еще труднее, чем читать»… И не пожалуешься – сам выбрал. «Тоска… А я все хотел…»
Глава третья САМУРАИ И САМУРАЙКИВ первых числах января 1904-го Уэллс получил письмо от Изабеллы: та сообщала, что уже год как замужем. Неизвестно, почему она так тянула с известием – возможно, боялась, что потеряет алименты. Кажется, боялась не напрасно: сразу по получении письма ее первый муж был очень плох, кричал, плакал, метался по дому, бил посуду, порвал все фотографии Изабеллы, уничтожил вещи, которые о ней напоминали, разыскал и сжег письма, где о ней хоть что-нибудь говорилось. «Если бы мы жили десять тысяч лет назад, я бы взял каменный топор, нашел ее – и убил». Однако последующие события покажут, что опасения Изабеллы оказались беспочвенны. Уэллс продолжит содержать не только ее, но и ее нового супруга Фаулер-Смита. Супругам захочется приобрести прачечную – Уэллс подарит им ее. Когда Изабелла заболеет и за ней будет некому ухаживать, ее примут в доме бывшего мужа. Она выздоровеет, захочет построить новый дом – Уэллс поможет и в этом. Он говорил, что после кризиса, вызванного известием о замужестве Изабеллы, его любовь к ней постепенно начала ослабевать и через пять лет прошла, уступив место братской симпатии. Бывает. Но и после ее смерти он будет регулярно помогать деньгами Фаулер-Смиту, а это обстоятельство уже с трудом укладывается в голове у нормального человека. Но, может, для нового вида, что придет нам на смену, такое поведение будет в порядке вещей?
С первых месяцев 1904 года Эйч Джи перестал быть тихим фабианцем и начал затевать конфликты. Первым поводом послужил прочитанный в марте доклад Шоу «Фабианство и налоги»: Грэм Уоллес, вышедший из Фабианского общества из-за несогласия со взглядами своих товарищей на налоги (они были за свободную торговлю, он – за протекционистскую налоговую политику), назвал доклад вредным и, как считают большинство биографов, склонил к своей позиции Уэллса, в налогах ничего не смыслившего. Уэллс выступил с критикой доклада, ее не восприняли; он заявил Пизу, что хочет прекратить членство в обществе. Пиз ответил, что человек не должен выходить из состава демократической организации лишь потому, что оказался в меньшинстве по частному вопросу. Письмо Шоу было не столь деликатным: «…сейчас, когда каждый идиот старается сделать для общего дела то малое, на что он способен, Вы хотите все бросить только потому, что работа не в точности удовлетворяет Вашему вкусу. <…> Я не верю, что у Вас вообще есть хоть какие-то взгляды на свободную торговлю и тому подобное. По-моему, Вы просто так привыкли жить в мире своих персонажей, которыми можете распоряжаться как марионетками, что не способны с терпимостью воспринимать слова других людей, отличные от Ваших». Казалось бы, за такое письмо (хотя и переполненное ласковыми приветами в адрес Кэтрин) вспыльчивый Эйч Джи должен убить, но они даже не поругались.
Тем не менее ни Пизу, ни Шоу повлиять на решение Уэллса не удалось. Общество не желало терять ценное приобретение, и в бой была брошена тяжелая артиллерия – Беатриса Уэбб. В начале апреля чета Уэббов на два дня приехала в Сандгейт, и Уэллс взял свое заявление обратно. Тотчас же он вместе с Кэтрин был приглашен Уэббами на торжественный обед, где присутствовали супруги Шоу, Артур Бальфур и епископ Степни. Вроде бы обошлось, Эйч Джи казался вновь прирученным, и Беатриса благодушно записала: «Мы ужасно любим его; он так искренен, так полон всяческих идей. <…> В определенном смысле он просто фантазер, избалованный своими выдумками, но на нынешнем этапе он полезен». Но Уэллс не был ручной собачкой, которую достаточно погладить, чтобы она перестала лаять. Своего мнения о Фабианском обществе он не переменил и в письме Пизу – одновременно с отзывом своего заявления об уходе – заявил, что фабианцы ему неприятны. Форду же он сообщил, что намерен «взорвать Фабианское общество изнутри и выбросить его в мусорную корзину». Он считал, что обществу пора перестать быть говорильней, а нужно прийти к согласию по основным вопросам современности (национализация земли и крупной промышленности, уравнивание в правах мужчин и женщин и обеспечение одиноких матерей) и безотлагательно начать работать для их разрешения. Дописывая тяжело дававшегося «Киппса», он уже обдумывал план военной кампании.
Тем временем в издательстве Макмиллана вышла «Пища богов» (The Food of the Gods, and How It Came to Earth) – название предложил Макмиллан, это был тот редкий случай, когда Эйч Джи послушал издательского совета), отрывки из которой раньше печатались в «Космополитене». Роман очень слабый, хотя Булгаков и позаимствовал его завязку для «Роковых яиц». Ученые изобрели порошок «геракпеофорбия», ускорявший рост живых существ; на ферме, где проводились опыты, случилась утечка, в результате чего в окрестностях начали плодиться гигантские животные. Сатирические зарисовки смешны, а схватка людей с громадными крысами написана с динамизмом, которому могли бы позавидовать создатели современных «ужастиков», но с того момента, как начинается идеология, роман скучнеет – уж очень все наивно «разжевывается».
На свет появились дети-великаны: дурного они нам не делают, но мы их ненавидим и боимся, потому что они другие. Великаны не понимают, за что мы их не любим, хотят помочь: «Давайте построим возле Лондона такой дом, чтобы их поместилось много-много, и жить им будет удобно и уютно, и проведем дорожку, чтобы им ездить на работу – хорошенькую, прямую дорожку, и пускай все это будет красивое-красивое. Все для них сделаем чистенькое, хорошенькое, и тогда они не захотят больше жить по-старому, в грязи, ведь сейчас у них очень многие живут по-свински. И воды им наготовим, чтобы мылись: они ведь такие грязнули, эти маленькие вонючки; в девяти домах из десяти даже нет ванны. И знаете, у кого есть ванна, презирают тех, у кого ванны нет! Зовут их „грязная голытьба“! Нет того, чтобы помочь им завести в домах ванны, – только насмехаются! Мы это все переделаем. Проведем для них электричество – пускай им светит, и кормит их, и убирает за ними».
Но мы помощи не принимаем, ибо нам наша жизнь нравится; напротив, мы намерены запретить чудо-пищу, чтобы великаны не рождались больше, а тех, которые уже существуют, мы хотим сослать в резервацию. «Надо заткнуть им рот, заковать в цепи. Остановить их любой ценой. Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Иначе дебри скроют от нас дневной свет и похоронят наши дома, задушат наши церкви, ворвутся в города, и сами мы, как жалкие козявки, погибнем под пятой новой расы». У великанов, в свою очередь, накопилось немало претензий к нам: «Эти людишки нас ненавидят…
Они жестоки к нам потому, что сами слишком малы… Так или иначе, они нас ненавидят и не желают, чтобы мы были рядом, – разве что мы сумеем опять съежиться и стать такими же пигмеями – тогда, пожалуй, они нас простят». Великаны начинают понимать, что дружить с ними мы не собираемся, а наиболее радикальные из них приходят к выводу, что без сражения не обойтись. «Для нас, бесспорно, столкновение неизбежно… То, что они называют войной. Мы это знаем. И по-своему готовимся. Но, понимаете… они такие крохотные! Мы не умеем убивать, да и не хотим…»
Великаны не умеют убивать, зато мы умеем – и начинаем стрелять; они вынуждены принять бой: «Нет, мы бьемся не ради себя, но ради роста, ради движения вперед, а оно – вечно». Впрочем, великаны не намерены нас уничтожить, они лишь добиваются, чтобы чудо-пишу не запрещали производить и есть, а она сделает свое – все станут великанами и все мы будем «расти, подняться наконец до всеобщего братства и постичь Бога… Расти, пока самая земля наша не станет всего лишь ступенькой… Пока человеческий дух не станет бесстрашен до конца и не овладеет всей Вселенной!».
Уэллс придумал нескольких великанов – интеллигента, деревенского простачка, девушку-аристократку; быть может, если бы он писал свой роман от лица одного из них – безликого «я», – то читатель, поддавшись этому колдовству, мгновенно почувствовал бы себя великаном, как прежде невидимкой; как раньше я, гонимый и босой, оставляя кровавые следы, бежал по тротуару, так и теперь бы я мучился из-за низких дверей, маленьких тарелок, из-за того, что все надо мной смеются, что я не могу полюбить нормальную девушку или погладить нормальную собаку, не раздавив ее. Став очередным уэллсовским «я», читатель бы понял великанов, и пожалел бы их, и сердился бы на тех, кто их мучает. Но Уэллс по этому пути не пошел. Он «со стороны» описал своих великанов, и они не ожили для нас. Это просто большие манекены, набитые красивыми словами.
Параллель между люденами Стругацких и новыми людьми Уэллса не проводил только ленивый; у Стругацких, когда людены только начали радоваться своей новой жизни, мы уже предположили (не без злорадства), что они – не венец развития и неизбежно появится очередной новый вид, а скромные великаны Уэллса сами сразу сказали, что им на смену придут еще более продвинутые расы: «Мы даже еще не первое поколение, мы – всего лишь первый опыт». Логика романа говорит, что каждое последующее поколение будет крупнее предыдущего, так что возникает опасение, что бедняги вымрут, как динозавры. Отсюда наивный вопрос: почему великаны? Почему не синие или зеленые люди, не шестипалые? Уэллса привлекли простые аллегории: великий, большой, рост – и это обстоятельство позволило Честертону в книге «Еретики» вдоволь поиздеваться над другом: «В Уэллсе прежде всего поражает то, что он единственный среди блестящей плеяды своих современников не перестал расти. В ночной тишине можно даже услышать, как он растет… Уэллс мог бы расти все выше и выше на протяжении бесконечных времен, так что однажды он бы вознесся над самой далекой звездой. Я легко могу представить, что он напишет об этом прекрасный роман. При этом он поначалу будет видеть деревья высокими, а потом низкими; он увидит облака – сначала высоко над собой, а потом далеко внизу. Но на протяжении времен в его звездном одиночестве с ним пребудет идея высоты; в чудовищных космических далях его будет сопровождать и утешать ясное представление о том, что ой рос все выше, а не становился (к примеру) все толще».
«Пища богов», по Честертону, – это английская сказка «Джек-победитель великанов», рассказанная с точки зрения великана. «Я не сомневаюсь, что великан, которого одолел Джек, считал себя Сверхчеловеком. Вероятно, он видел в Джеке ограниченного ретрограда, возжелавшего воспрепятствовать великому поступательному движению жизненной силы. Если бы у великана было, скажем, две головы (что не такой уж и редкий случай), то он мог бы привести общеизвестное изречение, согласно которому два ума лучше одного. <…> Но Джек был защитником извечных человеческих представлений и принципов: один человек – одна голова, один человек – один ум, одно сердце и одна точка зрения». Все это Уэллс прекрасно понимал. Он бился именно против «извечных человеческих представлений и принципов», считая их не более заслуживающими почтения, чем, скажем, «извечные динозавровы представления и принципы». Более ненавистного слова, чем «извечный», для него не было. «Извечно» считалось, что человек должен охотиться с копьем, что Земля плоская. Каждая эпоха формулирует свои «извечные» ценности, каждая последующая их меняет.
«Трудно вообразить что-либо более благотворное для человечества, чем появление расы Сверхлюдей, с которыми простым смертным придется сражаться, как с драконами», – пишет Честертон и тут же, поскольку Уэллсовы великаны не агрессивны и на драконов не тянут, смягчает свою позицию: «Если Сверхчеловек лучше нас, то нам, разумеется, нет нужды сражаться с ним». По Уэллсу, великан именно лучше нас, так что сражаться вроде бы нет нужды, и Честертон вносит предложение: «Но тогда почему бы не назвать его святым?» Действительно, почему? Назови Уэллс святыми своих «новых людей», может, избежал бы тучи ядовитых стрел, которые был горазд выпускать его друг, а Уэллс считал Честертона своим другом и очень его любил, хотя соглашались они редко. В апрельском номере «Стрэнда» появился рассказ «Страна слепых» (The Country of the Blind); человек попадает в долину, где все слепы и считают слепоту «извечной ценностью», а зрение – пороком. «Страна слепых» Честертону очень понравилась. А ведь она о том же самом, что и «Пища», – каково быть «другим» среди «наших», только написана поэтично, вот и вся разница.
В мае Уэллс наконец завершил роман, над которым корпел около семи лет (для него это был поистине великанский срок) – «Киппс: история простой души» (Kipps: the Story of Simple Soul). Он начал его в 1899-м – тогда текст назывался «Богатство мистера Уэдди» – и отослал Пинкеру первоначальный вариант, но сам забраковал его и с весны 1900-го переименовал в «Киппса». Работа так его вымотала, что по ее окончании он слег на два месяца.
В письме Пинкеру он определял свой роман как «полное изображение жизни в социальных условиях Англии». «Полное», «всеобъемлющее» – на меньшее он теперь соглашался редко. Права купил Макмиллан. Уэллс потребовал рекламировать книгу: а) с помощью «людей-сэндвичей»; б) чтобы по городу разбрасывались листовки; в) чтобы реклама печаталась на театральных программках и г) чтобы места в Лондоне, которые посещал герой романа, были оклеены соответствующими плакатами. Макмиллан ни одного из этих требований выполнять не хотел, и Уэллс жаловался на него Пинкеру (на которого, в свою очередь, жаловался редакторам «Космополитена» за то, что тот ничего не делает для успеха его книг в Америке). В «Пэлл-Мэлл мэгэзин» отказались печатать «Киппса» отрывками – Уэллс и их разнес на все корки. Битва с Макмилланом длилась почти год и победил в ней Макмиллан, отклонивший все идеи Уэллса по «промоушену» как нелепые, неслыханные и неприличные.
Приказчик Киппс (все герои Уэллса либо приказчики, либо писатели) получил наследство и начал вращаться в «приличном обществе»; денег он скоро лишился, потом часть их спас, но поскольку за это время успел разочароваться в светской жизни, то вернуться к ней не пытался, а купил книжную лавку и стал жить в любви с молодой женой. Прелестно описанное детство Киппса – это и детство Берти Уэллса, появление Киппса «в обществе» – самопародия, но Киппс – не Уэллс: он никогда не читал книг. Поэтому его жизнь уныла, интеллект и чувства неразвиты; поэтому он долго не умел находить общий язык с женой. Если б он и она имели доступ к образованию, то «живые ростки, которые столько обещают в детстве и юности, могли бы принести более счастливые плоды; в них могла бы пробудиться мысль и влиться в реку человеческого разума, бодрящий солнечный луч печатного слова проник бы в их души; жизнь их не была бы, как ныне, лишена понимания красоты, которую познали мы, счастливцы: нам дано видение чаши святого Грааля, что навечно делает жизнь прекрасной». К концу своих мытарств Киппс понял, что книги полезны, стал читать их и торговать ими. И, надо полагать, пробормочет заскучавший читатель, вступил в социалистический кружок и начал строить Новую Республику… А вот и нет: как только Киппс стал поумнее, в голову ему пришла «мысль о чуде красоты, бесцельной, непоследовательной красоты, которая вдруг непостижимо выпадает на нашу долю среди событий и воспоминаний повседневной жизни» – этим заканчивается книга. Бесцельной, непоследовательной красоты! Бесцельной – какое удивительное для Уэллса слово! Бесцельной, как крылья ангела, хвост русалки, танец фей! Как же далеко в сторону от «магистрального пути развития человечества» опять занесло автора…
Критики и друзья приняли «Киппса» тепло. Джеймс писал, что он «обмирал от восхищения». Беннет отметил, что книга получилась «громадной обличающей силы». С точки зрения современного читателя, это довольно заурядный, старомодный роман – «что-то вроде Диккенса». В нем, как и в «Люишеме», много разъяснений и мало чувства. «Полное изображение» страны и эпохи? Да, полное… но книги, которые называют «энциклопедиями эпохи», подобно «Евгению Онегину», рождаются обычно не тогда, когда автор ставит себе цель написать энциклопедию. Их энциклопедизм – побочный продукт красоты, «бесцельной и непоследовательной».
* * *
Летом 1904-го, когда вышла «Пища», а сражение с Макмилланом из-за «Киппса» было в разгаре, раздраженный, больной Уэллс стал подумывать о драматургии. Его привлекала финансовая сторона дела – пьесами можно заработать больше и быстрее. Арнольд Беннет, сам бывший успешным драматургом, верил в способности товарища. Они начали совместную работу над пьесой, которая никогда не будет поставлена или опубликована и о которой сохранятся лишь отрывочные воспоминания современников – например, директора театра «Хеймаркет», отклонившего ее потому, что на сцене, по замыслу авторов, должен был лежать настоящий труп. Уэллс делился своим намерением и с Шоу, показывал ему свои драматургические попытки – инсценировки романов «Колеса судьбы» и «Чудесное посещение», набросок пьесы «Хвост кометы». Шоу счел опыты неудачными, но отговорил Уэллса писать пьесы по иной причине – пробиваться в этой отрасли трудно и рискованно. Уэллс внял совету. «Хвост кометы» был уничтожен, но замысел не пропал: позднее из него вырастет роман. Пока же он принялся за новый футурологический трактат – «Современная утопия».
Два лондонца чудесным образом перескочили на планету, которая как две капли воды похожа на нашу – вот только на ней установился утопический строй. Кто эти двое? Один – голубоглазый мужчина «среднего роста и возраста»; «ему случается иной раз падать духом, как всем нам, но по большей части он отважен, как маленький воробей»; говорит он довольно неприятным тенорком, порой срывающимся на крик, и «вы всегда обнаружите его за письменным столом, погруженным в изучение рукописи об Утопии». Мы конечно же узнали этого человечка, хоть автор и предупредил, что их не стоит отождествлять. Что касается второго путешественника, по профессии он естествоиспытатель; худощав, бледен, молчалив, и по его лицу можно предположить, что у него больной желудок. Характер у него странный: его романтизм нередко маскирует собой обыкновенную распущенность, и у него вечно какие-то проблемы с женщинами… Кто это – Бланд, Гиссинг, Грэм Уоллес, швейцарские прогулки с которым и навели Уэллса на мысль о двух беседующих путешественниках? Да нет, это второе «я» автора. Даже в Утопии этот тип то и дело хнычет о несчастной любви к своей Изабелле.
Уэллс говорил, что у всех утопий есть изъян: в них живут какие-то идеальные фигуры. В его Утопии все будет иначе: два путешественника повстречаются с разными обитателями прекрасной планеты, и у всех у них будет полно недостатков. Им встретится красноречивый блондин, что ратует за возврат к природе и которому Утопия несимпатична – точь-в-точь Уильям Моррис; с жизнью Утопии их будут знакомить то простоватый хозяин гостиницы, то чиновник-сухарь, то веселый управитель игрушечной фабрики; рассказчику даже представится возможность побеседовать с самим собой, живущим в ином мире параллельно с его собственной жизнью. На полноценных литературных персонажей все эти фигурки, конечно, не тянут, но эта новая Утопия, о которой рассказывается разными голосами (которые могут ошибаться, противоречить друг другу и даже недолюбливать дивный мир, в котором живут), и в самом деле выгодно отличается от классических утопических текстов: «Утопия, в отличие от того, как ее представляли ранние утописты, не должна и не может быть единообразным, единодушным миром; в ней не меньше, если не больше противоречий, чем в нашей реальной жизни. Она не до конца понятна нам; она – лишь отражение безбрежного хаоса наших представлений».
Необходимо предупредить читателя, который захочет ознакомиться с полным текстом этой книги, – ни в коем случае нельзя делать этого по русскому переводу. Полного перевода «Современной утопии» нет, а есть сделанный еще в 1906 году краткий пересказ, чудовищно искажающий смысл текста и ничего общего не имеющий с подлинником как целостным произведением. В нем нет ни уэллсовского сюжета, ни его персонажей, а содержание принадлежащих разным лицам реплик пересказывается как прямая авторская речь, отчего у читателя создается впечатление, что книгу писал безапелляционный, ограниченный тип, причем писал для слабоумных: «Люди всесделаются вегетарианцами»; «Люди, несомненно, будут спать на открытом воздухе всюду и все время». На самом деле это не слова Уэллса и даже не слова рассказчика. Это пересказ того, что толковал путешественникам житель Утопии, похожий на Морриса – персонаж, чьи высказывания рассказчик назвал ахинеей. Но это искажение смысла безобидно по сравнению с другими: «Если человек стар или болен – о нем заботятся здоровые. Если же человек не хочет работать, то его заставят силой. В случае упорства его изгонят из общества». Неправда; в подлинном тексте Уэллса говорится, что принудительный труд – это этика рабов, и что здоровые люди обязаны трудиться в том объеме, чтобы обеспечить себе пенсию и вернуть государству то, что оно потратило на них, после чего могут бездельничать; если же они унаследовали прожиточный минимум от своих предков, то имеют право не работать, а предаваться созерцанию и размышлениям, и никто их за это не осудит, более того – созерцатели и мечтатели тоже нужны обществу. Такие же искажения – по каждому пункту. «Современная утопия предусматривает случаи, когда безнадежно хилые люди как в детском, так и в зрелом возрасте будут уничтожаться» – таких фраз в подлиннике Уэллса нет.








