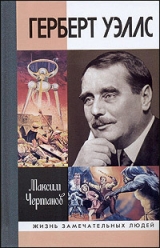
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
Октябрь прошел в тягостных переговорах; решающее сражение было назначено на декабрь. В первой декаде ноября Уэллс поехал на несколько дней в Венецию – собраться с силами. Два месяца тому назад он начал работу над романом «Тоно-Бенге», но прервал ее ради новой серии публицистических статей, которые будут печататься в американском «Гранд мэгэзин», а в 1908-м, будучи отредактированы и дополнены, составят книгу «Новые миры вместо старых» (New Worlds for old). Текст получился не только компактным и легким для чтения, но и – по сравнению с «Современной утопией», например, – очень умеренным и мягким. Уэллс объяснял «на пальцах», как объясняют детям, что социализм – не страшный, что социалисты (настоящие, не марксисты) вовсе не собираются устраивать кровавых революций или обобществлять жен. Но в «Новых мирах» как никогда ясно звучит мысль о том, что с нынешними взрослыми новой жизни не построишь. Молодые же должны стать ясно мыслящими, миролюбивыми, лишенными эгоизма, жажды наживы и других вредных страстей, а достичь этого можно лишь посредством «образования и самодисциплины». Уэллс писал «Новые миры», как он сам пояснил, «для 17—18-летних», а Горький назвал американцев «подростками»; неудивительно, что Америка приняла книгу восторженно. Англичанам «Новые миры» тоже понравились – автор этого не ожидал. Воодушевленный, он отправил книгу в Ясную Поляну – она по сей день хранится в библиотеке с пометками (предположительно) самого адресата, но ответа автор не получил и оставил Льва Николаевича в покое.
Когда Уэллс вернулся домой, состоялись несколько заседаний комитета по реформированию, и вскоре был опубликован итоговый доклад: он был сух, перегружен административными деталями, и Пиз, которому, казалось бы, это должно было понравиться, назвал его «гораздо менее вдохновляющим», чем «Ошибки фабианства». В докладе говорилось, что фабианцам необходимо написать новые книги о социализме, такие, как «Новые миры»; «Фабиан ньюс», периодическое издание общества, должно выходить не ежемесячно, а еженедельно; нужно издавать книги, такие, как «Современная утопия» (по сути Уэллс хотел основать при обществе собственное издательство); стремиться к привлечению новых членов, для чего упростить процедуру вступления в общество; создать первичные ячейки на местах; переписать программу, сформулировав в ней цели общества: а) передача земель и промышленности в государственную собственность; б) равенство мужчин и женщин; в) поддержка молодежи; переменить название на «Британское социалистическое общество». Все это фабианцы могли пережить. Но в докладе также предлагалось ликвидировать исполком и создать вместо него Генеральный совет, состоящий из 25 человек (в исполкоме на тот момент было 15 членов), который назначит три комитета по три человека – издательский, комитет пропаганды и комитет по общим вопросам. Лишь последняя тройка будет обладать реальной административной властью. Демократия в обществе таким образом сводилась к минимуму.
«Старая банда» еще два месяца тому назад была ознакомлена с докладом. Уэббов он пугал, но Шоу воспринял его спокойно и писал Сиднею Уэббу, что Уэллса нужно не отталкивать, а, напротив, вовлекать в административную деятельность. Надо принять некоторые из его предложений, но отвергнуть все, что касается «спецтроек», издательского бизнеса и перемены названия. К ноябрю было решено, что именно Шоу будет противостоять Уэллсу в прениях, и был подготовлен ответ исполкома на доклад комитета. Исполком признает, что общество нуждается в реформировании, поддерживает создание организаций на местах и не возражает против принятия новой программы. Исполком согласен, что было бы замечательно иметь кучу денег, новые шикарные офисы и тридцать тысяч курьеров, но, поскольку взять их покамест негде, этот вопрос представляется чисто спекулятивным. Исполком будет способствовать публикации хороших и умных трактатов, когда кто-нибудь даст себе труд их написать, но не считает возможным заниматься издательским бизнесом, а также пытаться сделать «Фабиан ньюс» доходным еженедельником, ибо периодических изданий в Англии и так полно и все пишущие члены общества, в том числе Уэллс, свободно в них публикуются. Исполком готов называться Генеральным советом и расширить свой состав, но не до 25, а до 21 человека, и назначить три управляющих комитета, но в них должны состоять все члены исполкома. Что же касается стратегических целей общества, то исполком предлагает ему трансформироваться в социалистическую партию среднего класса (Сидней Уэбб был против этого, но уступил большинству), а пока – выставлять кандидатов совместно с лейбористами.
Собрание состоялось 7 декабря. Шоу представил доклад исполкома, Сидней Оливье – доклад комитета. Уэбб предложил принять позицию комитета, но без отставки исполкома; Уэллс настаивал на отставке. Около трети присутствовавших поддержали Уэллса, на его стороне были такие тяжеловесы, как Оливье и Хейден-Гест, и вся молодежь. «Старая банда» была встревожена: Уэллс расстроен, что ему не удалось завоевать большинство, но он просто ничего не смыслит (и слава богу!), на самом деле в эпоху кризиса треть – это очень много. В самом исполкоме сидят открытые враги – Тейлор, член комитета, и Хобсон, во всем соглашающийся с Уэллсом; если уступить и назначить перевыборы сейчас, неизвестно, как все может повернуться, тем более что рядовые члены общества так и не поняли, чем доклад исполкома отличается от доклада комитета – недаром преподобный Хедлем и Шарлотта Шоу подписались под обоими документами. Нужно время для перегруппировки сил и подготовки контрнаступления; отказом от компромисса противник сам себя загоняет в ловушку. Решено было продолжить прения 14 декабря.
Пока Уэллс мучился сомнениями, «старая банда» совещалась. С одной стороны, Уэллс мог перетянуть на свою сторону кого-то еще, с другой – сторонники исполкома, видя, что их большинство, могли просто не явиться на продолжение прений. Необходимо было представить дело так, будто требования Уэллса сводятся к одному вопросу: распускать исполком сию же минуту или нет. Итогом этих совещаний стал разосланный членам общества меморандум, в котором говорилось, что предложения Уэллса означают вотум доверия исполкому, в связи с чем исполком предупреждает, что подаст в отставку, если доклад комитета будет принят в неизмененном виде.
Эта артиллерийская подготовка достигла своей цели: одни сторонники Уэллса, с уважением относившиеся к исполкому, сочли, что сроки перевыборов значения не имеют и нужно идти на взаимные уступки, другие испугались, что общество, предводительствуемое Уэллсом, без опытных администраторов, моментально развалится. Так что к моменту решающей битвы войско Уэллса совсем ослабело. Да и сам он 10 декабря, по словам Шоу, выглядел жалко, при личной встрече извинился (верится с трудом) и был готов пойти на попятную. Но на войне нет места жалости. Хьюберту Бланду, у которого были личные причины (о них позднее) ненавидеть Уэллса, Шоу приказал помалкивать и всех предупредил, чтобы воздерживались от нападок личного характера. Манера противника хорошо изучена: он ринется в открытое наступление, начнет оскорблять членов исполкома, браниться, произведет дурное впечатление и сам себя погубит. И настал вечер решающей битвы.
После вступительной речи Мод Ривз, призвавшей к единству, открылись прения. Уэллсу дали выступать первым. Он сбивался, повторялся, срывался на крик. Бланд нарушил приказ Шоу и сказал несколько слов о дурном влиянии Уэллса на молодежь, но это сыграло на руку «старой банде»: Уэллс завелся с пол-оборота и пошел ругать «стариков» на чем свет стоит. Тут уже все увидели, что он думать забыл про социализм и что для него главное – прогнать в отставку исполком. Его неприязнь к членам исполкома казалась необъяснимой (они-то его кусали исподтишка, а он их – публично), его торопливость – неоправданной. Потом выступал Шоу. Он сказал, что исполком поддерживает политику реформ. Однако поскольку Уэллс призвал провести вотум доверия, то к нему возникает встречный вопрос: готов ли он уйти в отставку, если собрание проголосует за доверие к исполкому? Уэллс попался в ловушку – ответил, что уходить не собирается. Этим он скомпрометировал себя раз и навсегда – даже Тейлор, самый ревностный из его влиятельных сторонников, признал, что при вотировании доверия-недоверия правила едины для противоборствующих сторон. Вопрос о роспуске исполкома отпал без голосования – все были согласны дождаться выборов. В начале 1907 года состоялось еще шесть собраний, на которых продолжалось обсуждение предлагаемых Уэллсом реформ. Много рядовых членов общества были на стороне Уэллса, но серьезные союзники отпадали от него один за другим.
Шоу написал Уэллсу ободряющее письмо: пусть не думает, что его карьера в обществе окончена, нужно дожидаться выборов. «Во-первых, Вам следует понять, что попытка утвердить Ваше моральное превосходство безнадежно провалится, когда Вы имеете дело с такими старыми и опытными игроками, как мы; во-вторых, Вы должны обучиться этикету публичных дискуссий». Со стороны Шоу это может показаться предательством по отношению к исполкому, но его побуждения были иными. Он всегда относился к Уэллсу очень тепло (как к забавному маленькому мальчику); кроме того, уход Уэллса был не в интересах общества – уж очень велика его популярность у широкой публики. Уэллс кротко снес эти поучения, но не сделал попытки им последовать, так что позднее выведенный из терпения Шоу сказал о нем: «Все пороки, которые он справедливо обнаруживал у своих коллег – обидчивость, догматизм, безответственность, – присутствовали у него самого, только умноженные в миллион раз. <…> Чем хуже он себя вел, тем больше ему спускали, и чем больше ему спускали, тем хуже он себя вел». Перессорившись с фабианцами, Эйч Джи попытался искать поддержки на стороне. Он обратился за помощью к бывшему фабианцу, лейбористу Рамсею Макдональду – тот очень холодно отказал. Уэллс воззвал к Джону Голсуорси, которого начал считать своим другом после того, как в разгар травли за «Дни кометы» получил от него очень сочувственное письмо. Но Голсуорси не имел намерения ввязываться в чужие интриги.
Тем временем предложения Уэллса принимались: исполком утвердил свою новую структуру и новые правила вступления в общество; начали обсуждать новую программу; отделения на местах открывались; «Фабиан ньюс» начала выходить еженедельно. В апреле прошли выборы. Их результаты удовлетворили «старую банду». Они на короткое время удовлетворили и Уэллса, который при голосовании занял четвертое место – после Сиднея Уэбба, Пиза и Шоу – и был избран в исполком. Но все продолжилось по-старому. Главная проблема, которая теперь занимала общество, – становиться ли партией миддл-класса или сосредоточиться на помощи лейбористам? Пиз и Уэбб считали, что сделаться самостоятельной партией нереально и бесполезно, Шоу им возражал. Уэллс попеременно критиковал обе позиции, так что никто не мог понять, какого мнения он придерживается.
А его вообще не интересовал парламентаризм. Единственное, что могло его удовлетворить, – создание «настоящей» партии, которая бы а) занималась не какими-то там выборами, а воспитанием молодежи и б) провозгласила своей целью не какие-то там реформы, а построение новой цивилизации на Земле. В статье «Так называемая социологическая наука» он писал, что мечтает о создании грандиозного труда об идеальном обществе: «Эта картина идеального общественного состояния должна стать становым хребтом социологии. Большие разделы будут посвящены таким проблемам, как определение Идеального Общества, его отношение к расовым различиям, взаимоотношения полов внутри него, его экономика, система образования… быт и нравы и т. п.». Зачем идти в парламент, когда мы так и не договорились о том, каким образом люди будущего должны жениться и какую одежду им носить?! Если «нормальный политик» потихоньку шагает в более-менее заданном направлении, корректируя путь в зависимости от ситуации, то Уэллс считал, что без прорисованного до деталей и не подлежащего пересмотру плана и с дивана-то вставать не имеет смысла. Общественную деятельность он уподоблял строительству: сперва архитектор начертит на бумаге план: тут кафель, здесь окошко, толщина дверных ручек три дюйма, – а затем уж строители приступят к работе, и горе тому, кто положит красный кирпич вместо желтого. Придумать сразу «всё про всё» – вот чем должно было заняться Фабианское общество, а не чепухой вроде политики.
Естественно, никто из членов исполкома этих утопических идей даже обсуждать не желал. Эйч Джи выступал редко, стал безучастным. В мае он предпринял последнюю попытку чего-то добиться: разослал членам общества меморандум, в котором говорилось, что общество должно сосредоточить свою деятельность на «развитии социалистической теории», а также вновь призывалось к отставке исполкома. Разговоры об отставке всем наскучили, под меморандумом подписались только 27 человек, большинство из них потом свои подписи отозвали. Исполком назначил комитет по переделке программы, куда включили Уэбба, Шоу, Уэллса и Сиднея Болла: заседания комитета Уэллс игнорировал. Он устал. Он видел, что над ним смеются. «Общество не хотело ни отдаться на мою волю, ни изгнать меня. Его вполне устраивало такое развлечение».
Почему Уэллс не ушел из общества летом 1907-го, а ждал еще год с лишним? Его удерживали юные фабианцы, единственные, кто не смеялся над ним и чей юношеский максимализм соответствовал его утопическим стремлениям. В апреле 1906-го в фабианской среде образовалась группа под названием «Фабианская детская» (многие ее участники действительно были детьми взрослых фабианцев): она имела собственный исполком, проводила дискуссии и лекции, организовывала студенческие кружки и даже издавала газету, раздаваемую из рук в руки. В декабре 1905-го при Кембриджском университете была основана другая молодежная организация – «Кембриджское университетское фабианское общество»: ее члены устраивали публичные собрания, приглашая на них девушек наравне с юношами, что было по тем временам довольно смело, обсуждать широкий круг вопросов – от религии до секса. В обеих группах (частично пересекавшихся по членству) Уэллса очень высоко ценили. А ему было в них интересно; когда его затаив дыхание слушали подростки, все его ораторские недостатки исчезали. Построить новую цивилизацию и породить новую расу – такие задачи 17—18-летним как раз по плечу.
В тот же период внутри Фабианского общества были созданы и другие группы по интересам, кроме молодежных – в них Уэллса тоже привечали очень тепло. Была «женская группа», радикальное крыло которой вплотную примыкало к суфражистскому движению, возглавляемому знаменитой Эвелиной Панкхерст; Мод Ривз, один из наиболее активных членов этой группы, при обсуждении программы общества горячо выступала на стороне Уэллса. Была «группа искусств», которую основали Холбрук Джексон и Альфред Оредж, издатели литературно-философского журнала «Нью эйдж»: члены этой группы мало говорили о социализме, но много – об искусстве, ницшеанстве, мистике; аудитории собирались огромные, но, сверкнув очень ярко, группа развалилась спустя полтора года. Существовали также группы биологии, образования и местного самоуправления; их деятельность была Уэллсу интересна, он принимал участие в разработке их программных документов и, выступая на собраниях, говорил так же блестяще, как перед гостями у себя за столом или в гостиной леди Элшо. Увы, он не ограничился лекциями. Он слишком сильно заинтересовался хорошенькими слушательницами.
Глава пятая ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУЧеловек, пишущий мемуары, имеет прекрасную возможность объяснить человечеству, что его супружеские измены – дело естественное, и убедить всех, что они должны сочувствовать ему, а не его супругу, который сам во всем виноват. Уэллс в этих объяснениях старался больше других и преуспел меньше всех, потому что объяснял слишком много и настойчиво. Мужчина может бравировать своими похождениями, но, чтобы нравиться публике, он должен делать это элегантно и легко, как Казанова, а не со злобой и раздражением, как Стриндберг. Героиня уэллсовского романа «Жена сэра Айзека Хармана» говорит: «Конечно же не надо было мешать Виктору Гюго жениться столько раз, сколько ему хотелось. Он делал это так красиво. Он умел все делать с блеском». Сам Эйч Джи не умел с блеском ни жениться, ни разводиться, ни рассказывать об этом.
Уэллс-волокита, Уэллс-бабник – в советские времена мы такого Уэллса не знали. Но в последние годы модно писать именно об этом Уэллсе. «Сатир из Бромли»! «Гарем Уэллса»! Женщин в его жизни было и вправду много, но бывает и больше. Однако все его романы были какие-то вызывающие, со скандальным привкусом – так что, когда читаешь журнальные статьи, может сложиться впечатление, будто этих женщин были сотни. Виноват, разумеется, сам Уэллс: не только тем, что заводил все эти романы, но и тем, что много о них распространялся. «Постскриптум» к «Опыту автобиографии» стал доступен читателям только в 1984 году; тотчас пошел вал книг, в которых частной жизни Уэллса уделялось пристальное внимание, а глянцевые журналы заполнились статьями, где из этих книг выбиралось самое «жареное» – так и возник образ «сатира из Бромли». Но даже если бы третий том никогда не увидел света, Уэллс и в первых двух дал достаточно оснований для того, чтобы о нем писали как о человеке, отличавшемся необыкновенной сексуальной озабоченностью. Четырнадцатилетний мальчик с вожделением и опаской глядит на девиц; у семилетнего ребенка – надо же! – картинки в журналах «пробудили подобие сексуального сознания», и каждый такой эпизод тщательно запротоколирован.
В пору юности Уэллса говорить вслух «про это» было не принято; он считал такую практику страшнейшим заблуждением, из-за которого люди вступают во взрослую жизнь, имея искаженные представления о сексе – отсюда несчастливые браки и подпольные аборты. Своей откровенностью он намеревался подать пример – как надо честно писать о «половом вопросе»: прежде всего признать, что секс существует, что подросток и даже ребенок имеет сексуальные переживания и это нормально. Но он опоздал: уже в 1930-е годы общественная мораль сильно отличалась от морали его отрочества, и признанием, что в возрасте шестнадцати лет человека «начали переполнять странные и возбуждающие мысли о сексуальной жизни», трудно было кого-нибудь удивить, а в 1980-е и подавно. Но раз уж он все это вытащил на свет – биографы обязаны повторять. Хуже того, поскольку другие Замечательные Люди примеру Уэллса не последовали, считая, что необязательно упоминать в мемуарах о каждой журнальной картинке, на которую в детстве поглядел с вожделением, и соответственно их биографы ни о чем подобном не пишут, то получается, что в главах, посвященных детству и отрочеству других знаменитостей, «секса нет», а в главах о детстве нашего героя он есть, и у читателей создается впечатление, будто один только Берти Уэллс был сексуально озабочен.
Начиная с 1903-го Эйч Джи стал надолго пропадать из дому. Кэтрин сидела одна, тоскующая, несчастная; а когда муж возвращался в Сандгейт, следом приезжали толпы гостей, среди которых были и его любовницы, и она должна была обслуживать их и улыбаться им, поддерживать беседу и создавать впечатление (которое никого не обманывало), что супружеский очаг функционирует превосходно. Ну, не стоит, наверное, изображать ее такой уж невинной жертвой, было и в ней что-то плохое? Наверное, было, но об этом ничего не известно. Все мужчины-друзья Уэллса любили ее. Ею восхищался Энтони Уэст, сын Уэллса и женщины, что станет ее соперницей. В том плохом, что писали о ней Ричардсон и Беатриса Уэбб, нет ничего, кроме дамских колкостей: не умеет говорить умно, не так причесана, недостойна великого мужа, выставляет себя на посмешище. Сам Уэллс не сказал о ней ни единого дурного слова, не упрекнул ни в чем, кроме фригидности – да и та у нее была «от природы».
Он убеждал себя и читателей своих мемуаров, что ей было все равно. «Джейн считала, что я вправе распоряжаться собой и что судьба жестоко обошлась со мной, связав меня сперва с невосприимчивой, а потом – с чересчур хрупкой спутницей. <…> Ревность она подавляла, предоставляя мне столько свободы, сколько я хотел». Все это говорится с беспредельным эгоизмом – не мужским, а подростковым. Уэллс писал, что они с Кэтрин «питали отвращение к институту брака» и оба стояли за свободу. Да, но только это была не та свобода, как у Сартра с Симоной де Бовуар или Сальвадора Дали с Галой, где свободный образ жизни вели оба партнера, а свобода на старый манер – только для одного. «Я вправе распоряжаться собой». Я, я, я… Что было бы, если бы Кэтрин сочла себя вправе распоряжаться собой в том же самом смысле, что и ее муж? Неизвестно. Но она отказалась от такой свободы для себя, а Уэллс принял ее отказ как должное. Он убедил себя, что верность и преданность его жены, как и ее физическая холодность, обусловлены некими природными особенностями: любовь ей не требуется, ибо она «чересчур хрупка» и у нее «мало воображения». «Как и я, она чувствовала, что при всей своей сложности союз наш уже неуязвим; мы вросли друг в друга, и она, возможно быстрей меня, поняла, как мало нужна нам монополия на страстную близость». Все слова, какие Эйч Джи счел нужным написать о Кэтрин, исполнены восхищения и благодарности. В них не найти лишь одного – простого признания того факта, что он причинял ей боль. А боль была сильной, смирение с потерей «монополии на близость» – вынужденным, заявление Уэллса, что любовь в ней угасла – лживым, и пресловутое мужество нередко изменяло ей:
«Я чувствую себя такой усталой сегодня вечером, изображая жену и домохозяйку. Если осталось на свете место, которое мне хоть чуточку дорого, это место в твоих объятиях, у твоего сердца. <…> Я люблю тебя и знаю, что я твой единственный друг, если не считать огромного множества людей, которые привлекают тебя больше, чем я. Дорогой, мне не следовало бы посылать тебе это письмо, это просто дурное настроение, ты знаешь, но у меня уже нет сил написать другое и я выставила себя в самом глупом свете. Все хорошо, ты же знаешь, просто я устала находиться в собственном обществе и сама заболела от общения с такой, как я. Как только ты можешь выносить меня!»
Кэтрин написала это письмо в апреле 1906-го, когда Уэллс был в США; неизвестно, было ли оно отправлено. Большая часть их переписки не сохранилась, но все же известно, что она написала ему в разные годы еще несколько подобных писем. «Дорогой, дорогой, дорогой, самый дорогой – не забывай меня – не бросай меня. Верь в меня хоть немножко – я постараюсь, чтобы ты поверил. О, я люблю тебя и тоскую – тоскую – тоскую. Мой самый, самый дорогой. Твоя (бесстыжая) жена». Это было написано в 1901-м, когда муж сбежал из дому после рождения первенца. А вот – годом позднее: «Дорогой, мне очень жаль, что я была такая глупая и плакала, когда ты пришел. Я вовсе не была в плохом настроении, просто как-то так получается, что ты доводишь меня до предела, и любая глупая мелочь заставляет меня плакать». Осмеливаясь иногда на робкий упрек, она всякий раз обвиняла себя и просила прощения… за что? Уэллс объяснил это в романе «Жена сэра Айзека Хармана»: «Наиболее общее различие между полами, вероятно, заключается в том, что, когда мужчина ругает женщину, если только он делает это достаточно громко и долго, у нее возникает чувство вины, а когда роли меняются, то у мужчины это вызывает лишь смертельную злобу».
Он не сказал попросту, что его к Кэтрин не влекло, а тянуло к другим, – нет, он обосновал свой отказ от близости с нею ее «природными особенностями»; он не сказал, что заставлял ее мучиться – нет, он придумал, будто она, в силу тех же загадочных природных особенностей, была от его измен счастлива. Он сочинил целую теорию, объясняющую, почему переходил от одной женщины к другой: теорию о «Призраке Возлюбленной» – «милой, мудрой, великодушной и безоговорочно преданной», а также сексуально привлекательной, – что сформировался у него в раннем детстве и который он неутомимо разыскивал повсюду; он объяснял свое влечение к той или иной женщине не тем, что ему понравился ее голос, или глаза, или шея, а тем, что ему в ней почудился этот Призрак. Он гонялся за прекрасным призраком и жил с красавицами, но ни одна из его связей, ни в его собственном изложении, ни в чужом, не выглядит красивой. Многие знаменитости вели себя не порядочнее Уэллса, но у них достало ума помалкивать. Он говорил правду там, где другие лгут, и лгал там, где другие говорят правду. Он лез из кожи Вон, чтоб оправдать свое отношение к жене, и не подумал смолчать о попытках соблазнить опекаемую им девушку. Кто его тянул за язык? Он не придавал ни малейшего значения материальной помощи, которую оказывал бывшим возлюбленным, но с гордостью писал, как переплатил проститутке.
Причины некоторых его умолчаний или лжи понять трудно: например, когда речь идет о Дороти Ричардсон, с которой он в 1905 году вступил в любовную связь. В мемуарах он пренебрежительно отозвался о Дороти как о привлекательной «блондиночке»; читатель делает вывод, что это была мимолетная интрижка. В действительности связь Уэллса и Ричардсон длилась два с половиной года, после чего их отношения перешли в товарищеские и навсегда остались таковыми; он переписывался с нею до конца своих дней, она приезжала к нему в гости со своим мужем, художником Аланом Одлом, помогала ему в издательских делах, его взрослые дети гостили у нее и считали ее своим другом. Ричардсон не была «пустышкой». Вместе с Эйч Джи она посещала собрания Фабианского общества, они, как видно из их переписки, обсуждали социальные и литературные вопросы. Она писала романы в форме «потока сознания»; Уэллсу это литературное направление было чуждо, но работы Ричардсон ему нравились. Связь не обошлась без последствий – весной 1907-го Дороти забеременела, а летом сделала аборт. Об этом откровенный Эйч Джи в мемуарах сказать забыл. Он постарался убедить читателей в том, что связь была «без проблем». Книги Ричардсон говорят иное: она надеялась на серьезные отношения, мучилась, происходили ссоры и скандалы. Вряд ли ее нежный друг об этом не знал.
Было и другое: книги Ричардсон продавались очень плохо; она не только не могла заработать, но оказалась должна за издание романа «Паломничество». Уэллс заплатил ее долг. Картины ее мужа не продавались – Эйч Джи покупал их, знакомил художника с влиятельными людьми, а когда Одл с женой приезжал гостить к Уэллсам, ему предоставлялась студия для работы. Много лет спустя Уэллс назначит состарившейся Ричардсон ежемесячный пенсион – это помимо разовых выплат. Он всюду расхваливал ее книги. Он не любил Дороти, у нее был собственный муж, а он помогал ей в течение сорока лет. Его поступками руководила не этика, а «протез этики»? Возможно. Но большинство из нас предпочитают обходиться и без этики, и без протеза…
Поначалу Эйч Джи заводил связи с «богемными» женщинами: Вайолет Хант, которую Грант Ричардс охарактеризовал как «умнейшую, красивейшую и привлекательнейшую женщину своего времени», литератором Эллой д’Арси. Они были самостоятельны, не слишком юны, свободно жили с разными мужчинами. Но в 1906-м он связался с женщиной иного типа. Дочь Хьюберта Бланда была красивой девушкой, вокруг нее вилось много поклонников (в частности, Сесил Честертон); Уэллс видел ее еще ребенком, но общение между ними началось, когда Розамунда стала секретарем «Фабианской детской». От разговоров о социализме они перешли к беседам на личные темы и, как пишет Уэллс, Розамунда пожаловалась ему на сексуальные домогательства со стороны своего отца. (Неизвестно, было ли это правдой.) Вскоре завязался роман. Мачеха девушки, Эдит Несбит, была возмущена – по словам Уэллса, из вредности, ибо она «неприязненно относилась к сексу», а по мнению некоторых биографов, потому что она сама находилась в связи с Уэллсом. Несбит написала Кэтрин о том, что ее муж ей неверен; Эйч Джи это не остановило. Как далеко зашли отношения с Розамундой – неизвестно: Уэллс, рассказывая об этом эпизоде, изрядно темнит. Биографы полагают, что в 1906-м они с Розамундой провели несколько дней в отеле. Достоверно известно одно: когда они собирались в совместное путешествие, Бланд выследил их на вокзале и учинил публичный скандал (поговаривали, что имело место рукоприкладство), после чего Розамунда вернулась с отцом домой, а Бланд все рассказал фабианцам.
Разгорелся скандал; старшие фабианцы были шокированы, Сесил Честертон и Клиффорд Шарп, казначей «Фабианской детской», тоже влюбленный в Розамунду и в конце концов на ней женившийся, из сторонников Уэллса превратились во врагов. Шоу пытался замять скандал: Бланда уговаривал не трезвонить о случившемся, а Уэллсу писал увещевающие письма. Эйч Джи сперва отвечал ему в туманных выражениях: «Вы не знаете ситуацию в целом», «Все это чепуха», жаловался на Бланда и Несбит, которые «нагородили чудовищной лжи вокруг всей этой истории»; потом, обозленный, перешел в нападение – «что за викторианскую мораль вы проповедуете!» – и еще пуще обругал супругов Бланд, чья собственная распущенность, по его логике, была единственной причиной того, что он решил соблазнить их дочь.
* * *
К середине 1907-го Уэллс закончил писать новый роман – «Война в воздухе» (The War in the Air, and Particularly How Mr. Bert Smallways Fared While It Lasted). Самолеты уже не в первый раз появлялись в его книгах: он описывал воздушные бои в «Спящем», будущее военной авиации в «Предвидениях». Авиаконструированием занимался его друг, изобретатель Джон Уильям Данн: он разработал модель бесхвостого самолета, потом продал лицензию на его производство фирме «Берджесс» и несколько самолетов этого типа было построено, но широкого применения они не нашли. У Данна была лаборатория в Фармборо, которую Уэллс посещал много раз; беседы с Данном нашли отклик и в «Войне в воздухе». Он также интересовался работами пионеров авиастроения братьев Вуазен, а когда после Первой мировой войны Габриэль Вуазен перешел от производства аэропланов к автомобилям, стал одним из первых покупателей: видимо, был убежден, что лучшая машина та, которую построил авиатор. Замятин называет Уэллса «неугомонным авиатором», а его фантастическим романам приписывает «стремительный, аэропланный лёт сюжета». «Аэроплан, дерзающий на то, что раньше дозволено было только ангелам, – это, конечно, символ творящейся в человечестве революции: и об этой революции все время пишет Уэллс». Авиаторы будут фигурировать во многих книгах Уэллса; для него летчик (наряду с кошкой) – самое прекрасное существо, что обитает на земле и в небе.








