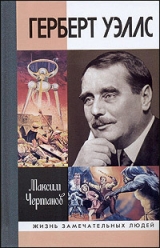
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Вышесказанное не означает, что он вообще не говорил в «Современной утопии» ничего чудовищного (с точки зрения нашего биологического вида) – говорил, разумеется. Общий тон этой книги – суровый и нетерпимый, особенно по контрасту с «Человечеством в процессе созидания», и догадаться о причине этого нетрудно: первую вещь писал Уэллс счастливый – отец нежно любимого малыша, баловень судьбы, вмиг ставший властителем дум и завсегдатаем салонов; вторую – Уэллс раздраженный, разочарованный, ненавидящий бестолковое человечество и желающий гнать его в будущее пинками.
С точки зрения среднего землянина-европейца, живущего в начале XXI века, чудовищным выглядит, например, то, что материально ущемляются интересы ребенка, рожденного женщиной не от законного мужа. Но тут дело в том, что о женщинах у Уэллса тогда были вполне викторианские – на свой лад – представления (он, к примеру, писал, что только сумасшедшая женщина может расхаживать по улицам во время менструации – она должна лежать в постели как тяжелобольная). Измену жены он считал более серьезным проступком, чем неверность мужа, и называл ее преступлением против общества. Он провозгласил право женщин на образование и равный с мужчинами труд, но сделал это как-то механически; ему даже в голову не пришло рассмотреть случай, когда женщина способна зарабатывать и обеспечивать своих детей.
Кое-что в «Современной утопии» чудовищно не столько по жестокости, сколько по глупости (непростительной для биолога): оказывается, в Утопии нет животных (кроме немногочисленных представителей рогатого скота), ибо от них – грязь и болезни. «Мне не нужна ваша Утопия, если в ней не будет животных!» – кричит герою-рассказчику его сентиментальный спутник; в последующих своих утопиях Уэллс этот вопрос пересмотрит и позволит всем животным, кроме комаров, существовать, но только при условии, что они, как и люди, изменятся и перестанут питаться друг другом. Рассказчик в ответ поясняет, что он и сам любит зверушек, но в тысячу раз сильней печется о благе человека, и, чувствуя, что это прозвучало малоубедительно, добавляет: «Я начинаю приходить к выводу, что жителям Утопии придется пожертвовать кое-какими мелкими радостями. Нельзя иметь все блага одновременно». Однако Уэллсу так и не удалось продемонстрировать нам большие радости, ради которых нужно жертвовать маленькими.
Представления о чудовищности у всех разные: кому-то покажется омерзительным то обстоятельство, что у всех обитателей Утопии снимают отпечатки пальцев, кому-то – что исчезло разнообразие языков. Но есть один пункт, который до сих вызывает наиболее интенсивное осуждение, – ограничение рождаемости. Смягчив свою позицию по этому вопросу в «Открытии будущего» и «Человечестве», Уэллс вновь ужесточил ее. Чтобы получить у общества санкцию на брак, нужно достичь определенного возраста (21–25 лет для женщины, 26–30 для мужчины), «достаточного уровня физического и психического развития», не быть алкоголиками, не иметь заболеваний, передающихся по наследству; ни один из врачующихся не должен быть осужденным и не отбывшим наказание преступником, и у них должны иметься средства в размере, достаточном для прокорма и воспитания одного-двух детей. (Многодетность в Утопии – привилегия, которой достоин не всякий.)
Уэллс был убежден, что никто не имеет права заводить детей только потому, что нам нравятся «милые детишки», или мы хотим «продолжить фамилию», или укрепить брак; ребенок – существо самоценное, и мы не можем принимать решение о его рождении, если существует риск, что он будет неизлечимо болен, или умрет малышом, или ему будет нечего есть. (Ограничение минимального возраста родителей, вроде бы не связанное со здоровьем и благосостоянием, вызвано тем, что людям следует созреть самим, прежде чем брать ответственность за другое существо.) К людям, которые пренебрегут этими условиями и вступят в союз, государство не будет иметь претензий, если у них не будет потомства. Гораздо худшая участь ждет тех, которые, не удовлетворяя перечисленным условиям, произведут на свет дитя. В этом случае «мы, исходя из принципов гуманности, примем невинную жертву вашей страсти, но вы и ваш партнер будете в долгу перед государством и заплатите этот долг (Уэллс говорит о денежном долге, а не о моральном. – М. Ч.), даже если для этого придется ограничить вашу свободу; более того, если вы вторично совершите тот же проступок или окажется, что ваше потомство неизлечимо больно или безумно, мы предпримем действия, которые дадут абсолютную гарантию того, что ни вы, ни ваш партнер больше никогда ничего подобного не сделаете». Уэллс не пожелал разъяснить, каковы будут эти действия, и нам остается догадываться, что речь, по-видимому, идет либо о стерилизации, либо о высылке, но все-таки не об «уничтожении», ибо казней в Утопии не существует. «Какой ужас! – восклицает, выслушав все это, alter ego героя, – несчастное человечество!» – на что герой мрачно советует ему изучить условия жизни детей, рожденных в трущобах, и ужасающие цифры детской смертности.
В «Современной утопии» Уэллс впервые подробно рассказал, какой ему видится правящая элита. (К ней принадлежит утопический двойник героя, который и сообщил эти сведения.) В результате политических потрясений, разрушивших старый строй, власть перешла в руки прогрессивных и деятельных интеллектуалов, которые приняли имя «самураев». Самураи – не прекраснодушные интеллигенты; это суровые, рациональные люди, подчинившие свои желания требованиям общественного блага. Они занимают все административные посты; они также единственные избиратели Утопии, формирующие немногочисленное подобие правительства. Население Утопии подразделяют на четыре группы: поэтическая, деятельная, глупая и низменная. К первой принадлежат творческие личности, ко второй – люди, способные к администрированию, но не обладающие фантазией; человек, доказавший в процессе обучения, что он принадлежит к одной из этих групп, может стать самураем. Третья группа – «глупые» люди, которые не могут ясно мыслить; сами они не допускаются к управлению обществом, но их дети могут оказаться умнее, и им эта дорога закрыта не будет. Наконец, «низменные» – они могут быть умны или глупы, но их объединяет склонность к асоциальному поведению. (Написав все это, автор почувствовал, как наивно выглядит подобное разделение, и разъяснил, что оно условно и к каждому жителю планеты государство применяет индивидуальный подход.)
Творческих и деятельных людей в Утопии пруд пруди – и, конечно, не все они становятся самураями. Многие просто не хотят. Некоторые недостаточно уравновешенны – таким отказывают. Оставшиеся – по достижении 25 лет – могут стать управленцами, если выдержат экзамены и будут блюсти самурайский устав: самурай не может пить, курить, есть мясо, играть в азартные игры, участвовать в спортивных состязаниях, иметь слуг и прислуживать, выступать на сцене, торговать, обогащаться (кроме исключительных случаев, когда самурай, к примеру, придумал совершенно новую отрасль промышленности). Он обязан мыться холодной водой, заниматься гимнастикой и альпинизмом, каждое утро бриться, каждую пятую ночь воздерживаться от секса, десять минут ежедневно посвящать чтению устава, повсюду носить униформу и не реже раза в месяц прочитывать книжную новинку. До 30 лет самураи практикуют свободный секс, лишенный разрушительных страстей и ревности. Нагулявшись, самурай по взаимному уважению женится, причем обязательно на самурайке. Зато самурайка имеет право выйти и за обыкновенного человека, ибо ее дети станут самураями. Уэллс писал в «Опыте», что еще подростком придумал образ идеальной женщины – «свободной, целеустремленной, самоотверженной, которая во всем бы мне подходила и шла бы своим путем, в то время как я шел своим», – и что самурайка наиболее близка к этому образу. Самурайка и вправду напоминает фантазию подростка. Но идет ли она своим путем и что это за путь – неясно: самурайка в Утопии теоретически может быть чиновником, но на деле она занята оказанием моральной поддержки своему самураю и воспитанием самурайчиков.
Самураи верят в единого Бога, слишком сложного, чтобы представления о нем могли воплощаться в религиозные обряды; они много путешествуют и умирают где-нибудь высоко в горах или на реке, счастливые и довольные. Наверняка это было большим утешением – придумывать этих безмятежных существ и собственного двойника, не страдающего ни от больных почек, ни от мук ревности. Так воплощают свои грезы обиженные дети – и писатели.
«Современная утопия» отличается от других утопий не только тем, что в ней живут противоречивые люди, но еще и наличием острого сюжета. Путешественники свалились неизвестно откуда, документов у них нет; их россказням о том, что они прибыли из другого мира, никто не верит; чиновники в Утопии – безжалостные бюрократы, как и везде! – гоняют бедняг от стола к столу, подозревая, что они беглые преступники. Бюрократ выдает им немного денег на пропитание и жилье и направляет работать на фабрику игрушек – не в наказание, а чтобы обеспечивали себя «до выяснения обстоятельств». Потом находится чиновник более внимательный – и гостей за государственный счет отправляют в столицу, дабы с ними разобрались на кафедре антропологии Лондонского университета. Но до разбирательства не доходит: несчастный спутник героя видит на улице двойников своей возлюбленной и того мужчины, к которому она ушла, и намеревается учинить вполне земную драку – и в этот момент путешественники проваливаются в родной мир.
Уэллс эту свою книгу любил; он назвал ее «настолько же живой, насколько „Человечество“ мертво». На его современников она произвела значительно более сильное впечатление, чем может произвести на нас: тогда, например, мысль о том, что взрослые мужчины и женщины могут свободно сходиться и расходиться, если у них нет детей, была нова, а сейчас ею вряд ли кого-то удивишь. Общественная мораль (по крайней мере в Европе) ушла так далеко, что нам трудно понять тех людей; показательно, что Маккензи сравнивают самураев с пуританами – суровыми аскетами, во всем ограничивающими себя, тогда как во времена Уэллса эти существа воспринимались как антипуританский вызов. Оруэлл писал: «На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педантов, святош, игроков в гольф, будущие его работодатели помыкали им: „Не смей! Нельзя!“ – родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдалбливая в него мертвую латынь, – и вдруг являлся этот чудесный человек, который мог рассказать о жизни на других планетах или на дне морей и твердо знал, что будущее предстанет вовсе не таким, как полагали респектабельные господа».
Самураев, кажущихся нам персонажами комиксов, современники восприняли всерьез, ведь это было свежо и ново. Вайолет Пейджет (литератор и переводчик) опубликовала в «Фортнайтли ревью» статью, полную похвал; в 1906-м она приедет в «Спейд-хаус» и будет обсуждать с Уэллсом возможность создания организации, подобной ордену самураев. Грегори назвал книгу великолепной, прибавив, правда, что нынешнее поколение, «размахивающее знаменами и бряцающее имперскими идеалами», не способно ее понять; он сказал также, что книга получилась в точности такой, какой мог бы желать Томас Хаксли (умерший в 1895 году), и что сам он мечтал бы жить в придуманном Уэллсом мире. «Утопия» понравилась и Черчиллю – он тогда еще не читал «Предвидений», и Уэллс с благодарностью за теплый отзыв послал ему и первую книгу. Уильям Джеймс, философ, брат Генри Джеймса, писал: «Ваша вещь – настоящее сокровище. В понимании людей Вы превзошли Киплинга, а в умении точно и сжато выразить свою мысль Вам просто нет равных. Сейчас Вас воспринимают как личность эксцентричную; но годы спустя, возможно, Вы станете классиком». В восторге от «Утопии» были видные фабианцы: Сидней Оливье в письме предлагал Уэллсу свою дружбу, замечая, что описание самураев отвечает его собственным идеям о создании лиги «морально здоровых людей». От похвал Уэллс ожил, депрессия стала проходить; к тому же, передав муки брошенного любовника персонажу, автор наполовину сбросил эту тяжесть с себя. Беатриса записывала в своем дневнике, что Уэллс во время очередного визита Уэббов в «Спейд-хаус» был в приподнятом настроении: «Он полон куража и желания действовать».
Ложек дегтя в бочке меда нашлось немного, но это были большие ложки. Конрад вновь укорял друга за его преклонение перед элитой. Честертон в «Еретиках» дал самурайству открытый бой, сравнивая самураев, великанов из «Пищи» и всех остальных «новых людей» Уэллса (а также героя пьесы Шоу «Человек и сверхчеловек») с безжалостным «юберменшем» Ницше. «Великий человек – не тот, кто настолько силен, что чувствует меньше других людей; это человек, который настолько силен, что чувствует больше, – писал Честертон. – Коль скоро Сверхчеловек – нечто большее, чем человек, мы должны быть чем-то меньшим». На самом деле общее у сверхчеловека Ницше с новым человеком Уэллса лишь то, что тот и другой жестко критикуют традиционные формы религии и общественный уклад, а разница между ними не меньше, чем между каким-нибудь управдомом и Антихристом; если ницшеанский сверхчеловек – асоциальный бунтарь, находящийся «по ту сторону добра и зла», то уэллсовские великаны и самураи, напротив, подчиняют свои устремления благу социума; если сверхчеловек Ницше господствует, утверждая себя, то новые люди Уэллса – служат, от своих желаний отрекаясь, и в этом смысле они как раз соответствуют пожеланию Честертона «быть чем-то меньшим, чем человек».
Честертон также высмеял Уэллса за его непонимание человеческой природы: «Если бы мистер Уэллс начал с человеческой души – то есть, по сути, с самого себя, – он понял бы, что первородный грех – это чуть ли не первое, во что надо верить. Он понял бы, что постоянная возможность проявления эгоизма проистекает из самого факта наличия „эго“, а не из каких-либо провалов в воспитании или дурного обращения. <…> Еще более яркий пример невнимания мистера Уэллса к человеческой психологии обнаруживается в его космополитизме, когда он в своей Утопии отменяет все межнациональные границы. Со свойственным ему простодушием он утверждает, что Утопия должна быть одним всемирным государством, ибо в противном случае люди могут вести войны. Похоже, ему не приходит в голову то, что вполне очевидно для многих из нас: если бы существовало всемирное государство, то мы все равно вели бы с ним войну до скончания времен». Вообще-то Уэллс не утверждал, что в его Утопии не будет противоречий и разногласий, он лишь говорил, что мы перестанем из-за них убивать друг друга. Но в принципе Честертон прав: человеческую психологию Уэллс понимал неважно и ему, в частности, не приходило в голову, что такой прирожденный диссидент, как он сам, вечно всем недовольный, тоскующий об иных цивилизациях, не прижился бы ни в одной утопии, а, со всеми перессорившись, был сослан на самые дальние острова либо сошел с ума от скуки.
В 1914 году Уэллс опубликовал очерк «О Честертоне и Беллоке» [38]38
Хилэр Беллок – английский романист и публицист, католик, друг Честертона.
[Закрыть], где обижался на своего друга за то, что тот не придумывает собственной Утопии, а только ругает чужие: «От человека его масштабов можно требовать большего, чем просто критика без полезных выводов». А позднее Оруэлл написал статью «Почему социалисты не верят в счастье», где на примере Свифта, Уэллса и католического рая объяснил, что сочинение утопий – занятие гиблое по определению. «Все „положительные“ утопии друг на друга похожи в том, что они постулируют совершенство, но не в состоянии достичь счастья. <…> Свифт показывает, куда приводят людская глупость и гадость; но если у людей отнять глупость и гадость, получается, что остается тепловато-безразличное существование, которое не стоит влачить. <…> Мы все хотим избавить мир от того, от чего его хочет избавить Уэллс. Но найдется ли кто-нибудь, желающий жить в утопии, описанной Уэллсом? Наоборот, желание не жить в таком мире, не проснуться однажды утром в гигиеническом пригородном саду, населенном нагими учительницами, стало сознательным политическим мотивом».
Быть может, «новые люди» сочинять утопий не будут, а будут радостно и смиренно принимать все сущее, как хотел бы Честертон. Но в нашем биологическом виде эта потребность заложена. Ведь сам Честертон неоднократно писал о своем идеале – католической сельской жизни, – идеале столь же расплывчатом и недостижимом, как рационалистические придумки Уэллса; ведь Оруэлл завершил свою статью словами: «Люди отдают свою жизнь политической борьбе, добровольцами идут на смерть в гражданских войнах, переносят пытки в тайных застенках гестапо не ради построения синтетического рая с центральным отоплением, кондиционерами и электрическим освещением, а потому, что хотят создать мир, где люди друг друга любят, а не обжуливают и не убивают», – словами столь же абстрактными, как те, которые он только что разругал в пух и прах.
* * *
12 июня 1905 года в Лиссе умерла Сара Уэллс – поскользнулась на лестнице, у нее случилось кровоизлияние в мозг, и последние недели она не приходила в сознание. После похорон Уэллс провел несколько дней за чтением дневника, который Сара вела почти всю жизнь. Незадолго до смерти она приезжала в «Спейд-хаус»; Джозеф переехать к сыну отказался. Он не потерял интереса к жизни, но этот интерес для него сосредоточился в малом: бильярд, хорошая кухня, утренние газеты. Эйч Джи нанял для отца домоправительницу, миссис Смит: в ее обществе Джозеф проведет еще пять лет.
«Дорогая мамочка!
Жду Рождества и посылаю тебе маленький подарок (жаль, что такой скромный). У меня все хорошо и на том же уровне. <…> Я хочу все знать о тебе. А от Фреда были какие-нибудь вести?
Любящий тебя Берти.
Крошка Берти рад писать все, что в голову взбредет, и шлет горячий привет милому часовщику (Фрэнку. – М. Ч.), папочке и мамочке».
Он так писал родителям в 1895 году; он всегда писал им так – без «умничанья», без витиеватости, без блеска. Писал так, словно был ребенком – или словно детьми, маленькими и напуганными, были они.
В то же лето он решил, что пора воплощать самурайский идеал на практике, и начал вести подкоп под Фабианское общество – точнее, под ту его часть, которой заправляли Уэббы и Шоу и которая называлась «старой бандой». Еще до смерти матери, 5 июня, он известил Пиза, что на очередном заседании намерен открыть дискуссию о методах работы общества. Он знал, что у него немало сторонников – почти вся фабианская молодежь, жаждущая быстренько построить новый мир, а не проводить годы за болтовней. Один из наиболее деятельных его сподвижников, Лесли Хейден-Гест (врач, журналист, впоследствии депутат парламента от лейбористов), писал ему в те дни, что «младореформаторов» удовлетворит лишь такое решение, которое будет направлено на осуществление конкретных действий по построению «Города солнца».
Поначалу «старая банда» опасности не увидела. Шоу, узнав о намерениях Уэллса, писал Пизу: «Будут два доклада – за и против. Если Вы и Уэбб сделаете все возможное, чтобы отстоять позицию старой банды, а Уэллс, Гест и Честертон (Сесил. – М. Ч.), в свою очередь, аргументируют свои взгляды, это в итоге приведет нас к оптимальной реформе. <…> Встряска пойдет только на пользу интересам фабианства». Уэббы встряски не хотели, но считали Уэллса чересчур легковесным для того, чтобы он мог поколебать их позицию. В дискуссиях прошла вся вторая половина года и ничего не менялось. Но потом вмешались объективные обстоятельства.
На январь 1906-го были назначены парламентские выборы. У власти находились консерваторы во главе с Бальфуром; еще до выборов среди них произошел раскол, преимущественно из-за разного отношения к протекционистским идеям министра по делам колоний Чемберлена; состоялся ряд отставок, и в декабре кабинет министров возглавил либерал Кэмпбелл-Баннерман. Консерваторы своей несогласованностью себя скомпрометировали, и предвыборная обстановка складывалась очень благоприятно для либеральной партии и всех левых. Либералы выдвинули программу реформ во имя создания «классового мира», в которой провозглашалось сохранение принципа свободной торговли (это означало, что цены на товары не поднимутся) и высказывались обещания улучшить условия труда рабочих. Идейным вдохновителем либералов был представитель их левого крыла Ллойд Джордж; в среде фабианцев его считали зловреднейшим человеком, но избирателям он нравился из-за своей репутации «сильного» политика, способного на решительные действия. Фабианское общество объявило о поддержке кандидатов от лейбористов; либералов поддерживать не рекомендовалось (хотя трое фабианцев баллотировались от Либеральной партии). В конечном итоге консерваторы потерпели сокрушительное поражение, либералы восторжествовали на ближайшие десять лет, Ллойд Джордж стал министром торговли, Черчилль – заместителем министра колоний, и, что самое важное, лейбористы (среди них четверо фабианцев) получили 29 мест в парламенте и заявили о себе как о новой политической силе. Англия начинала меняться. А Фабианское общество осталось в стороне.
Уэллса не удовлетворяли ни эти робкие перемены, ни то, что фабианцы не желали принимать в них активного участия. 12 января 1906 года он читал на заседании общества (а потом опубликовал в «Индепендент ревью») фельетон «Беда с башмаками», где осыпал издевками «тех, кто, именуя себя социалистами, старается уверить вас, будто разговоры о понижении муниципалитетами цен на воду и газ это и есть социализм, и считает, что мельтешить где-то между консерваторами и либералами значит пролагать путь к Золотому веку». А 9 февраля он представил на заседание доклад «Ошибки фабианства», в котором нападал на кастовый дух, принятый среди фабианцев, и сравнивал общество с крошечной гостиной, где люди обмениваются непонятными для посторонних домашними шутками: «Впустую тратятся добрые намерения, время, энергия… словно мы ставим перед собою цель развлечься политико-социологической болтовней». Первая ошибка общества заключается в том, что оно слишком мало для приобретения политического влияния – вместо 700 членов в нем должно быть не менее 10 тысяч. Второй ошибкой является бедность: «Фабианцы ставят перед собой задачу изменить экономические основы общества. Но взгляните на этот крошечный зал, на этот узкий кружок… А теперь выйдите на Стрэнд и посмотрите, какие там огромные здания, как ярок свет реклам… Это – мир, который вы собираетесь изменить».
Чтобы соответствовать миру Стрэнда, фабианцам следует собирать деньги (бюджет общества должен быть не менее тысячи фунтов в год), создавать ячейки на местах, открывать новые шикарные офисы, нанять секретарей и администраторов, учредить солидный печатный орган и развернуть широкую пропагандистскую кампанию в массах, то есть сделаться политической партией. (Эти идеи Уэллс перенял не у Маркса-Ленина, а у Грэма Уоллеса и нашего соотечественника М. Я. Острогорского, автора книги «Демократия и организация политических партий», о влиянии которой на формирование своих взглядов писал неоднократно.) Все это было справедливо и разумно, но почему Уэллс не захотел учесть того обстоятельства, что такая партия уже существовала (Пиз еще тогда предрек, что лейбористы вытеснят либералов из политической жизни; в конечном итоге большинство фабианцев влились в Лейбористскую партию) и нуждалась не в дублере-конкуренте, а в помощи? Неужели потому, что, как утверждал тот же Пиз, Уэллса не интересовали реформы и социализм, а только единоличная власть?
Доклад имел грандиозный успех, и не только у молодежи. Фабианцы с Уэллсом согласились: общество нуждается в реформировании. Кто не хочет стать грозной политической силой, а также сидеть в шикарных офисах с секретарями? Уэллс был не единственным членом общества, который намеревался превратить его в партию. В том же 1906-м Сэмюел Джордж Хобсон, один из основателей Независимой лейбористской партии, уже успевший разочароваться в лейбористах, так как они «младшие союзники либералов», призывал к созданию партии, которая была бы радикальнее Лейбористской. В соответствии с предложениями Уэллса исполком общества постановил учредить комитет по реформированию; в его состав предлагалось включить равное количество членов исполкома (чью деятельность и надлежало реформировать) и рядовых членов общества. Уэллс назвал это «увертками», и после прений в состав комитета вошли лишь те, чьи кандидатуры он лично одобрил, то есть трое от исполкома – преподобный Стюарт Хедлем, основоположник «христианского социализма», Шарлотта Шоу и Джордж Тейлор, известный политик-социалист, плюс Сидней Оливье, на тот момент не являвшийся членом исполкома, но относившийся к «старой банде», – и шестеро извне: Стэнтон Койт (лейборист, лидер Общества этической культуры), Уильям Колгейт (тогда студент, а впоследствии политик-консерватор), Лесли Хейден-Гест, Мод Ривз (жена Пембера Ривза, соратника Уэллса по клубу «Сподвижники»), сам Уэллс и его жена – в качестве секретаря.
Через месяц с небольшим Уэллс должен был ехать с лекциями в Штаты – следовало торопиться. Пиз сообщил ему, что первое заседание комитета запланировано на 28 февраля: «Хотя Ваши планы произвели большое замешательство, я надеюсь, что все прояснится и результатом будет расширение влияние Общества, к которому мы все стремимся». (Заседание состоялось, но к разработке документов приступили лишь осенью.) А Шоу писал Уэллсу, что «старая банда» готова к открытому диалогу: «Мы вовсе не пытаемся ссориться с Вами, ибо мы желаем того же, что и Вы… Ваш доклад полон неясностей, которые, впрочем, легко можно разрешить в дебатах и которые не имеют существенного значения, поскольку в целом Ваши предложения совершенно справедливы». Не приходится сомневаться в том, что Шоу желал диалога, и не только для прояснения темных мест в «Ошибках фабианства», а для того, чтобы лучше понять личные устремления Уэллса. Всерьез ли тот желал превращения Фабианского общества в политическую силу или просто играл в игрушки? В пользу второго предположения Маккензи приводят цитату из письма к литератору Лукасу, где Уэллс говорит, что «затеял грандиозную интригу в Фабианском обществе», «будоража старушек», и что это «очень забавно». Того же мнения придерживался Пиз, который писал, что, когда инициированные Уэллсом реформы в обществе были осуществлены, сам реформатор к ним охладел. Так же считала Беатриса Уэбб: «Я сомневаюсь, что у него достаточно умения, настойчивости, последовательности и желания всерьез выполнять свои новые обязанности». Сам Эйч Джи, однако, утверждал, что в 1906-м искренне надеялся реформировать общество и лишь двумя годами позднее понял, что это была «вздорная затея». Наверное, есть правота и в том и в другом утверждении: реформировать общество Уэллс действительно хотел, а не просто развлекался, но, во-первых, хотел превратить его не в «нормальную» партию, а в самурайский орден, а во-вторых, хотел этого лишь на условиях своей личной диктатуры.
Оставшиеся до отъезда недели прошли в перебранках с членами исполкома; Беатриса Уэбб и Шоу отмечали, что в этот период их товарищ был нетерпелив, груб, требовал от всех подписаться под каждым словом в «Ошибках фабианства». За три дня до отъезда Уэллс получил резкое письмо от Шоу: «Вы можете сказать, что сделали все, что в Ваших силах, дабы сохранить дружелюбие. Без сомнения Вы пытались; но Ваши усилия недостаточны. Вы не в состоянии соблюдать правила хорошего тона… Даже если бы Ваш доклад был пределом совершенства – все равно у членов любой группы, состоящей из людей, возникли бы собственные мнения на его счет… Вы не понимаете сложностей работы в демократическом обществе…» 27 марта на пароходе «Кармания» Уэллс отплыл в Америку. Накануне он ответил Шоу, что «не желает ощущать себя одним из „нас“, если „мы“ – это ваш чертов исполком». Думается, он как раз понимал «сложности работы в демократическом обществе»; он ненавидел демократию, ибо знал, что на беспощадном демократическом ринге он – нетерпеливый, раздражительный, неспособный к компромиссам – неизбежно будет бит.








