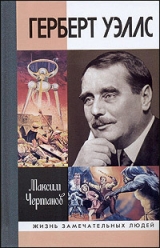
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
Его должность в школе Байета называлась «ассистент-практикант». Байет назначил ему жалованье – 20 фунтов в первый год с последующим увеличением. Он снимал у владелицы кондитерской комнату пополам с другим ассистентом, Харрисом. Хозяйка была добродушна и кормила постояльцев как на убой. Герберт ежедневно присутствовал на уроках Байета, учился у него методике преподавания и параллельно вел уроки: в дневных классах математику, в вечерних – биологию, физику и химию. Педагог из него по-прежнему был не ахти какой: он быстро раздражался и, требуя тишины, начинал отвешивать тумаки направо и налево. Но излагать предмет доступно и внятно Байет его научил, и в этом он даже превзошел своего педагога, поскольку любил и умел все «раскладывать по полочкам» – как раз то, что нужно школьному учителю.
Свою жизнь в Мидхерсте он тоже разложил по полочкам: составил программу самообразования и распорядок дня и повесил на стену. Этот документ будет фигурировать в романе «Любовь и мистер Люишем» (Love and Mr. Lewisham): «Мистеру Люишему надлежало вставать в пять утра, а свидетелем тому, что это не пустое хвастовство, был американский будильник, стоявший на ящике возле книг. Подтверждали это и кусочки шоколада на бумажной тарелочке у изголовья постели. „До восьми – французский“ – кратко извещало расписание. На завтрак полагалось двадцать минут; затем двадцать пять минут – не больше и не меньше – посвящалось литературе, то есть заучиванию отрывков (в основном риторического характера) из пьес Шекспира, после чего следовало отправляться в школу и приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. На перерыв и час обеда расписание назначало сочинение из латыни (на время еды, однако, предписывалась опять литература), а в остальные часы суток занятия менялись в зависимости от дня недели. Ни одной минуты дьяволу с его искушениями. Только семидесятилетний старец имеет право и время на праздность». Программа была всеобъемлющей: в котором часу надлежит чистить зубы и в каком году поступать в университет, к какому сроку выучить тот или иной иностранный язык или «ознакомиться с либеральными брошюрами».
Уэллс говорит, что свои бесчисленные схемы и программы он составлял не потому, что был организованным человеком, а, напротив, чтобы бороться с собственной безалаберностью. «Не могу сосредоточиться, – сказал мистер Люишем. Он снял свои бесполезные очки, протер стекла и сощурился. Проклятый Гораций с его эпитетами! Пойти разве погулять? Не поддамся, – заупрямился он, нацепил на нос очки и с воинственной решительностью, положив локти на ящик, вцепился руками в волосы… Через пять минут он поймал себя на том, что следит за ласточками, скользящими в синеве над садом священника».
Программа предписывала читать только полезные книжки; благодаря этому интеллектуальный багаж Герберта Уэллса был к восемнадцати годам уложен совсем неплохо. Он упоминает в автобиографии книги, которые оказали на него влияние. Прежде всего это работы Александра фон Гумбольдта, немецкого ученого-энциклопедиста: его труд «Космос», публикация которого началась в 1845 году, представлял собой свод знаний по всем отраслям тогдашней науки. «Космос» сильно устарел уже в ту пору, когда Берти Уэллс читал его, но такие книги – где написано «про все» – он всегда очень любил. Другой источник – «Республика» Платона. Крепче всего запали в душу молодому Уэллсу три платоновские идеи: 1) частная собственность – это нехорошо; 2) главнейшая отрасль деятельности государства – педагогика; 3) управлять обществом должен специальный класс интеллектуалов. Е. Н. Орлова, автор книги о Платоне, пишет, что «увлеченный своими высокими идеями о государстве, Платон создал не только воображаемое общество, но и воображаемых человеческих существ. Он лишил их плоти и крови и сделал какими-то ходячими единицами, имеющими значение лишь постольку, поскольку они идут на составление общей суммы – государства»; в этом часто обвиняют и Уэллса.
Дальше он называет Перси Биши Шелли, проповедовавшего политические свободы, Роберта Оуэна, Томаса Мора, Дарвина, разумеется, и, наконец, любимца Льва Толстого, американского экономиста Генри Джорджа, в книге «Прогресс и бедность» доказывавшего, что земля должна находиться не в частной, а в государственной собственности. Все эти идеи Герберт пылко обсуждал со своим соседом Харрисом – оба верили, что справедливое общество появится уже через несколько лет. Он писал, что в Мидхерсте всегда был счастлив: «Думаю, там тоже иногда шел дождь, но мне запомнились только солнечные дни». Но был и черный день – когда ему впервые пришлось сознательно поступиться убеждениями.
Сара Уэллс была очень религиозна (она принадлежала к англиканской церкви – гибрид католичества и протестантства, более близкий к католичеству), но если до смерти малышки Фрэнсис ее религиозность была доверчиво-жизнерадостной («она верила, что Отец Небесный и Спаситель лично и порой с помощью подвернувшегося под руку ангела заботятся о ней…»), то потом она приобрела мрачный характер, и все попытки привить младшему сыну благочестие приводили к обратному результату: «Мое сердце она не сумела затронуть потому, что и сама лишилась прежней благодати». (Что касается Джозефа, то он был обычным христианином, то есть принимал свою религию как данность и ни в малейшей степени ею не интересовался.)
Берти с детства усвоил одно: Бог – это наказания, ужасы, адские муки. Этого Бога он боялся и ненавидел, «как злобного старого шпиона». Он пишет, что, когда ему было двенадцать лет (в этом возрасте дети обычно перестают бояться темноты), он перестал бояться Бога, хотя все еще верил в его существование. Сложную понятийную систему христианства Сара не сумела ему объяснить – и он никогда не мог поверить в Троицу. «Порой я обнаруживал, что молюсь – некоему Богу вообще. Он оставался для меня Богом, рассеянным в пространстве и времени, но все же мог откликнуться или волшебным образом изменить порядок вещей». Берти учился хорошо и без божьей помощи – но однажды на экзамене по бухгалтерии ему пришлось молить Бога вступиться за него. Тот не откликнулся – и Берти понял, что от молитв проку нет. Но безбожником не стал. Он просто перестал об этом думать.
Потом на него оказал влияние дядя Уильямс, который «был большим насмешником и презирал церковь и церковников». Потом он прочел Дарвина и антиклерикальные памфлеты Свифта. Религия – обман, церковники – дурные люди; но к Богу это все не имело отношения. В Саутси Герберт чувствовал себя одиноким, а двое служащих, которые проявили к нему интерес, оказались религиозны и пытались наставить его на путь истинный. Но сделать это было трудно, поскольку в Саутси проповедовали представители разных церквей и Берти слушал их всех подряд, а все они ругали друг друга. Католический проповедник, с упоением рассказывавший об адских муках, Берти особенно разозлил: ему казалось, что католики перепутали Бога с дьяволом. Но сам он оставался в сомнениях. Бога нет – или просто люди, вещающие от его имени, являются шарлатанами? В газетном киоске Берти покупал журнал «Свободомыслящий», где печатались карикатуры на священников; от карикатур он был в восторге, но они ничего не проясняли. «Если Бога нет, то на чем держится Вселенная и кто ею управляет? Когда она возникла и куда движется?» В Саутси ему полагалось пройти конфирмацию и стать прихожанином англиканской церкви; его отправили к викарию. Он сказал, что верит в эволюцию и поэтому не может верить в грехопадение и другие мифы. Викарий не смог его переубедить. Конфирмация не состоялась.
Теперь, в Мидхерсте, ему пришлось снова пройти через это: устав школы Байета требовал, чтобы каждый учитель принадлежал к англиканской церкви. Байет сказал, что конфирмоваться «надо»: вопросы веры при этом разговоре не затрагивались. Опять споры с викарием: оба понимали, что «надо», викарий старался решить вопрос как можно формальнее, Берти пытался втянуть его в дискуссию. Никто не победил: Берти встал на колени, принял причастие, но англиканская церковь не приобрела нового члена. Эту сделку с совестью он воспринял как страшнейшее унижение; стыд терзал его всю жизнь. Да, его загнали в ловушку – а все-таки он не насилию уступил, а солгал из выгоды.
Он преуспел: малыши в конце концов стали его слушаться, а «вечерники», которых он вел, сдали майские экзамены превосходно. Байет был весьма доволен ассистентом, но ассистент уже не был доволен своим местом. Должность школьного учителя, о которой он мечтал, будучи продавцом, теперь не представлялась ему верхом счастья. А не замахнуться ли на университетское образование? Возможность представилась: неугомонное министерство образования затеяло новый эксперимент. (Уэллс впоследствии много ругал британское образование, но оно старалось для него как умело.) В целях повышения квалификации учителей государственных школ для них учредили бесплатные вакансии в высших учебных заведениях. Несколько таких вакансий открылись в Нормальной научной школе (Normal School of Science). Это учебное заведение было основано в Сауз-Кенсингтоне (район Лондона) в 1881 году и по существу представляло собой педагогический факультет Лондонского университета. В Нормальной школе, или, как ее чаще называли, «Сауз-Кенсингтоне», было три курса: биологический, геологический и физико-астрономический. Обучение на каждом длилось год, студент, поступивший на один курс, в случае успешной сдачи экзаменов, переходил на другой, а окончив все три, получал университетский диплом. Народу там училось немного: 20–30 человек на каждом курсе; среди них примерно половина происходила из той же социальной среды, что и Уэллс.
Герберт, как и его ученики в школе Байета, проэкзаменовался с блеском и был зачислен в Нормальную школу. Ему повезло: вакансия со стипендией нашлась на курсе биологии, куда он и хотел попасть. На каникулы он поехал сперва к матери в «Ап-парк», затем к отцу в Бромли. Он не жил вместе с отцом больше трех лет и за это время почти не виделся с ним. Он всегда терпеть не мог мрачный Бромли и тоскливый «Атлас-хаус» – но тем летом ему там неожиданно понравилось. Без жены Джозефу Уэллсу жилось лучше. Он сам стряпал (гораздо искуснее, чем Сара), жил на те крохи, что выручал от продажи крикетных принадлежностей, имел кучу приятелей и был счастлив. С сыном они читали книги и обсуждали их, играли в шахматы и шашки – младший всегда проигрывал. Брали с собой еду и уходили на целый день гулять по окрестным полям; Лондон уже почти поглотил Бромли, но приметливый Джозеф показывал сыну то гнездо синицы, то росянку, то белый гриб. Взрослый Уэллс признает, что никогда не был наблюдателен, не замечал этих любопытных и прелестных мелочей. Кто-то другой – отец, друг, подруга – всегда должен был говорить ему «смотри-ка!»; сам он был этой способности лишен, все его знания шли «из головы»: «Мой ум стал организованным, потому что я не отличался живостью реакций». Страшноватое признание для писателя. Взрослый Уэллс вспоминает о своем разговоре с Джозефом Конрадом: они были на пляже, на волнах покачивалась лодка, и Конрад предложил коллеге описать ее. Уэллс отказался: «Пока она мне не важна, я и не подумаю удостоить ее особых слов».
Он провел с отцом вторую половину лета. Байет надеялся на то, что его ассистент повысит квалификацию и снова будет работать в Мидхерсте: ведь жалованье на второй год увеличивалось вдвое. Но ассистент не собирался возвращаться. Ему полагалась стипендия – один фунт в неделю и бесплатный проезд до Лондона. Он приехал; о том, что будет с ним дальше, он, при всей своей любви к планам и программам, даже не задумывался. «Когда я, худущий, лохматый мальчишка, просунулся со своей черной сумкой в ее (Нормальной школы. – М. Ч.) двери, у меня возникла мысль, что наконец-то я буду защищен и руководим… Я думал, что Нормальная школа знает, что со мной делать».
Глава вторая ПРЕПАРАТ ПОД МИКРОСКОПОМЕсли какой-нибудь Замечательный Человек учился в высшем учебном заведении – будьте уверены, там он непременно встретил столь же замечательного учителя. Герберт Уэллс не исключение, а имя учителя – Томас Генри Хаксли [13]13
У нас чаще пишут его фамилию как Гексли.
[Закрыть]. Блистательный самоучка, оставивший школу в 10 лет, в 20 Хаксли за работу по анатомии получи,! золотую медаль Лондонского университета, а в 25 был избран членом Лондонского королевского общества; он состоял членом правления Итона, Лондонского университета и Оуэнз-колледжа, был ректором Абердинского университета, профессором Королевского хирургического колледжа. Его считают лучшим специалистом по сравнительной анатомии второй половины XIX века. В 1859-м, когда Дарвин опубликовал «Происхождение видов», Хаксли стал главным защитником эволюционной теории и пошел дальше Дарвина в своих выводах: именно ему человечество обязано знанием (для многих неприятным) о своем происхождении. В 1863-м он издал работу «О положении человека в ряду органических существ» и вступил в полемику с деятелями церкви, не прекращавшуюся до самой его смерти. Он положил начало династии ученых и литераторов: среди его потомков, кроме писателя Олдоса Хаксли – Эндрю Хаксли, физиолог, нобелевский лауреат, и Джулиан Хаксли, первый генеральный директор ЮНЕСКО.
В Нормальной школе Хаксли был деканом биологического факультета. Ему было уже 60, когда Герберт Уэллс начинал учиться; Герберт прослушал 19 лекций Хаксли, после чего тот заболел и его заменил другой преподаватель [14]14
Дарвин тоже преподавал там, но он умер за два года до зачисления Уэллса на курс.
[Закрыть]. Впоследствии Уэллс отзывался о Хаксли как о «тонком наблюдателе, способном к широчайшим обобщениям», блестящем полемисте и великом педагоге. «Год, который я провел в ученичестве у Хаксли… выработал во мне стремление к последовательности и к поискам взаимных связей между вещами, а также неприятие тех случайных предположений и необоснованных утверждений, которые и составляют главный признак мышления человека необразованного, в отличие от образованного».
Годичный курс обучения включал в себя лекции и лабораторные занятия по ботанике, зоологии, анатомии, гистологии и смежным дисциплинам. Герберт впервые попал в настоящую исследовательскую лабораторию, где резали не только лягушек, и воочию увидел доказательства правоты Дарвина и Хаксли. Его рассказ об уроке анатомии приводит в своей книге Джеффри Уэст: «Я осознал, что человек является существом, занимающим строго отведенное ему место в грандиозной схеме мироздания. Я дотошно изучил его, конечного и неоконченного, плод компромисса и приспособления. Я рассматривал развитие его легких из плавательного пузыря шаг за шагом, со скальпелем и пробами, и примерно у одного из дюжины я видел червеобразный отросток слепой кишки, этот атавизм, и замечал, как жабры постепенно превращаются в ушные раковины, а челюсти рептилии, покинувшей водную среду, преобразуются в другие органы».
Свой быт в Сауз-Кенсингтоне, круг занятий и новых знакомых Уэллс описал в романе «Любовь и мистер Люишем» и рассказе «Препарат под микроскопом»: себя он не приукрасил, изобразив юного карьериста, острого на язык, угрюмого, отчаянно комплексующего и неприятного в общении. «Эта скотина Люишем – ужасный зубрила. В прошлом году он был вторым. Долбит изо всех сил. Но все эти зубрилы – страшно ограниченные люди. Экзамены, Дискуссионный клуб, снова экзамены. Они, наверное, и слыхом не слыхали, как живут люди. За целый год и близко-то к мюзик-холлу не подойдут». «В каждом, кто плохо одет или плохо выбрит – начиная с сапожника и кончая кучером – Хилл [15]15
Герой рассказа «Препарат под микроскопом».
[Закрыть]видел брата и товарища по несчастью. Он стал, так сказать, защитником всех отверженных и угнетенных, хотя со стороны казался просто самоуверенным, дурно воспитанным молодым человеком».
Однако же близким другом этот молодой человек обзавелся очень быстро. Студент Дженнингс был из хорошей семьи, получил, в отличие от Герберта, добротное классическое образование – и тем не менее выбрал в друзья дурно воспитанного Уэллса. «Ему нравились мои богохульства и мое несоблюдение приличий в разговоре, и он принимался в таких случаях одобрительно хихикать, а когда мы преодолели мою застенчивость, то начали обсуждать религию, политику и науку». Тут мы наталкиваемся на противоречие. Каким он был, этот Уэллс? Вроде бы он был застенчив (и от этого – резок и груб), нескладен, страдал из-за своей бедности, стремился всех эпатировать и тем отталкивал людей от себя. Тогда почему у него везде, куда б он ни попадал, моментально появлялся друг, а то и несколько, причем друзья эти, как правило, были хорошо воспитанные, добрые, рассудительные? Понять это так же трудно, как и то, что очаровательные женщины будут толпами бегать за ним. Один из друзей Уэллса по Нормальной школе вспоминал, что Герберт с первого взгляда поражал дружелюбием, юмором и способностью вести увлекательный разговор; впоследствии многие охарактеризуют его как блестящего собеседника, остроумца, обладавшего громадным обаянием. По-видимому, это обаяние было того неуловимого, летучего свойства, которое невозможно передать; со смертью своего носителя оно растворилось в воздухе – нам остается только верить, что оно было, и пытаться поймать хотя бы малый его отблеск.
У Дженнингса водились деньги, и он подкармливал тощего и скверно одетого друга. У самого Уэллса лишних денег не бывало. Воротничок у него был всего один, ботинки худые, питался он преимущественно полупенсовыми булочками. Фунт в неделю – это вроде бы немало, иные из знаменитых современников в юности неделю жили на семь шиллингов [16]16
Шиллинг – 1/20 фунта.
[Закрыть]; но львиная доля стипендии Герберта уходила на квартплату, так что на все прочее оставались те же семь шиллингов. Общежитий студентам не полагалось, каждый устраивался как мог. Сара попросила дочь своей подруги, жившую на улице Уэст-борн-парк, от которой можно было пешком дойти до Нормальной школы, взять сына квартирантом: ей казалось, что так он будет под присмотром. Она просчиталась: и сама хозяйка, и ее приятельница, совместно с которой та владела домом, и их мужья высокой нравственностью не отличались. Все много пили; пока мужчины были на работе, дамы выходили искать развлечений, в выходные все вместе отправлялись в мюзик-холл. Скандалы вспыхивали чуть не каждый день.
Разумеется, возвышенный Герберт должен был бежать от такой жизни. После лекций он занимался в библиотеке; когда она закрывалась, возвращался домой и садился со своими конспектами на лестничной площадке, где также делали уроки дети хозяйки. Потом Дженнингс заходил за ним и они гуляли по Лондону; утром хозяйка кормила его завтраком, и он убегал на занятия. Поскольку он называл обстановку на Уэст-борн-парк мерзкой, то выходные дни, надо полагать, проводил в музеях, стоя перед прекрасными полотнами или изучая какой-нибудь древний череп. Но, оказывается, все не так: в субботу хозяева приглашали его прошвырнуться по магазинам и зайти в пивную – он охотно составлял им компанию. Может быть, он поступал так, потому что ему было некуда деваться? Но он сам пишет, что «находил какое-то удовольствие в том, чтобы шляться с этой разряженной компанией, бешено торговаться в лавках, задирать прохожих, хохотать над грубыми уличными сценками». Что ж, это нетрудно понять: вырос среди лавочников, подобный образ жизни для него был естествен… А на следующей странице он называет этих людей «превосходившими своей низостью, грубостью и животной сущностью все, что когда-либо видел», и говорит, что задыхался от омерзения. Вот и пойми его…
В Нормальной школе был Дискуссионный клуб: Герберт стал его членом. Собиралось это студенческое общество в одной из подвальных аудиторий: кто-нибудь читал доклад, затем начинались прения: «Нам не разрешалось затрагивать религию и политику, остальная вселенная была в нашем распоряжении». Уэллсу вселенной было мало, он хотел критиковать церковь; однажды, когда он попытался это сделать, его вытолкали из аудитории пинками. Несмотря на этот инцидент, его признавали одним из лучших ораторов. «Ум у него был острый и быстрый, – вспоминал один из сокурсников. – Его сарказм никогда не ранил тех, против кого был направлен, потому что он все смягчал своим юмором и говорил правду. Он нападал на условности, фальшь и притворство… и разрушал устоявшиеся мнения».
В Дискуссионном клубе Герберт нашел новых друзей, отношения с которыми сохранит на всю жизнь: Уильям Бертон (впоследствии ученый-химик), Морли Дэвис (будущий выдающийся палеонтолог), Ричард Грегори (в дальнейшем астроном, председатель Британской ассоциации развития науки), и еще девушка – ее зовут мисс Хейдингер в «Мистере Люишеме» и мисс Хейсмен в «Препарате под микроскопом», а настоящее ее имя Элизабет Хили. У героя и героини общие идеи (прогресс, справедливость и т. д.), они симпатизируют другу – но в обоих текстах героиня влюблена, а для героя она просто товарищ. Несмотря на то, что жизнь Уэллса изучена до мелочей, неизвестно, любила ли его Элизабет или он выдавал желаемое за действительное. В автобиографии он с теплотой, но очень мало упоминает о мисс Хили, а между тем он до самой смерти будет вести с этой женщиной интенсивную переписку и делиться с нею абсолютно всем.
Весной 1885-го в жизнь Герберта вмешалась другая молодая женщина – его двоюродная сестра со стороны отца Дженни Галл. Она служила продавщицей в магазине готового платья; Герберт бывал у нее в гостях, водил ее в мюзик-холл или на прогулки. В доме, где он жил, заниматься было невозможно, и Дженни, выслушав его жалобы, заявила, что необходимо сменить квартиру. Еще одна лондонская родственница Джозефа, «тетя Мэри», вдова, проживавшая с дочерью и незамужней сестрой, сдавала комнаты: Берти переехал к ним, на Юстон-роуд. Дом был еще беднее – и там и там не было прислуги, хозяйки всю работу делали сами, но на Уэстборн-парк все-таки питались неплохо и посещали мюзик-холлы, а на Юстон-роуд царила почти что нищета. Герберту отвели спальню на втором этаже, а зубрил он вечерами в кухне. (Почему все эти викторианские студенты занимались в кухнях, передних и на лестничных клетках, если у них были свои комнаты? Ответ прост: они занимались там, где топили и где было газовое освещение.) Иногда Герберт уходил читать в свою спальню, но он при этом зажигал свечку, заворачивался в одеяло и у него зуб на зуб не попадал. Но в этом доме он прижился. Атмосфера была домашняя, жильцы спокойные. А главное, там он встретил любовь – другую свою кузину Изабеллу Уэллс, дочь тетушки Мэри.
Девушка работала ретушером в фотографическом ателье и посещала студию рисования; он встречал ее после работы или занятий, и они гуляли по городу. «У нас с самого начала возникло ощущение родства, которое, несмотря на все наши ссоры, женитьбу и развод, делало нас добрыми друзьями, сохранившими доверительность отношений до самого конца ее жизни, правда, я думаю, что нам с первой встречи лучше было бы оставаться братом и сестрой, тогда как ближайшее соседство, уединенная жизнь и необходимость навязали нам роль любовников». Уэллс написал о своих отношениях с первой женой много и вроде бы откровенно; тем не менее понять суть этих отношений затруднительно (его «самопрепарирование» многие вещи не проясняет, а затемняет): то он утверждает, что привязанность их была братской, то говорит, что это была безумная страсть без малейшего духовного родства; на одной странице Изабелла предстает ангелом, на другой – мещанкой, стремящейся низвести любимого до собственного уровня; герой пытается разложить свою любовь по полочкам, запутывается сам и запутывает биографов. Если же не усложнять, а, напротив, упростить ситуацию до уровня любимых Уэллсом схем, получается следующее: он любил, она позволяла любить себя. Изабелла была равнодушна к книгам. Ее представления о счастье были обычны: замужество и «приличная жизнь». Она не хотела связи вне брака, и в этом они с Гербертом расходились: ему импонировала идея «свободной любви». Характер у Изабеллы был твердый – и все получилось так, как она хотела.
Годичный курс обучения подошел к концу; Герберт сдал экзамены «по первому классу», то есть получил более 80 процентов оценок «отлично». Конечно, он хотел бы продолжить обучение биологии в Лондонском университете, но это было невозможно; экзаменационная комиссия отправила его на второй курс – физики, где деканом и основным лектором был Фредерик Гатри. В отличие от Хаксли это был ничем не примечательный профессор. Герберту лекции Гатри казались скучны и он ими пренебрегал; с лабораторными занятиями он не справлялся, опыты находил дурацкими. Руки у молодого Уэллса были «как крюки», все практическое вызывало у него неприязнь (так что хорошим анатомом или зоологом он бы все равно не стал); он хотел заниматься только теоретической наукой, областью чистых идей. Он мечтал, чтобы ему показали всеобъемлющую картину мира, научили одним взором постичь «все» – а ему преподавали разрозненные сведения и приказывали выполнять бесполезные задания. Велят, например, изготовить барометр – зачем это нужно ученому, ведь он не стеклодув! Он требовал, чтобы физика ответила ему на вопрос о соотношении между детерминизмом и свободой воли, а его вместо этого заставляли учить электрические или оптические формулы. Он стал прогуливать занятия, пререкался с преподавателями, на лекциях Гатри демонстративно читал книги по другим предметам, играл в карты с сокурсниками – только что кнопок на сиденье профессору не подкладывал (если бы подкладывал – не преминул бы написать об этом). Обыкновенный студент? Обыкновенный, да не совсем: зимой 1886 года он «от нечего делать» сдал экзамен по немецкому языку, выученному им самостоятельно, в Лондонском университете (там экзаменоваться могли все желающие). Но заплатить за обучение в университете он не мог.
Уже к концу второго года учебы Нормальная школа его разочаровала. Он ожидал, что наставники будут все как на подбор гениальные ученые, а они оказались обыкновенными людьми. Он надеялся, что Нормальная школа «знает, что с ним делать», а его предоставили самому себе. «Здесь нет разумной цели, объединяющей идеи, философской базы, социальной направленности, способных сделать колледж чем-то единым. А я не вижу иной надежды организовать и подчинить себе мировой порядок, кроме как через объединение педагогического и философского процессов». Конечно, для человека, намеревающегося подчинить себе мировой порядок, всякое техническое или естественное образование будет недостаточным. Его интересовали философия, социология, педагогика (но не политика и не экономика – в этих дисциплинах он до конца своих дней разбирался слабо).
Отдушиной оставался Дискуссионный клуб – там он в 1885-м прочитал доклад «Прошлое и будущее человеческой расы». Сперва он констатировал, что с развитием цивилизации человек уже изменился физически, но это пустяк по сравнению с тем, как еще ему предстоит измениться, приспосабливаясь к окружающей среде. Руки станут сильнее и гибче, прочие мускулы ослабнут, мозг увеличится, а с ним и голова; рот будет маленький, потому что с его помощью будут только разговаривать, но не есть – пищеварительного аппарата не станет вовсе и питательные вещества будут усваиваться через кожу; эмоции угаснут, способность к логическому мышлению возрастет. Ничего особенно оригинального он не выдумал – в конце XIX века многие видели будущего человека примерно таким. Основные положения этого доклада двумя годами позднее повторятся в ироническом эссе «Человек миллионного года» (The Man of the Year Million). Но об эволюции человека Уэллс уже тогда задумывался всерьез и уже тогда выразил сомнение в том, что этого человека будет правомерно назвать человеком, а не новым видом.
Он был обижен обществом, считал себя гадким утенком – естественно, его привлекал социализм. Неравенство людей – это нехорошо; нужно построить новое, справедливое общество. В Мидхерсте, изучив Платона и Генри Джорджа, он понял, что неравенство порождено частной собственностью, которая есть зло. Дальше можно было пойти в сторону Маркса. Но Маркса он терпеть не мог: называл его «напыщенным, самонадеянным и коварным» и неоднократно говорил, что, не будь Маркса на свете, жизнь была бы значительно лучше. Между прочим, нет никаких свидетельств тому, что он Маркса читал – разве что краткие выдержки из «Капитала», с которыми ознакомился на первом году учебы в Сауз-Кенсингтоне: он «был к тому времени достаточно умственно вооружен, чтобы по достоинству оценить его (Маркса. – М. Ч.) заманчивую, туманную и опасную идею переделки мира на основе одной лишь злобы и разрушения». «Обвинять других и злиться, что все не так, – естественное побуждение всякого человека, попавшего в беду», а Маркс, по мнению Уэллса, коварно играл на подобных чувствах, возникающих у людей из низших классов. На первый взгляд это неприятие марксизма юным Уэллсом кажется странным. Ведь он так остро ощущал себя и свою семью обездоленными, его так злили богатые молодые люди, которым все подносилось на тарелочке; он так мечтал о полной переделке мира и, учитывая его возраст, ему вроде должно было хотеться, чтобы эта переделка совершилась как можно скорей. «Отнять и поделить» – эта идея просто обязана была казаться ему заманчивой. Но дело в том, что бедных он не любил еще больше, чем богатых. «Маркс был за освобождение пролетариата, а я стою за его уничтожение».
Проще всего объяснить неприязнь Уэллса к пролетариату тем, что он по формальным признакам принадлежал к мелкой буржуазии, а значит, смотрел на рабочих сверху вниз. Но это объяснение верно лишь отчасти – да, происхождение накладывает отпечаток, но Уэллс ведь и мелкую буржуазию не любил тоже (как, впрочем, и крупную: он не жаловал никого, кроме интеллигенции и, как ни странно, помещичьей аристократии). Причина скорее была в том, что он не хотел признавать себя «низшим» и отказывался этим гордиться. «Я никогда не верил в превосходство низших. <…> Пылкая моя душа требовала равенства, но равенства социального статуса и возможностей, а не одинакового уважения ко всем или одинаковой платы; у меня не было ни малейшего желания отказаться от представлений о своем превосходстве и сравняться с людьми, добровольно признавшими свое униженное положение. Я считал, что быть первым в классе лучше, чем быть последним, и что мальчик, выдержавший экзамен, лучше того, который провалился».
Он выбирал не «хижины», населенные необразованными пьяницами и пошлыми женщинами, подобно дому на Уэст-борн-парк, а «дворцы», полные книг и картин, как «Ап-парк». Вольно было Марксу, родившемуся в интеллигентной семье, возлюбить пролетария и его лачугу; а поживи-ка он среди пролетариев сам – так, может, увидел бы, что не дворцам следует объявлять войну? Да, но как же «видел брата в сапожнике, кучере и всяком, кто плохо одет»? Да так, как если бы человек, чей родственник – опустившийся пьяница, злился бы, когда чужаки над этим родственником смеются и показывают на него пальцами.








