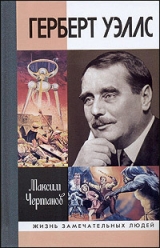
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
«– Вы ели здесь, – обратился он (Амфитеатров. – М. Ч.) к Уэллсу, – рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные специально в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! Правда, вы видите нас пристойно одетыми; как вы можете заметить, есть среди нас даже один смокинг. Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, и может быть, наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, „бельем“… <…>
После минутного молчания сидевший рядом со мной Виктор Шкловский <…> сорвался со стула и закричал в лицо бесстрастного туриста:
„– Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас и за голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня „курьезным историческим опытом“! <…>
– Слушайте, вы! равнодушный и краснорожий! – кричал Шкловский, размахивая ложкой. – Будьте уверены, английская знаменитость, какой вы являетесь, что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец вашему идиллическому, трам-трам-трам, и вашему непоколебимому спокойствию!“
Герберт Уэллс хотел вежливо ответить на это выступление, но перепутал имена говоривших, которые в порыве негодования кинулись друг на друга с громогласными объяснениями…»
Шкловскому эпизод запомнился несколько иначе, особенно в том, что касается его собственной речи: «Выступил Амфитеатров, который говорил о том, что на нас одето – это хороший костюм, а под этим костюмом обрывки грязного белья… <…> Горький говорил: „Знаете, нехорошо так жаловаться“. Я выступил…<…> „Вы нам устроили блокаду. У нас закрыт порт, вот недавно к нам пришел корабль, который привез немножко еды и духи. Мы эти духи меняли в окрестностях, хорошие французские духи. И вот отношения испорчены навсегда. Ну, словом, это не забудем“. Уэллс ответил: „Я не отвечаю за это, политика ужасная…“» Слонимский: «Тут он [Амфитеатров] взъярился и, вообразив себя, очевидно, перед многотысячной аудиторией, завопил: „Но если все здесь скинут с себя верхние одежды, то вы, господин Уэллс, увидите грязное, давно не мытое, клочьями висящее белье!“ Тут Алексей Максимович улыбнулся.<…> Это уже был анекдот. Стараясь разоблачить перед иностранным гостем „ужасы революции“, противники самым комическим образом разоблачали самих себя». А вот воспоминания Оцупа о выступлении Амфитеатрова: «Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих слишком интимных несчастьях. Гумилева особенно покоробило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорящему и произнес довольно громко: „Parlez pour vous!“».
Все сходятся на том, что Амфитеатров на Уэллса злобно кричал. Перевод, вероятно, кое-что смягчил, но интонация не могла от Эйч Джи ускользнуть. Из его собственного комментария следует, что он не обиделся: «…г. Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и – что касается меня – совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета». Вообще-то Эйч Джи физически не переносил, когда на него орали, мгновенно ощетинивался и слов кричащего уже не воспринимал. Вероятно, если бы Амфитеатров высказался в спокойном тоне, Уэллс отнесся бы к его речам иначе. Впрочем, это ничего бы не изменило. Из присутствовавших на обеде лишь единицы умрут на родине и притом в своей постели.
Что говорил и как вел себя сам Уэллс? Николай Чуковский со слов отца пишет, что он слушал речи «с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать». Георгию Иванову в нем увиделись «величие, важность, небрежность». Но в большинстве описаний ссылаются на Анненкова: «В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им – иностранным путешественником – от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт, который развертывается в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией“». С английской сигарой, улыбается, «курьезный» опыт, «удовольствие» – что за чудовище! Но все же давайте разбираться.
Человека чествуют на банкете – он должен не улыбаться, а нахмуриться и сказать: «Я недоволен тем, что меня сюда позвали, и за ваши дурацкие приветствия вам ничуточки не признателен»? А сигара в руке? Уэллс был человек более-менее светский, привыкший к обществу: не мог он произносить речь, куря сигару, если только в это же время не курили и остальные (а они наверняка курили – Горький вообще не расставался с папиросой). И наконец, самое ужасное слово – «курьезный». Английское curious можно перевести и так. Но у этого слова много других значений. Прежде всего – «познавательный». Трудно сказать, ошиблись ли переводчики или сам Анненков, а только Уэллс, не будучи мертвецки пьян, не мог назвать русскую революцию «курьезной». Он называл «курьезными» наши порядки, а не революцию, да и то лишь в частных разговорах с соотечественниками. Ничего «курьезного» он в России не увидел, кроме одного: «Я хочу сказать лишь несколько слов о доме отдыха для рабочих на Каменном острове. Это начинание показалось мне одновременно и превосходным и довольно курьезным. Рабочих посылают сюда на 2–3 недели отдохнуть в культурных условиях. <…> И рабочий должен вести себя в соответствии с этой изящной обстановкой; это один из методов его перевоспитания. Мне рассказывали, что, если отдыхающий забудется и, откашлявшись, по доброй старой простонародной привычке сплюнет на пол, служитель обводит это место мелом и предлагает ему вытереть оскверненный паркет».
С той же неприязнью, с какой наши (и советские, и эмигранты) описывают выбритые щеки и приличный пиджак Уэллса, они отмечают то, что он написал о «гибнущем», по его же выражению, Петрограде: «Спичек здесь больше, чем было в Англии в 1917 году, и надо сказать, что советская спичка – весьма недурного качества. Но такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяла, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно», «При простуде и головной боли принять нечего; нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку». А еще он купил тарелку за 800 рублей… [79]79
К осени 1920 года покупательная способность рубля упала в десять тысяч раз (то есть за то, что до войны стоило десять копеек, теперь приходилось платить тысячу рублей).
[Закрыть]Мы гибнем, а эта сытая сволочь тарелки покупает и жалуется на всякую чепуху: ах, на витринах краска облупилась, ах, трамвай ходит только до шести! «Мне, которому слишком не новы многие открытия Уэллса насчет ужасов в России, – писал Бунин, – было все-таки больно и страшно читать его; мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к „хижинам кафров“, в гости к одному из людоедских царьков (лично, впрочем, не людоеду, „он не коммунист, как и я“) – стыдно за это неподражаемое: „бедные дикари, у них нет даже бутылки горячей воды для постели!“ – стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы с „ванной и парикмахером“, куда он, мудрый и всезнающий Уэллс, вошел, „как неожиданный луч света“, куда „так легко“, так непонятно легко для этих узников прогулялся он, „свободный, независимый“ гражданин мира, не идеального, конечно, но ведь все-таки человеческого, а не скотского, не звериного, не большевистского…»
Да, текст Уэллса нам режет ухо (или сердце), но он писался не для нас. Он был предназначен для людей, которые не поймут, что творится с Петроградом, если не объяснить на доступных им примерах. Уэллс написал вначале общие слова «подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке», употребил выражения «колоссальный непоправимый крах», «катастрофа», «невероятные лишения»; но как донести смысл этих выражений до лондонцев? Вообразите себе, у них даже магазины не работают! Это последняя степень падения!.. Обратим внимание: в «России во мгле» Уэллс и своим пророчит разруху, если не реорганизуют общество на социалистический (но не большевистский) лад, и для описания грядущей катастрофы использует тот же довод: «Магазины Риджент-стрит постигнет судьба магазинов Невского проспекта»… Примечательно, что то же самое, что возмутило Бунина, не понравилось и советским. Александр Беляев: «Иностранец не слыхал уличных разговоров, в которых можно было услышать радость нового пролетарского города. Он улавливал ухом только слова „нэп“, „пайки“, так уж было устроено его ухо». Глухо к «музыке революции», как скажет Троцкий, и восприимчиво только к ее плоти.
Хорошо еще, что Бунин, когда писал свою статью «Несколько слов английскому писателю», не знал некоторых замечаний Шкловского – тот вспоминал один из своих разговоров с Уэллсом: «Уэллс тогда сидел, а сын занимался своими делами, и он мне говорил. Он мне говорил, что в этой стране надо спекулировать. <…> Спекулировать, потому что здесь, говорит, такие вещи продаются, нефрит выбрасывается… старый английский фарфор, китайский фарфор, английский, воруется». Трудно судить, не перепутал ли пожилой Шкловский чего-нибудь. В «России во мгле» Уэллс писал о спекулянтах: их расстреливают (он полагал, что только их), и это правильно, ибо иначе невозможно бороться с голодом. Маловероятно, что он призывал кого-то заняться спекуляцией.
Культурная программа включает посещение театров – с этим все было как прежде. «Мы слышали величайшего певца и актера Шаляпина в „Севильском цирюльнике“ и „Хованщине“; музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему появлялся во фраке и белом галстуке. Мы были на „Садко“, видели Монахова в „Царевиче Алексее“ и в роли Яго в „Отелло“ (жена Горького, г-жа Андреева, играла Дездемону)». С Шаляпиным Уэллс познакомился и был потом у него в гостях: «Революция так мало коснулась г-жи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последний дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности». (Шаляпины отдадут визит, когда приедут в «Истон-Глиб» на уик-энд.) Встретился с композитором Глазуновым, с которым познакомился в Лондоне: «Он вспоминал Лондон и Оксфорд; я видел, что он охвачен нестерпимым желанием снова очутиться в большом, полном жизни городе, с его изобилием, с его оживленной толпой, в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как бы живым доказательством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым виднелись пустынные в сумерках воды холодной свинцово-серой Невы и неясные очертания Петропавловской крепости. „В Англии не будет революции, нет? У меня было много друзей в Англии, много хороших друзей…“ Мне тяжело было покидать его, и ему очень тяжело расставаться со мной…» Джип в это время побывал в Обуховской больнице и рассказывал о ее бедственном положении. Ничего «курьезного» Уэллс во всем этом не находил. Всякий, кто даст себе труд прочесть «Россию во мгле», увидит, что ему было тягостно и тоскливо.
Ходили с Марией Бенкендорф в Эрмитаж, гуляли, ездили на Васильевский остров. По вечерам сидели за столом с гостями, потом Горький чаще всего уводил Эйч Джи к себе в кабинет и там они до глубокой ночи разговаривали при посредничестве переводчицы, обсуждая совместные прожекты, Горькому очень понравилась «Схема истории», он намеревался перевести ее на русский (это не было сделано). Правомерно называть Горького и Уэллса друзьями – или это натяжка? Они виделись три раза. После первой встречи в Штатах переписывались регулярно, хотя не очень часто. Но их идейная близость была велика: дабы не углубляться в литературоведение, изложим основные сходства, опуская аргументацию. Итак, общее:
1. И Уэллсу, и Горькому активно не нравился человек нашего вида. (Павел Басинский свою книгу о Горьком заключил придумкой, что Горький мог быть инопланетянином, засланным в наш мир; то же можно сказать об Уэллсе.)
2. Оба мечтали о пришествии ему на смену другого, качественно нового человека.
3. Были убеждены, что такой человек должен формироваться путем просвещения, воспитания и образования, которое желательно начинать с детства.
4. Очень не любили крестьянство, деревню и так называемый «Восток».
5. Единственной стоящей социальной группой считали интеллигенцию.
6. Не верили в массы, а только в передовые группы просвещенных людей.
7. Были привержены энциклопедизму, пытались написать (или организовать, чтобы другие написали) «всё про всё».
8. Занимались богостроительством (Горький – больше, Уэллс – меньше); у обоих Богом – если предельно упростить – назывались симпатичные им человеческие черты: что-то вроде мужества у Уэллса, что-то вроде совести у Горького.
Эрудированный читатель, без сомнения, найдет чем продолжить этот ряд. Сходства были не только идеологические, но и человеческие: оба оказывали очень много практической помощи другим людям (и при этом обоих называли злыми – зачастую называли люди, которые сами никому не помогали, аргументируя это тем, что лучше с Богом в душе напакостить своему ближнему, чем без Бога в душе ему помочь); оба были резки в высказываниях, часто ссорились и мирились с окружающими; оба питали чрезвычайную, почти болезненную слабость к женскому полу; оба любили веселье, суету, гостей и «дым коромыслом».
Различия же не особенно значительны. Уэллс ненавидел Маркса, Горький был к нему безразличен; Уэллс терпеть не мог пролетариата, Горький его не то чтобы любил, но относился скорее с симпатией. Имелись различия и в характерах: Горький, к примеру, стоически переносил болезни, Уэллс, болея, капризничал как ребенок; Горький был умелым организатором, Уэллс – никудышным. Ряд опять же можно продолжать, но вряд ли найдется что-то принципиальное. У Уэллса все смягчалось его «английскостью», у Горького обострялось его «русскостью». Они были похожи как близнецы, которых после рождения поместили в разную среду. Что же касается творческого метода и стиля, то между яркой, словно ковер, прозой Горького и сухой и стерильной, как больничная марля, прозой Уэллса сходства никакого нет, кроме одного: тут и там герои очень много разглагольствуют.
* * *
Совсем тоскливо Уэллсу стало во время посещения Дома ученых, организацией которого гордился его русский друг. За несколько дней до приезда Уэллса Луначарский писал Рыкову: «Пусть в этой области, совершенно невинной политически области подкармливания ученых, использования их силы в аполитичной культурной области Горький заработает, до некоторой степени, карт-бланш». Уэллс не заметил, чтобы ученых хорошо «подкармливали»: «Многие из них отчаялись уже получить какие-либо вести из зарубежного мира. В течение трех лет, очень мрачных и долгих, они жили в мире, который, казалось, неуклонно опускался с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже, в непроглядную тьму. Не знаю, может быть, им довелось встретиться с той или иной политической делегацией, посетившей Россию, но совершенно очевидно, что они никак не ожидали, что им когда-либо придется снова увидеть свободного и независимого человека, который, казалось, без затруднений, сам по себе, прибыл из Лондона и который мог не только приехать, но и вернуться снова в потерянный для них мир Запада. Это произвело такое же впечатление, как если б в тюремную камеру вдруг зашел с визитом нежданный посетитель».
Ученые тем не менее продолжали заниматься наукой, Уэллса это восхищало. Бунин с возмущением писал, что в бедствиях ученых повинна не английская блокада, как утверждал Уэллс, а Ленин. Ну хорошо, во всем виноват Ленин, а наши помещики абсолютно ни в чем не виновны, но Уэллсу-то что было теперь делать? Он видел, что ученые голодают и что у них нет книг – это был факт, и если бы блокаду не сняли, от этого стало бы веселее Бунину, но вряд ли Павлову… Предположим фантастическое: европейские страны доводят интервенцию до победного конца и сажают на трон Колчака или Врангеля: не факт, что все ученые бы до этого дожили, что большевики, отступая, их не расстреляли бы (Ленин намеревался использовать интеллигенцию в качестве «живого щита» при обороне Петрограда от Юденича), что белые их не расстреляли бы за сотрудничество с большевиками… «Если этой зимой Петроград погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых. – написал Уэллс, – если только нам не удастся помочь им какими-нибудь чрезвычайными мерами…» Он упоминает о медике Иване Ивановиче Манухине и его новом методе лечения туберкулеза (радиологическом; он лечил по этому методу Горького и Мережковского). Уэллс увез с собой список работ Манухина и опубликовал его в Англии; быть может, это хоть чуточку помогло Манухину, когда он в 1930-х уехал в эмиграцию… «Увы, опять и опять немного не так, г. Уэллс, – Павлов не раз, но совершенно тщетно молил выпустить его из ада, столь мило изображенного вами..» Увы, опять и опять немного не так, уважаемый, любимый Иван Алексеевич: ад не был «мило» изображен. «На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке».
Из самых крупных советских руководителей Уэллс общался с Лениным и Зиновьевым. Встреча с Лениным была назначена на утро 6 октября – так, во всяком случае, утверждают советские источники. У Берберовой написано «12 октября», а у Клэр Шеридан – «5 октября». Уэллс с Джипом выехали в Москву вечером 4-го (а если верить Шеридан, то 3-го) курьерским поездом (он шел 14 часов) в спальном вагоне люкс, где, однако, «не было ни графинов для воды, ни стаканов, ни тому подобных мелочей». Мария Бенкендорф с ними не поехала. Сопровождал их матрос, которому в Петрограде выдали серебряный чайник, чтобы британцы могли попить чаю в дороге. Уэллс догадался, что чайник принадлежал ранее частному лицу, однако написал, что «по-видимому, этот чайник вступил на путь служения обществу совершенно законным образом». Это не простодушие, а так называемый британский юмор, которого наши в большинстве своем не поняли.
В Москве Уэллсов устроили в особняке на Софийской набережной, где раньше было (и снова есть) британское посольство; тогда же это был дом для приема заграничных гостей и одновременно – склад экспроприированных художественных ценностей, которые Эйч Джи обозвал «великолепной рухлядью»: «Эти вещи никак не подходят новому миру, если только на самом деле русские коммунисты строят новый мир». В особняке жили также Клэр Шеридан и американский банкир Фрэнк Вандерлип, приехавший для переговоров о заключении концессий в Баку и на Камчатке, а также, как считается, для «прощупывания почвы» относительно установления дипломатических отношений США с советской Россией. Уэллсу это обстоятельство казалось подозрительным – как можно толковать о каких-то концессиях с непризнанным правительством? Таинственный Вандерлип перемешался по городу самостоятельно, а Шеридан курировал сотрудник Наркоминдела Михаил Маркович Бородин (Грузенберг), бывший ранее послом в Мексике и выполнявший разные деликатные миссии в США. Ему же поручили и Уэллсов – на два дня.
Шеридан писала (она, как и Уэллс, опубликовала книгу о поездке в Россию [80]80
Sheridan С. Mayfair in Moscow: Claire Sheridan's Diary. New York, 1921.
[Закрыть]), что Эйч Джи был «как обычно весел и очень смешно описывал свои приключения в Петрограде». Значит, не солгал Анненков – «курьезно»? Да, но не ученые, умирающие от голода, а организация быта и образ жизни. Уэллсы явились к завтраку; прислугой был специально испечен яблочный пирог. Бородин от пирога злобно отказался (как пишет Шеридан, «коммунист в нем восстал» против этого пирога) и сказал Клэр, что ненавидит Уэллса, но не объяснил почему. Гуляли по Москве, обедали, ужинали – на стол подавал лакей. Сидели за полночь, делились впечатлениями, нашли, что всякий русский дом похож на вокзал: русские могут войти к человеку в спальню, когда тот не одет, едят и курят в тех же комнатах, где спят. Уэллс, по словам Шеридан, слишком много жаловался на скверные бытовые условия. «Ему абсолютно необходимы утренняя ванна, ежедневная газета, тихий завтрак. <…> Но если вы так устроены, что отсутствие горячей ванны мешает вам оценить Россию, о дорогой Эйч Джи, вам нужно менять свои привычки!» – иронизировала Шеридан, несколькими абзацами ранее, впрочем, с восторгом писавшая, что наконец-то смогла принять ванну.
Особняк был благоустроенный, ужин хороший, собеседники интересные, но Уэллс брюзжал: «Все мое пребывание в Москве было исковеркано глубоко раздражающей неразберихой. <…> Хотя я сам слышал, как Горький заранее договорился по междугородному телефону о моей встрече с Лениным, в Москве мне заявили, что там ничего не знали о моем приезде». Утром в Кремль Уэллса сопровождал уже не матрос, а другой человек, без чайника: Федор Аронович Ротштейн, член социалистической партии Британии и один из основателей ее компартии, в 1920-м вернувшийся на родину и ставший сотрудником Наркомата иностранных дел. Чтобы попасть на прием к Ленину, понадобилось множество звонков, время встречи дважды переносили, пять раз проверяли документы. Уэллс опять сердился: с Ллойд Джорджем и Рузвельтом подобных сложностей не возникало. Но наконец Ленин принял его; присутствовали также Чичерин, частично взявший на себя функции переводчика, и фотограф.
«Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха». Троцкий в книге «Вокруг октября» напишет, что Ленин не смеялся в присутствии Уэллса потому, что ему хотелось: а) зевать от скуки и б) материться от досады; ни того ни другого он не делал из вежливости. Троцкому, конечно, виднее…
Опустим стократно цитированное описание внешности Ленина – мы и без Уэллса знаем, как он выглядел. К содержанию разговора: Уэллс выделил две темы. «Одну тему вел я: „Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?“ Вторую тему вел он: „Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтобы подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?“». Такие глобальные вопросы за полтора часа не обсудишь, беседа получилась обрывочная. Уэллс сказал Ленину, что разрушенные города надо восстанавливать; Ленин согласился. Ленин изложил план ГОЭЛРО; Уэллс не поверил и именно за это назвал собеседника мечтателем [81]81
У драматурга Н. Погодина есть пьеса «Кремлевские куранты», в которой описан разговор Ленина с Уэллсом по поводу электрификации. С. Юткевич снимал по ней фильм «Свет над Россией».
[Закрыть]. Перешли к крестьянам: Уэллс сомневался, что с ними можно сварить кашу; тут Ленин «наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать».
Крестьян Уэллс не любил еще больше, чем пролетариев, считал их оплотом консерватизма и реакционности, причем жестокой и агрессивной. Не будем отмахиваться, а вспомним рассказы Чехова или Горького, лично наблюдавшего, как в деревне кнутом забили женщину – под дружный хохот зрителей, – и описавшего множество картин изощренного садизма. В 1922-м Горький напишет статью «О русском крестьянстве» (при советской власти она не будет опубликована на родине), в которой скажет о крестьянах совершенно ужасные вещи. Вряд ли Уэллс видел подобные сцены в Англии, но рассказы Горького читал и с самим Горьким на эту тему разговаривал. Теперь ему показалось, что и Ленин своих крестьян до смерти боится.
Далее перешли к образованию: Уэллс похвалил школы, Ленин «был доволен». Уэллс покритиковал кое-что из увиденного: «По-моему, во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая раньше, чем они сами готовы строить; особенно это ощущается в Петроградской коммуне. Коммунисты уничтожили торговлю раньше, чем они были готовы ввести нормированную выдачу продуктов; они ликвидировали кооперативную систему вместо того, чтобы использовать ее, и т. д.». Он стал убеждать Ленина в том, что от капитализма к социализму можно перейти эволюционным путем; Ленин ответил, что нельзя. Уэллс сказал, что войны порождаются не капитализмом, а национализмом; Ленин от этой темы увильнул и подробно рассказал о концессиях Вандерлипа, после чего спросил: «Поможет это укрепить мир? А не явится ли это началом новой всемирной драки? Понравится ли такой проект английским империалистам?» Эйч Джи отделался общими словами.
«Сила его была в простоте замысла, сочетавшейся с изощренностью мысли, – писал Уэллс о Ленине в „Опыте автобиографии“. – Казалось, что он – полновластный хозяин всего, что осталось от России; однако владычество его было не таким уж безграничным, ему приходилось держать в узде строптивую команду сторонников и такое орудие, как ОГПУ, которое могло выскользнуть из рук и ужалить его самого – скажем, когда казнили великих князей после его распоряжения об отсрочке». Интересно, конечно, кто ему рассказал эту историю – про отсрочку и нарушенные ленинские распоряжения…
Троцкий утверждал, что Ленин после окончания беседы сказал ему, заливаясь смехом: «Ну и мещанин! Ну и филистер!!» Ленин, по словам Троцкого, об Уэллсе тотчас забыл, но сам Троцкий не забыл и в книге. «Вокруг октября» заполнил цветистыми ругательствами в его адрес («напыщенное самодовольство», «цивилизованное чванство», «воплощает породу мнимообразованных, ограниченных мещан», его остроумие «тяжеловатое, как пудинг» и т. п.) целую главу, содержание которой вкратце можно передать следующим образом: 1) Уэллс написал, что Ленин смуглый, а он на самом деле блондин; 2) Уэллс написал, что Ленин маленького роста, а он на самом деле среднего; 3) Уэллс воображал, будто он снизошел до разговора с Лениным, а на самом деле это Ленин снизошел до разговора с ним; 4) Уэллс – дурак; 5) Уэллс ничего в Ленине не понял. Четыре первых утверждения можно оспаривать. Последнее вполне справедливо.
На самом деле Ленин про Уэллса не забыл. Несколько дней спустя он принимал Клэр Шеридан и сказал ей, что уже после визита Уэллса прочел его книгу «Джоанна и Питер», и что «описание жизни английской буржуазии превосходно», и что он хочет прочесть «Войну в воздухе» и «Освобожденный мир», для которых у него ранее не находилось времени. Вряд ли Ленин выдумал все это, чтобы сделать приятное английской даме.
Уэллс очень хотел поговорить с Луначарским, но устроить встречу в тот же день не удалось, а ждать он не пожелал, так как уже наметил отъезд в Ревель на 8 октября. Вернулись в особняк на Софийской; по дороге Ротштейн просил не рассказывать Вандерлипу о том, что Ленин говорил касательно концессий, и вообще сетовал на излишнюю откровенность Ленина, из чего Эйч Джи сделал вывод, будто Ленин не вполне свободен и Наркомат иностранных дел его контролирует. Он поделился подозрениями с Шеридан: та предположила, что Ленин откровенничал не по неосмотрительности, а сознательно. (Когда Клэр придет к Ленину, тот и с ней будет обсуждать эти концессии.) «Благодаря тому, что мы избегали упоминать о „миссии“ г. Вандерлипа, она раздулась в нашем сознании до огромных размеров, и мысль о ней стала неотвязной». Раздулась она до такой степени, что Уэллс, несмотря на все предостережения, о ней разболтает американскому посланнику в Риге Янгу, а также упомянет в «России во мгле»: «Мне говорили, что он [Вандерлип] привез рекомендательное письмо к Ленину от сенатора Хардинга». Из-за этого в октябре на страницах «Нью-Йорк таймс» развернется настоящая буря: о своей откровенности он пожалеет и будет все отрицать.
Вандерлип уговаривал Уэллса остаться на денек, но тот отказался. В Москву Уэллсы собирались вернуться тем же курьерским, каким прибыли. Стали ждать, когда за ними заедут, прождали три часа и на поезд опоздали, попали на другой, который шел не 14 часов, а 22. Это привело Уэллса в бешенство. «Я поговорил с нашим гидом как мужчина с мужчиной и высказал ему все, что я думаю о русских порядках. Он почтительно выслушал мою язвительную тираду и, когда я, наконец, остановился, ответил мне извинением, характерным для теперешнего умонастроения русских: „Видите ли, блокада…“». За этот абзац Троцкий Уэллса изничтожил – и он же больше всего возмутил эмигрантов. Подумаешь, несчастье – на поезд опоздал! У нас тут ТАКОЕ (прекрасное или ужасное в зависимости от стороны, которую занимали критики Уэллса), а этот зажравшийся паршивец жалуется, что его не принял Луначарский, что в вагоне люкс не было графинов, что он на поезд опоздал!
Однако Уэллс не жаловался на то, что опоздал поезд: курьерский-то ушел вовремя. Не сетовал и на то, что поезд идет медленно; когда он писал: «Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии; паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены; гайки разболтались, и рельсы шатаются, когда поезда тащатся по ним с предельной скоростью в 25 миль в час», то просто констатировал факт. Он возмущался тем, что его забыли отвезти на вокзал и объяснили это блокадой, которая была в данном случае ни при чем. Разруха, как известно, не в клозетах, а в головах. И блокада примерно там же.
7 октября Горький повел Уэллса на заседание Петросовета, работу которого, «как и всех других в советской России», Уэллс назвал «исключительно непродуманной и бесплановой». Посадили его позади стола президиума. Он вспоминал посещение Госдумы в 1914-м: «Атмосфера вялого парламентаризма сменилась обстановкой многолюдного, шумного, по-особому волнующего массового митинга». Проголосовали за мир с Польшей, затем выступал Уэллс. «Членам совета сообщили, что я приехал из Англии, чтобы познакомиться с большевистским режимом; меня осыпали похвалами и затем призвали отнестись к этому режиму со всей справедливостью и не следовать примеру г-жи Сноуден, м-ра Геста и м-ра Бертрана Рассела, которые воспользовались недавно гостеприимством Советской республики, а по возвращении стали неблагожелательно отзываться о ней».








