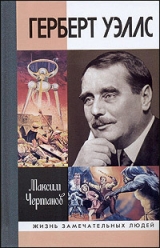
Текст книги "Герберт Уэллс"
Автор книги: Максим Чертанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
Уэллс во всех своих утопиях декларирует отрицание жалости; это принято считать одним из проявлений его безбожия. Правда, если внимательно перечесть его утопические тексты, мы обнаружим, что иллюстрирует свою мысль он исключительно на одном примере: не надо горевать, если твои любимые умерли. У утопийки Ликнис утонули муж и двое детей, а она страдает, чего утопийцы делать не должны. «Ей не хотелось разговаривать с мистером Барнстейплом о счастье Утопии; она предпочитала, чтобы он рассказывал ей о горестях Земли и своих собственных страданиях, – этому она могла бы сочувствовать. <…> Ее сердце жаждало облегчить людские страдания и немощи, тянулось к страждущим жадно и ненасытно…» Барнстейпл, однако, не рад, обнаружив в Ликнис земное. «Он, как и утопийцы, считал, что смерть детей и мужа, показавших свое бесстрашие, могла служить скорее поводом для гордости, чем для горя». Утверждение сомнительное даже с утопийской точки зрения. Ликнис сдуру подстрекала своих детей заплыть подальше, а они утонули – чем тут мать должна гордиться? Она не справилась со своими обязанностями – что тут прекрасного? Отец погиб, кинувшись их спасать, – зачем, утонули бы и черт с ними, а так из-за его поступка Утопия лишилась специалиста…
Но вот что по этому поводу говорил, например, святой Киприан в трактате «О смертности»: «Покажем себя истинно верующими: не будем оплакивать кончины друзей наших и, когда наступит день нашего собственного призыва, пойдем неукоснительно и благодушно на голос зовущего нас Господа». А вот – святой Иоанн Златоуст, чьи слова используются в погребальном обряде: «Скажи мне, что означают эти светлые лампады? Не то ли, что мы провожаем умерших как борцов? Что выражают эти гимны? Не Бога ли мы прославляем и благодарим Его за то, что Он увенчал усопшего?» [86]86
Святого Иоанна Златоуста Беседа 4-я, на Послание апостола Павла к евреям.
[Закрыть]; «Размысли, что выражают псалмы? Если ты веришь тому, что произносишь, то напрасно плачешь и скорбишь» [87]87
Святого Иоанна Златоуста Слово 39-е, об усопших.
[Закрыть]. Так противоречит в данном случае Уэллс религиозной традиции – или наоборот?
У каждого свои отношения со смертью: Уэллс ее ненавидел так же страстно, как Карла Маркса, причем не собственную, с которой более-менее смирился, как многие долго болеющие люди, а своих близких. В «Бритлинге» он вообразил смерть сына, написав душераздирающие строки; чтобы не сойти с ума, он тут же уцепился за своего Бога и в этот период, между прочим, утопий не писал. Потом он вновь сменил Бога на Утопию, которая, как и Бог, преодолела смерть – на свой специфический лад. Для Уэллса Утопия в конце концов стала религией, причем не в том смысле, в каком мы говорим, что марксизм есть религия марксистов, а в самом прямом. В ранних утопических текстах Уэллс детально описывал машины, архитектуру, объяснял, кем работают утопийцы и как проводят досуг; постепенно конкретика исчезает, а в «Людях» она сведена к нулю и жизнь Утопии описана абстрактно, как райские кущи: цветут цветочки и все счастливы. «Мистеру Барнстейплу казалось странным, хотя, возможно, и не случайным, что он столкнулся в Утопии с человеческой душой, которая так часто попадается на Земле, – с душой, которая отворачивается от Царства Небесного, чтобы поклоняться терниям и гвоздям, этим излюбленным атрибутам, превращающим Бога Воскресения и Жизни в жалкого, поверженного мертвеца». Ликнис отвернулась от небесной жизни ради земной юдоли – вот в чем ее преступление. Она остается тосковать, а Барнстейпла из Утопии выпроваживают, и он, вернувшись на Землю, решает отныне всем рассказывать о том, что существует иная, праведная жизнь. Получилась типичная религиозная ересь – каковой, впрочем, когда-то называлась каждая религия по отношению к предшественнице, которую вытеснила.
Зато не изменились взгляды Уэллса на эволюцию: утопийцы – не люди, а другой вид. Леди Стелла говорит Барнстейплу: «Сначала мне казалось, что они всего только простодушные здоровые люди, артистичные и наивные натуры. Но они совсем не такие, мистер Барнстейпл. <…> Они мыслят не так, как мы. По-моему, они уже презирают нас. Наша культура их нисколько не интересует». Это любопытно. Уэллс превыше всего почитал ученых, а ученые любознательны. Почему Уэллс лишил этого качества утопийцев? Если бы человек не изучал амебу, он не смог бы познать себя – так мыслил Уэллс раньше; почему утопийцы не захотели заинтересоваться землянами хотя бы как амебой? У Лема в «Возвращении со звезд» люди будущего лишены любопытства, и это их погубило, так как они не способны развиваться. Но вот сверхлюди Стругацких: «Девяносто процентов люденов совершенно не интересуются судьбами человечества и вообще человечеством».
Почему мы – хотя бы один процент из нас – интересуемся и микробами, и жирафами, и неандертальцами, а тот вид, что придет на смену, нами интересоваться не станет? Сверхлюди интересуются космосом, поэтому не могут интересоваться нами? Но у познания нет границ… И Стругацкие, и Уэллс отказали сверхлюдям в таком человечьем свойстве, как любопытство, чтобы подчеркнуть их чуждость, инакость: они не «очень развитые люди», а – другие. Но Стругацкие не задавались целью вызвать у нас симпатию к люденам, а Уэллс требует, чтобы утопийцы нам понравились. Получается замкнутый круг, из которого он не в силах вырваться: если сделать утопийцев похожими на нас, они унаследуют наши недостатки; непохожие, они не могут казаться нам привлекательными.
Приняли «Людей» неплохо. На страницах журнала «Адель-фи» говорилось, что сатира на политиков выполнена первоклассно, особенно на Черчилля, и что Уэллс – «величайшее явление в литературе после Диккенса». А Ричард Олдингтон сказал, что этот роман «спас ему жизнь» в минуту отчаяния. Но у широкой публики книга не вызвала такого интереса, как предыдущие утопии: все приедается.
Завершив работу. Уэллс вновь уехал с Ребеккой на юг. Провели январь 1923 года в Париже: опять ссоры. Возвращались в Англию порознь. Ребекке предложили поехать осенью в Штаты, читать лекции по литературе. Она дала согласие. Однако в Бостоне началась кампания против ее приезда. Ее обвинили в аморальности и революционных идеях. В юности ей казалось, что она готова идти против толпы. Теперь понимала, что не выдержит. Очередное требование жениться – в ультимативной форме. Очередной отказ – «Не могу же я убить Джейн, чтобы на тебе жениться!» В отчаянии Ребекка написала письмо Синклеру Льюису, осыпав Уэллса упреками: он из эгоизма не хотел дать ей свободы (сам он впоследствии отмечал, что «вел себя подло» по отношению к ней), а она не могла с ним порвать, потому что любила. И вновь ссоры, и вновь вмешалась политика.
Через несколько месяцев после назначения премьер-министром Бонар Лоу заболел и ушел в отставку. Его место занял Стэнли Болдуин, сторонник протекционистских мер; он распустил парламент и назначил на декабрь 1923-го внеочередные выборы. Уэллсу предложили повторить попытку. Он согласился, потому что не видел другого способа продвинуть свои образовательные идеи. В марте он прочел в университетском клубе доклад «Социализм и наука». С успехом выступал на съезде учителей, организованном Национальным союзом учителей в Эссекс-холле. Но товарищи по партии не разделяли его «зацикленности» на образовательных проблемах. «Образование они одобряли, оно им импонировало, вроде городской картинной галереи… но очень уж важным они его не считали».
Уэллс пытался смирить свой нрав и подчиниться партийной дисциплине. Кандидатом от лейбористов была также выдвинута старая леди Уорвик, и он больше агитировал не за себя, а за нее – это было легче. Он вел тогда колонку в «Вестминстер газетт», печатном органе либералов, и продолжал во время избирательной кампании там публиковаться; партийные товарищи считали это недопустимым, был изрядный скандал. В июне случился другой скандал: если бы враг Уэллса захотел придумать историю, выставляющую его в невыгодном свете, то ничего лучшего бы не нашел.
Весной в Лондон приехала молодая австрийская журналистка Гедвига Гаттерних, которая хотела перевести на немецкий книгу Уэллса об учителе Сандерсоне. Гаттерних настойчиво предлагала себя – дар был принят. Гедвиге дали понять, что на серьезные отношения рассчитывать не стоит, но она продолжала преследовать свою «жертву». Жертва оборонялась с помощью горничной, но однажды, по недосмотру, Гаттерних проникла в лондонскую квартиру Уэллса и стала угрожать самоубийством. Она демонстративно порезала себя бритвенным лезвием; вызвали полицию, женщину увезли в больницу, скрыть происшествие от прессы не удалось. Эйч Джи был перепуган: такая история в период выборов могла ему очень дорого обойтись. Репортеры осадили Ребекку, поскольку Гаттерних сообщила, что накануне посетила не только Уэллса, но и ее. Ребекка приехала к Эйч Джи для совещания: перед лицом общего врага распри были забыты. Они демонстративно провели весь день на публике, дабы пресса могла убедиться, что между ними все безоблачно. Этот инцидент, наверное, оказался для Ребекки «последней каплей», хотя Эйч Джи наивно утверждал, что сия история их «на время теснее сблизила».
Чтобы замять дело, показываться на людях с Ребеккой было недостаточно. Эйч Джи обратился за помощью к двум своим могущественным знакомым, один из которых, газетный магнат, согласился устроить так, чтобы газеты больше не писали о случившемся. До сих пор Уэллс сетовал на подконтрольность прессы, теперь возносил хвалы небу за то, что она такова. Другой влиятельный знакомый навел справки о Гедвиге Гаттерних и узнал, что та уже совершала публичные суицидальные попытки. Полиция пригрозила Гаттерних судебным преследованием, и та уехала из Англии [88]88
В старости Гаттерних и Уэллс премило обменивались поздравительными открытками. Он почти ни с кем не умел поругаться «навеки».
[Закрыть]. А теперь – внимание! – первый из людей, к которым в страхе кинулся за защитой наш герой, был лорд Бивербрук, а другой – леди Нэнси Астор: обоих Уэллс только что в своем романе безжалостно высмеял и вдобавок зашвырнул в открытый космос…
* * *
В июле Уэллс совершил поездку в Прагу. Пригласил его Томаш Масарик, президент Чехословакии. Профессор философии, Масарик не собирался заниматься политикой, но во время Первой мировой, находясь в эмиграции, развернул кампанию за признание будущего Чехословацкого государства. Когда Австро-Венгрия стала разваливаться, Чехословакия объявила о независимости, и в ноябре 1918-го Масарик заочно был избран ее первым президентом. В стране была жуткая бедность – Масарик привлек в свой кабинет лучших специалистов, и экономика быстро поднялась. Молодые государства склонны впадать в шовинизм – Масарик этого не допустил. Он трижды переизбирался на пост президента, не переставая заниматься наукой: при нем Чехословакия считалась единственным европейским островком подлинной демократии. Масарик был сторонником формирования новых отношений между европейскими странами: принципы, которые он предлагал, были ближе к нынешнему Евросоюзу, нежели к Лиге Наций. В конце 1920-х Шоу давал интервью «Таймс»; говорили о проекте объединенной Европы, и репортер назвал идею утопической потому, что нет человека, который мог бы эту Европу возглавить: «Он должен иметь чрезвычайную широту взглядов и уметь вникать в малейшие мелочи, иметь удачный опыт реального государственного управления, оставаясь при этом высоконравственной личностью, известной во всей Европе и в то же время не конфликтовать ни с кем». Такого человека не может быть, сказал журналист. Есть, отвечал Шоу, это – Масарик.
Уэллса, естественно, Масарик привлекал: ученый правит государством! Друг другу они понравились, но общего языка не нашли. Уэллс впоследствии говорил, что два человека произвели на него наиболее сильное впечатление в его жизни – Масарик и Ленин; в Ленине-то и была загвоздка. Никаких иллюзий относительно большевиков у Масарика не было. «То, что Ленин и его люди проводили в жизнь, – писал он, – просто не могло быть коммунизмом, разве что коммунистическими мелочами; как система это был примитивный капитализм (аграрный) и примитивный социализм под надзором примитивного государства, образованного из анархических частиц, отколовшихся от царского, тоже примитивного, централизма». Ленин, в свою очередь, видел в Масарике одного из главных идейных противников: именно с ним он полемизировал в статье «О Соединенных Штатах Европы». В 1920-е годы Масарик дал приют тысячам русских изгнанников: для одних нашлась работа, другим выплачивалось пособие, открывались русские школы. Уэллс защищал большевиков и поносил эмигрантов. Кроме того, Уэллс жаждал ломать основы, требовал, чтобы делалось «все и сразу»; Масарик хотел строить и создавать, понимая, что это – долгая, планомерная работа. Уэллс полагал, что нации обязаны исчезнуть – Масарик, напротив, считал, что все народы должны сохранить свою культуру. (Масарик умер глубоким старцем в 1937-м; его сын Ян Масарик, тоже ученый и политик, покончил с собой в 1948-м, когда его страна, пережив Гитлера, попала в руки Сталина.)
В Праге Уэллс познакомился с Карелом Чапеком, встретил Брюса Локкарта, посетил спектакли МХАТа, прибывшего на гастроли. Ребекка в это время лечилась на водах в Мариенбаде. Эйч Джи приехал к ней, провели вместе остаток лета, а в Англии прожили весь сентябрь как семья – с Энтони и его няней. То было прощание: Ребекка приняла решение о разрыве, Эйч Джи согласился. Поскольку было неясно, уезжает ли Ребекка в Америку на время или навсегда, ребенок оставался на попечении отца. Именно этот период стал для Энтони определяющим в его отношении к родителям: отец взял его, а мать бросила. Перед отъездом обсудили дела финансовые: Уэллс обязался, помимо содержания Энтони, содержать Ребекку, пока она не выйдет замуж, а также выплатил ей единовременно пять тысяч фунтов. 20 октября она уехала.
На выборах Уэллс снова пришел к финишу третьим. Между тем его партия не то чтобы победила, но власть взяла. Выборы, затеянные консерваторами, привели их к провалу, Болдуин подал в отставку, и в январе 1924-го лейбористы, хоть и не имевшие большинства, при поддержке либералов сформировали свое первое правительство, которое возглавил Макдональд. Одним из первых шагов новой власти было установление дипломатических отношений с СССР. Кажется, Уэллсу следовало бы ликовать: покажи он намерение быть полезным партии, мог занять какой-нибудь пост в сфере образования. Но он уже успел разочароваться в лейбористах. Его жизнь стала пустой – в отличие от своих утопийцев он не научился быть самодостаточным.
Глава вторая ВЕЧНЫЙ СОНДо сих пор Уэллс проходил через Дверь в одном направлении: из мира, юдоли страданий, – в волшебный сад. Но, оказывается, можно желать и обратного пути. Сразу вслед за утопией «Люди как боги» он написал роман, который выглядит антитезой «Людям» – «Сон» (The Dream). Утопийцу Сарнаку приснилось, будто он попал в прошлое и прожил там целую жизнь. Мир прошлого – «мелочный, бестолковый, одержимый духом стяжательства, раздробленный, ханжески-патриотичный, бездумно плодовитый, грязный, наводненный болезнями, злобный и самодовольный». Тем не менее Сарнака этот мир задел за сердце; он увидел в нем то, чего не допускали самодовольные утопийцы из «Людей», – красоту, «бесцельную и непоследовательную».
Утопия «Сна» отличается от Утопии «Людей» так, как солнце отличается от лампочки, что светит в кабинете прокурора: это нежная, ласковая страна, где «с первым же неумелым глотком воздуха дитя вдыхает милосердие», где ребенка учат «терпимости и чуткости», где все «привыкли, приучены думать о других, чужая боль становится нашей болью», где превыше всего почитаются «щедрые сердца, готовые давать, давать, не размышляя, не считая… (курсив мой. – М.Ч.)». Эти утопийцы полны бережного интереса к тому, что от них далеко, – подруга Сарнака «писала книги и картины о печалях и радостях минувших веков и была полна прелюбопытных догадок о том, каков был образ мыслей далеких предков, их душевный мир». Старый мир они не поносят, его противоречивость ему не ставится в вину, напротив – «нам с первых дней дают ясное представление о том, что человек по своей природе сложен и противоречив»; главное, что им в этом мире не нравится, – вовсе не отсутствие планирования, а «неумение понять другого, ощутить горечь его обманутых надежд, напрасных желаний, проявить участие к нему».
Много удивительного в этой теплой, такой нехарактерной для Уэллса Утопии. Наши потомки из «Сна» не гонят от себя мысль о смерти, как утопийцы из «Людей»; они верят в бессмертие. «Не в том ли разгадка, что каждый из нас, рано или поздно, находит в сновидении печальную, некогда прожитую жизнь? <…> Это означало бы, что каждый горестный призрак наших воспоминаний обрел сегодня счастье в этой жизни и справедливость восстановлена. Вот где дано вам утешиться, бедные души, – в этой стране вашей мечты, стране, где сбываются все ваши надежды…» Роман завершается так: «То была жизнь, – сказал Сарнак, – и то был сон. Сон в этой жизни, но ведь и эта жизнь – тоже сон… Сны во сне; сны, в которых спишь и видишь сновидения. И так, пока в конце концов, быть может, мы не придем к тому, кто видит все эти сны, – к существу, в котором заключено все сущее. Нет предела чудесам, которые творит жизнь, как нет предела красоте, которую она рождает».
Жизнь как призрачный сон, гимн состраданию и жалости, чудесам и бесцельной красоте, а не Плану – что стало с Уэллсом? И если он считал главным достоинством утопийцев способность «ощущать чужую боль как свою» и давать, «не размышляя и не считая», – зачем писал другие Утопии, населенные скучными и недобрыми существами? На этот вопрос отчасти поможет ответить «Дверь в стене». Герою никогда не удавалось отыскать Дверь сознательно, «размышляя и считая»; она обнаруживалась нечаянно, как чудо. Может, так было и у Уэллса с Утопиями: он писал их, «размышляя и считая», и они выходили одна другой зануднее, и лишь иногда настоящая Утопия, прекрасная, как волшебный сад, случайно открывалась ему?
«Сон» был опубликован в 1924 году в издательстве «Кейп»; критики его встретили недоуменно. Не этого ждали от Уэллса. Лишь Филипп Томлинсон, колумнист «Адельфи», кажется, что-то понял в «Сне», написав, что Уэллс «побуждает нас ненавидеть грех, но любить грешников». Но это было чересчур прямолинейное толкование, и автору оно не понравилось. В 1924-м также вышли книга о Сандерсоне и сборник периодики последних лет «Год пророчеств», а Уэллс уже работал над новой вещью.
Во время избирательной кампании он заболел бронхитом; когда смог держаться на ногах, уехал греться в Португалию. Компанию ему никто не составил: Ребекка была в Америке, Кэтрин уехала в Швейцарию. Уэллс поселился в городке Эшторил. В соседнем отеле обнаружился Голсуорси с семьей, вместе ездили в Лиссабон. Уэллс охарактеризовал тот период своей жизни как бесконечное безделье, но на самом деле он писал роман «Отец Кристины Альберты» (Christina Alberta’s Father) [89]89
Роман известен также под названием «Саргон, король королей» (Sargon, King of Kings).
[Закрыть], фантазию об англичанине Примбли, который «жил наполовину во сне» и, побывав на спиритическом сеансе, вообразил, что является реинкарнацией древнего месопотамского монарха Саргона: тот царствовал около 2334–2279 до н. э. и считается первым строителем многоэтнической империи – своего рода Всемирного Государства.
Примбли убежден, что призван реформировать мир; Кристина Альберта безуспешно пытается вернуть его в реальную жизнь. В финале Примбли умирает, а реформаторству решает посвятить себя его дочь, прошедшая путь взросления. Исследователи находят в романе влияние идей Юнга [90]90
См., например: Draper М. Wells, Jung and the Persona // English Literature in Transition. London, 1987.
[Закрыть], поскольку героиня в своем поведении подчинена вышестоящей моральной инстанции, которую Уэллс назвал «судом сознания» (у Юнга есть подобное понятие, «анимус»): руководствуясь приговорами этого «суда», Кристина Альберта становится разумным человеком, подчиняющим свои действия долгу и контролирующим себя в отличие от других людей, которые живут бессознательно. С почти законченным романом (его опубликует «Кейп» в 1925-м) Уэллс в марте 1924-го оставил Португалию; его жена тоже собиралась домой, и, встретившись как добрые знакомые в Париже, они провели там неделю и вернулись в Англию – каждый в свой дом. Вроде бы все нормально – и вдруг крик отчаяния: «Не надо было мне ездить в Лиссабон! Не надо было возвращаться в Англию!» Почему не надо? И куда надо?
А надо было в Италию, где жил Горький и среди его окружения – Мура. Она бежала из России в Эстонию в январе 1921-го, вышла замуж за барона Николая Будберга, получила эстонское гражданство, развелась. Потом она была в Берлине, была (по ее неподтвержденным словам) в Лондоне, но Уэллса там не видела; в конце мая 1922-го она соединилась с Горьким в Херингсдорфе, потом они были в Саарове, Праге и наконец перебрались в Неаполь. Она говорила Берберовой, что писала Уэллсу, но не получила ответа. Он, напротив, говорит, что они переписывались. Как бы то ни было, с Горьким он переписывался и от него знал о Муриных делах. Ревновал. «Мне известна безрадостная, замысловатая суетность и сложность горьковского ума, и я не представляю, чтобы он мог оставить ее в покое…» Так и не поехал в Неаполь. Дверь в очередной раз ему открылась, а он, как обычно, прошел мимо.
В Лондоне он встретился с Ребеккой, вернувшейся из Америки. Делал попытки возобновить отношения, но Ребекка была непреклонна. Летом она уехала в Австрию и забрала с собой Энтони. Эйч Джи метался («как крыса в лабиринте», по выражению Уэст) – заводил мимолетные связи, не знал куда себя девать. Заезжала Маргарет Сэнджер, была спокойно принята Кэтрин в «Истон-Глиб». В Лондон приехал с лекциями Юнг – Уэллс пригласил его на ужин, обсуждали «коллективное бессознательное». Младшие Уэллсы познакомились с девушками, мать посвящали в свои дела, отца – не очень. Чем заняться?! Он опять решил совершить кругосветное путешествие и начал переговоры с газетами, которые согласились бы его финансировать. Круиз планировалось начать в середине осени, а до этого Уэллс съездил в Женеву, где с 1 сентября по 2 октября проходила пятая ассамблея Лиги Наций. Ассамблея его разочаровала, он тосковал: «В глубине души я был невероятно несчастен и совершенно одержим мыслями о Ребекке». Отправил телеграмму в Австрию, предлагал провести зиму втроем, с сыном, наладить семейную жизнь. В жизни Уэст появился другой человек, и она ответила отказом. И тут на сцену вышла Одетта Кюн.
Одетта родилась в Константинополе, она была на 22 года моложе Уэллса и принадлежала примерно к тому же поколению, что Мура и Ребекка. Юность у нее была бурная: недружная семья, побег из дому, приключения, католическая школа, монастырь, Париж, Алжир, Тифлис, мужчины. Она говорила на шести языках и бойко владела пером: первая ее книга, «Девицы Дэн из Константинополя», была опубликована, когда она еще не достигла совершеннолетия. Все ее книги, написанные живо и беспорядочно, представляют собой скорее сборники блестящих сатирических зарисовок, нежели романы; в центре их – она сама, смелая и шикарная. Одна из этих книг, «Современная женщина», изданная в 1919-м, была переведена на английский: ее предваряло посвящение: «Эйч Джи Уэллсу. Вы заразили нас своими мечтами». Уэллс утверждает, что никогда этой книги не читал.
В 1920-м Кюн оказалась в Грузии, где с осени 1917-го у власти находилось правительство меньшевиков, и написала серию репортажей для французских газет: они были полны этнографических наблюдений, а также нескрываемой антипатии к меньшевикам и симпатии к большевикам. Последние не заставили себя долго ждать и весной 1921-го захватили Грузию, однако Кюн не осталась их приветствовать, а бежала в Константинополь. Британские военные власти, которым не нравились ее статьи, депортировали ее в Крым. Оттуда она добралась до Москвы, где, по ее словам, попала в руки чекистов и провела в тюрьме несколько месяцев, после чего каким-то образом выехала в Париж. Все эти непонятные перемещения, загадочные освобождения, подозрения в шпионаже, вообще вся окружавшая Одетту атмосфера путаницы очень напоминают Муру Будберг. За время пребывания в Москве Одетта разочаровалась в большевиках и, вернувшись, написала книгу «Под властью Ленина», которая была издана во Франции в начале 1923-го и переведена на английский. Уэллс ее прочел и откликнулся хвалебной рецензией, а в ответ получил от автора благодарное письмо. Завязалась переписка: по словам Уэллса, Одетта предлагала себя, он отказывался, однако сообщил ей, что в начале сентября будет в Женеве. Она жила на юге Франции, в Грассе, и, прибыв в Швейцарию, 4 сентября явилась на свидание. Отказать даме Эйч Джи, как всегда, не смог. «Я не влюбился в Одетту, хотя она показалась мне волнующей и привлекательной. Тогда я думал только о себе. Мне нужен был кто-то, кто бы вел мой дом, и нужна была любовница, которая будет умиротворять меня и составит мне компанию».
Ассамблея Лиги Наций была забыта, кругосветное путешествие – тоже. Компаньоны уехали в Грасс, сняли коттедж «Лу-Бастидон» и прожили довольно тихо всю зиму. Домик был неблагоустроенный, но пара больших черных котов мурлыканьем создавала уют. Одетта оказалась заботливой и экономной, однако Эйч Джи, видимо, чувствовал, что экономность эта напускная, поскольку скрыл от новой подруги размеры своего состояния.
В первые месяцы этой связи он написал притчу «Жемчужина любви» (The Pearl of Love, опубликован в январе 1925-го в «Стрэнде») – о принце, у которого умерла возлюбленная. Принц выстроил в ее честь прекрасное здание, но, увидав, что здание – «раковина» затмила «жемчужину» – любимую, – приказал разрушить его. Смит трактует эту сказку как предостережение Одетте, что она не сможет затмить подлинное чувство к Кэтрин; с тем же успехом можно предположить, что жемчужина – это Всемирное Государство. Одетта, во всяком случае, была поставлена в рамки: на ней никогда не женятся, она не должна ездить в Англию и обязана уважать Кэтрин. Она вела себя безукоризненно и даже писала Кэтрин обстоятельные письма, докладывая о здоровье ее мужа. Весной Эйч Джи съездил в Англию и переговорил с женой. Решено было всем объяснять ситуацию так: он в Англии не может работать, ему необходимо тихое место. Кэтрин будет, как всегда, перлюстрировать почту и контролировать отношения с издателями. Он вернулся в «Лу-Бастидон», привезя с собой почти все свои личные вещи. То, чего долго добивалась Ребекка – разрыв с женой и совместная жизнь, – Одетта получила мгновенно и без усилий.
В «Лу-Бастидон» Уэллс на протяжении первой половины 1925 года писал роман «Мир Уильяма Клиссольда» (The World of William Clissold). Это воспоминания ученого и предпринимателя Клиссольда; считается, что прототип героя – Альфред Монд, лорд Мелчет, финансист, член парламента, министр здравоохранения. Но от Монда в характере героя нет ничего. Клиссольд – это Уэллс, каким он мог бы быть, если бы родился в богатой семье. Почему героем избран крупный капиталист, ведь Уэллс их не жаловал?
Причина в том, что к 1925 году он решил, что интеллигенция никогда не сумеет добраться до власти (Масарик не в счет), так что никто, кроме промышленников и финансистов, не может влиять на события. Да, большинство из них – плохие, но достаточно набрать нескольких десятков хороших, и они перевернут мир. «В денежном и экономическом отношении нам вполне по силам построить Всемирное Государство средь бела дня, прямо под носом у тех, кто представляет старую систему». Этой группе умных и добрых бизнесменов Уэллс предлагает осуществить то, что он назвал «открытым заговором» – броское, но неудачное название, из которого выросли бесчисленные обвинения в иллюминатстве. Клиссольд и его единомышленники собираются «совершенно открыто говорить о наших проектах и методах и просто воплощать их в жизнь», то есть «контролировать основные артерии, по которым поступают кредиты», «контролировать газеты и политиков» и т. д. Участие населения Земли в управлении своей жизнью не предполагается: «Реализация новой стадии развития общества может быть достигнута без поддержки толпы и даже несмотря на ее сопротивление». Восемью годами позднее Уэллс признал, что теория «открытого заговора» в том виде, как она изложена в «Клиссольде», имела уязвимое место: «Там упущен тот факт, что… частный капитал по духу своему и способам управления решительно и неизменно отличен от любого общественного капитала».
Лейбористом Клиссольд тоже не мог быть – как и Уэллс в 1925 году, он считал Лейбористскую партию ни на что не годной. У них были на то основания: правительство Макдональда продержалось у власти чуть более полугола. К его краху привели две скандальные истории: в августе 1924-го коммунист Джон Росс Кэмпбел опубликовал в газете «Уокере уикли» статью, в которой призывал армию к мятежу, в парламенте было проведено голосование по вопросу о привлечении Кэмпбелла к судебной ответственности, правящая партия голосование проиграла, парламент был распущен и назначены выборы (третьи за два года). Буквально за пару дней до этого было подписано торговое соглашение с СССР, но ратифицировать его не успели. На этом фоне произошел второй скандал: 25 октября министерством иностранных дел было опубликовано письмо, добытое разведкой: в нем содержались призывы создавать в британской армии коммунистические ячейки, которые «могли бы составить в случае возникновения активной борьбы мозг военной организации партии». Авторами письма значились Зиновьев, бывший тогда заведующим международным отделом Коминтерна, а также британский коммунист Артур Мак-Манус и коминтерновец Отто Куусинен. Сейчас установлено, что это фальшивка, изготовленная, по одной версии, британскими спецслужбами, а по другой – русскими эмигрантами. Многие и тогда не верили в подлинность письма. Тем не менее переполох поднялся ужасный. На выборах лейбористы потерпели поражение, консерваторы вернулись к власти, а Черчилль, которого Уэллс в ту пору считал врагом прогресса, занял пост министра финансов. Сам Уэллс в подлинность «письма Зиновьева», может, и поверил (Зиновьева он считал исчадием ада), но от публичных комментариев воздержался, в отличие от Шоу, который разразился гневной тирадой в адрес Коминтерна, требуя оставить в покое добропорядочный британский пролетариат.
«Мир Уильяма Клиссольда» вышел в 1926 году в издательстве «Бенн». Уэллс продолжал менять не только издателей, но и агентов: место Пинкера занял Александер Уотт, самый «зубастый» литагент Британии, он потребовал выпустить роман в трех томах с золотым обрезом, организовать рекламную кампанию, которая обошлась в 1500 фунтов, а также выплатить автору громадный гонорар (только аванс составлял три тысячи). Виктор Голланц, редактор «Бенна», выполнил требования Уотта и не остался внакладе. Роман получил обширную прессу, по словам самого автора, «благотворно отрицательную». Рецензенты отозвались о «Клиссольде» благожелательно, но увидели в нем не роман, а философский трактат. То же говорили и друзья. Шоу пенял Уэллсу за то, что тот «забыл, что является беллетристом» и написал «еще одну „Схему истории“». Дэвид Герберт Лоуренс (которого Уэллс защищал, когда его травили за «безнравственность») отозвался о «Клиссольде» пренебрежительно. На наш взгляд, это несправедливо: «Мир Уильяма Клиссольда», хоть и перенасыщенный публицистикой, представляет собой полноценный роман – «классический, старинный». Это понял патриарх романного дела Гарди. «Я сожалею лишь об одном, – написал он Уэллсу, – о том, что в вашем романе только три тома, а не четыре…»








