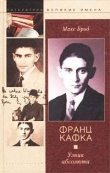Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
XVIII
Жить мирной, спокойной жизнью?..
В еврейском городе, несмотря на ночное время, люди стояли кучками у каждой двери и шушукались.
Поздним вечером распространился слух, что король подчинился настояниям шефенов и подписал эдикт об изгнании. Еще в тот же вечер староста Элия Мунка отправился в замок, попросил доложить о себе старшему гофмейстеру Ладиславу фон Пернштейну, был принят им, – что, несомненно, можно было рассматривать как успех, хотя о содержании их беседы ничего не было известно. Но одновременно с этим в верхнем городе распространилась весть о том, что случилось после этой беседы. Беседа происходила с глазу на глаз, а сцену на дворе видели те, кто сопровождал старика Мунку. Молодой франт, – говорят, это был шут короля, – подошел к старику с хлыстиком в руке. Под хохот придворных он сказал, что благодарит за пятьдесят дукатов и приносит обещанный хлыст. Правда, это не хлыст короля, а самый обыкновенный хлыст, но зато еврей может почувствовать его не только рукой, но и лицом. И с этими словами шут подошел к почтенному старику и несколько раз ударил его хлыстом.
– Раны с палец глубиной, – рассказывал кто-то из кучки, к которой подошел Давид.
Другие еще старались превзойти его. Врач, который только что был у старшины, будто бы сказал, что причинено опасное для жизни увечье.
– Но это еще не самое худшее, – пропищал фистулой маленький портной Ефраим.
Кучка плотнее обступила его.
– А в чем же дело? В чем дело?
– Разве вы не знаете самого худшего, что случилось потом? Когда вмешались наши старосты и пожелали защитить старшину, то придворные стали угрожать им. Они кричали, что это еще пустяки, что это еще ровно ничего не значит, – вот когда у нас на спинах затанцуют розги короля, тогда мы увидим…
– Они имели в виду изгнание, – поспешил заметить кто-то из толпы, и все вздрогнули.
– Ну, а старшина, – спросил Давид, – что же он ответил этим негодяям?
Изумленные лица. Наконец, портной изрек:
– Мудрый реб Мунка, по счастью, принадлежит к разряду кротких людей, к дому Ааронову. Он ничего не ответил, а быстро и тихо ушел.
– Это бы только повредило общине, – возбужденно взвизгнул портной. – Сказано в Писании: «Тот, кто представляет общину, должен вдвойне и втройне следить за каждым словом и своевременно закрывать рот перед властями».
Здесь вмешался мясник Бунцель:
– А есть все-таки люди, которые сумели бы, когда нужно, оскалить зубы.
Мясник был известен как ярый сторонник ювелира Кралика. Остальные забросали его упреками.
– Надо сначала выждать! – кричал портной таким визгливым голосом, что его едва можно было понять. – Старшина назначил на пять часов утра тайное заседание совета.
Давид с болью отвернулся от них. О, это все было ему давно известно. Бесполезные партийные распри в общине и одинаковое бессилие всех партий, яростные споры и никакого дела, бесконечные заседания, о которых ходил удачный анекдот: «Что же решили на собрании?» – «Собраться еще раз!»
«Нет, это нам не поможет. Эти старинные средства не в силах одолеть наш позор. Неужели так должно продолжаться, как было в течение всех этих столетий: вечный страх, бесправие, унижение?» Невольно мысли его свернули на излюбленную дорогу. %Нам нужно оружие, сила, открытое сопротивление. Разве не поступил так реб Шила с доносчиком, сославшись на учение: «Если кто-нибудь хочет тебя убить, предупреди его», взял палку и убил доносчика. И разве не честно и правильно поется в древней песне Ламеха в первой книге Моисеева пятикнижия:
Ада и Цилла, слушайте речь мою,
Жены Ламеха, внимайте словам моим:
Мужа убью я за рану мою,
Юношу за рубцы мои.
Семикратно отомщен был Каин,
Семьдесят семь раз отомщу за Ламеха%.
Давида охватил восторг при мысли о семидесятисемикратной мести угнетателям. И сейчас же вслед за этим он увидел черного Каспара, лежащего в погребе, при свете факела, с судорожно сведенным ртом и вздрагивающим искусанным языком.
Душа его старалась укрыться от этого греха. Пылая в лихорадке, он зарылся лицом в подушку кровати – но не мог заснуть.
«Но все же без греха не обойтись», – думал он, и рот его сжимался в жесткую складку, словно в этот момент от него уходил добрый гений его детства.
«Без греха не обойтись, наш позор слишком глубок, мы не можем надеяться на избавление честными средствами. Следы отвратительного позора должны остаться и на нашем избавлении. Не по пути добродетели придет оно, не пророки и песнопевцы будут его возглашать. Слишком долго лежали мы в грязи, мы подобны тому поколению, которому ни Моисей, ни Иешуа не являлись избавителями, которому пришлось послать блудницу для того, чтобы спасти его от виселицы палача. Эсфирь, Эсфирь! Отвратительно разукрасила себя красавица, отдалась прихоти царя, и это тоже называлось местью, это тоже было избавлением! Избавлением посредством греха. О, как я это все неправильно понимал до сегодняшней ночи. Я хотел принять грех в сердце как радость, хотел быть с ним счастливым, считая его легким и приятным. Потому что ничего о нем не знал! Но теперь я знаю всю правду. Грех колюч, я бегу от него, он безобразен и воняет падалью. И все-таки надо грешить, грешить без радости, грешить ради Бога, ради избавления, – держать меч, от которого отказывается рука, пить кровь, которая горька, как желчь, может быть это и есть тот священный подвиг, к которому я призван.
И, может быть, это и есть подлинный смысл изречения, что надо служить Богу также и дурным побуждением».
XIX
Он спал недолго.
Его разбудили громкие голоса в соседней комнате, где занимался отец и где обычно было так тихо.
Давид поспешно оделся. Он знал, что означает этот шум. В целях безопасности, как и раньше неоднократно, заседание совета назначили не в доме старшины, за которым могло быть установлено наблюдение, а в доме не возбуждающего подозрений ученого, Симеона Лемеля.
В качестве сына хозяина дома Давиду разрешалось присутствовать на собрании, слушать, но, конечно, не выступать с речами. Не любопытство, а горячая забота о судьбе общины заставила его войти в комнату, где он безмолвно поклонился отцу, едва взглянув на остальных, и, не желая мешать им, немедленно уселся в уголке. Это было, собственно, излишним, потому что заседание еще не начиналось. Из двадцати семи старост некоторые еще отсутствовали, в том числе и сам старшина. Не пришел еще и рабби, который как «отец суда», то есть председатель его – «ав-бет-дин», был приглашен вместе с обоими заседателями – «даянами». А между тем прошло уже больше часа после времени, назначенного для начала собрания.
Давид уже привык к тому, что заседания совета начинались с огромным запозданием и что те немногие, которые имели хорошую привычку приходить в назначенный час, бесполезно тратили время из-за других, не соблюдавших порядка. Так бывало на всех заседаниях, а не потому, что сегодня было положено собраться в такой ранний утренний час. Но именно на сей раз Давид надеялся, что будет сделано исключение из дурного правила, ибо все же должны были понимать, что быстрое решение являлось вопросом жизни и смерти! «Странное дело, – думал Давид, – для других мы внимательны и аккуратны. Многие дворяне держат при себе евреев, которые самым добросовестным образом и очень успешно ведут их сложные дела. А свои собственные дела мы ведем без того чувства порядка и долга, которое, будучи выражено в мелочах, обеспечивает благоприятный исход всему делу»…
Наконец, вошел старшина в сопровождении своего друга, высокого тощего Липмана Спира, который пытливо и вызывающе смотрел в лицо каждому из ожидавших, когда обменивался с ними рукопожатиями. Посмеет ли кто-нибудь сделать замечание или выразить порицание запоздавшему старшине? Решится ли кто-нибудь не признать, что это опоздание более чем оправдывается глубокомысленными планами, тайными совещаниями, которых не в состоянии постичь обыкновенный член совета? Раздражение, горевшее словно про запас, на всякий случай, в сверкающих карих глазах Липмана Спиры, требовало простора, в котором оно могло бы разрядиться еще прежде чем что-нибудь произошло, прежде чем был заявлен какой-нибудь протест против старшины, которого Спира горячо почитал. С шумом он занял место, опрокинул стоявший перед ним пульт; на скамейке ему было слишком тесно, в кафтане с расстегнутым воротом – слишком жарко. Он беспрерывно теребил левой рукой свою длинную бороду.
Старшина занял место на возвышении и начал свою речь. Прихода рабби он не стал ожидать, хотя некоторые беспокойно оглядывались на дверь и тем как бы требовали подождать с началом собрания. Другие возражали жестами и шепотом – и вообще в течение всего заседания ни разу не установилось полного спокойствия. Беспрерывно происходило что-нибудь такое, что отвлекало внимание. Но все-таки речь старшины была выслушана сравнительно спокойно. Отсутствие рабби не слишком мешало. Дело в том, что рабби Исаак Марголиот, который первоначально пользовался очень большим уважением, сильно утратил свой авторитет несколько лет тому назад вследствие того, что он выжил с места своего товарища по должности, второго пражского рабби, Якова Поляка.
С тех пор как на имя рабби Марголиота легло это пятно, старшина Мунка, которого прежде стесняла слава ученого рабби, правил в качестве неограниченного повелителя общины. Его быстрый ум, его изворотливость, его воля, не сломленная даже преклонным возрастом и когда-то вызывавшая изумление как чудо природы, делали его способным занимать этот пост, который он уже много десятилетий подряд с исключительной энергией защищал против всяких попыток захвата. Тот, кто видел Элию Мунка только в общении со знатными господами и христианами или как готового принять всякий позор, покорного просителя перед королем, тот не узнал бы его здесь, в его собственной сфере деятельности, в его королевстве. Маленькое слабое тело даже в сидячем положении держалось прямо, как свеча, могучий подбородок выдвигался, как стиснутый кулак, а под белыми густыми бровями пылали большие черные глаза. Мунка говорил медленно, преувеличенно растянуто, как человек, уверенный в своем значении и влиянии, не удостаивал взглядом своих слушателей – и, тем не менее, подчинял их своей воле. Голос у него был металлический, и, тихо звеня, как железо, он продвигался от одной обдуманной фразы к другой. Эта монотонная речь, не обнаруживавшая никакого душевного волнения, как нельзя лучше выражала холодный, недоступный сомнениям характер человека, о котором говорилось, что он способен прошибить головой стенку. Иногда это ему действительно удавалось. Постройка стены вокруг гетто была в значительной степени его делом. Уже не раз он предупреждал угрозу изгнания. Если теперь была какая-нибудь возможность выйти из отчаянного положения, то помощи следовало ждать только от него.
Мунка говорил долго. Он подробно рассказывал о своей беседе с обер-гофмейстером. Он требовал, чтобы его допустили к королю, желая еще раз изложить все, что можно было сказать в пользу пражских евреев. Давид обратил внимание на то, что Мунка не без самодовольства все время повествовал о том, что он сказал обер-гофмейстеру и какими новыми аргументами он подкреплял свои соображения. Эти аргументы он повторял здесь со всем пылом своего красноречия, как будто ему требовалось убедить евреев, а не обер-гофмейстера. Но что ему ответил обер-гофмейстер? Об этом Мунка не говорил ни слова. И самое странное было то, что никто из его слушателей, по-видимому, не почувствовал этого. Эти в обычной жизни столь умные люди были так очарованы, так счастливы, слушая новые доказательства своей невиновности и своей полезности для населения Праги. Надо полагать, что обер-гофмейстер вообще ничего не ответил или ограничился обычной фразой всех важных персон, что он расследует дело. Но об этом никто не спрашивал и никого не шокировало, что Мунка (впрочем, без всякого особого намерения, следуя лишь старому обычаю в изложении подобных разговоров) передавал свою беседу с обер-гофмейстером в такой форме: «Ты ошибаешься, если думаешь, что у нас нет защиты у короля, и ты увидишь». Все время это «ты», от которого Давиду становилось больно, когда он представлял себе, как происходил разговор в действительности. Свежие красные шрамы на щеках Мунки, правда, не с палец глубиною, но достаточно явственные, свидетельствовали об этом вполне отчетливо.
Старшина закончил свою речь.
Все знали, что отвечать ему будет его противник – Кралик, разбогатевший на торговле драгоценными камнями, самый богатый человек в общине, уже много лет безуспешно стремившийся занять пост еврейского старшины. Неудачи на выборах (в общине все должности замещались по выборам каждые три года) не ослабили его самоуверенности, основанной не только на его богатстве, но и на том обстоятельстве, что он больше ездил по свету, чем другие пражские евреи, и приобрел, как он полагал, практические познания, которых они не имели. Чтобы подчеркнуть эту разницу, он одевался иначе, чем все. Носил широкий шелковый плащ, с которого сзади спадала на землю длинная полоска, – так одевались его голландские друзья – коммерсанты. Плащ был, правда, черного цвета, как и у всех евреев, но несколько своеобразный покрой обращал на себя внимание. В речах своих он тоже бил на эффект. Говорил коротко, без околичностей, – так, по его мнению, следовало всегда говорить в совете, – и заботился о том, чтобы речь его всегда заключала в себе какую-нибудь сенсацию. За это его не любили, и, хотя речи его были основательны и полезны, он вместо того, чтобы завоевывать успех, только отталкивал от себя людей. Так было и на этот раз. Длинной речи Мунки, в которой он, по его словам, не нашел никакого практического вывода, он противопоставил простое заявление, что, в то время как другие думали и гадали, он уж действовал. Вчера он побывал у лейб-медика короля, Ангелика, единственного еврея, который с королевского разрешения проживал вне гетто и недавно даже купил себе дом около замка. От его заступничества можно ожидать большего успеха, нежели от хлопот у всех этих знатных аристократов, которые, конечно, никогда не добьются для евреев аудиенции у короля, потому что они желают как можно меньше впутываться в это дело.
Мунка стал немедленно возражать – и притом в очень резкой форме. Он категорически протестует против подобных закулисных ходов, которые подрывают всякую возможность успешного осуществления его собственного плана. Дело собрания решить, какой план более правилен, но отдельный член общины не вправе предпринимать раньше шаги, которые могут оказаться роковыми. Он, со своей стороны, имеет основание ожидать, что аудиенция у короля будет дана ему. Она почти обещана и притом на один из ближайших трех дней. Но если г-н фон Пернштейн узнает, что к королю пытаются подойти еще и другим путем, то он, надо полагать, рассердится и откажет в своем содействии.
Вслед за этим объявлением войны начался оживленнейший спор во всех углах. В то же время слово было дано Аарону Просницу, который попросил его сейчас же после речи Мунки. Но тогда на него нарочно не обратили внимания, так как все хотели сначала выслушать вожака противной партии. И теперь его никто не слушал. Обмен мнений между собравшимися заглушал его хриплый, астматический голос. Просниц был лишь на несколько лет старше Давида, но был уже давно женат. В прежние годы он учился вместе с Давидом. Но вскоре пути их разошлись, и Просниц с увлечением отдался историческим изысканиям, которые не интересовали Давида. Про него говорили, что он работает над историей еврейской общины в Праге. Ради его исторических познаний, которые неоднократно находили себе применение, его выбрали в совет. Но в то же время эти познания, как и всякую светскую науку, ценили так низко, что молодой человек получил в жены только дочь бедняка и всю свою жизнь был обречен оставаться в кругу ученых, которых старшина Мунка прикармливал за своим гостеприимным столом. Заметно было, что Просниц тщательно подготовил свою речь. С несокрушимым тщеславием, которое совершенно не считалось с тем, как мало интересовали излагаемые им факты собрание, которое было потревожено в основах своего существования, он начал излагать присутствующим все права, которыми пользовались чешские евреи, начиная от привилегии, дарованной Пржемыслом Оттокаром. Он подробно излагал грамоту, полученную евреями от Карла IV, а когда, наконец, в своем обстоятельном изложении дошел до сеймовых постановлений, относящихся к царствованию здравствующего короля Владислава, то ввиду важности этих новейших документов он стал цитировать дословно, что – «евреи будут на вечные времена терпимы в землях короны чешской, и если кто-нибудь из них провинится против законов страны, то наказан будет только преступник, совершивший преступление, а никак не все еврейство». Никто не обращал на него внимания. «Глух он или слеп, что ничего не замечает? – подумал Давид. – Неужели ему достаточно строить фразы, щеголять историческими датами, в то время как враг стоит у ворот и жестокая нужда угрожает народу?» В совете всякого другого государства такого болтуна в подобный момент давно бы убрали. А здесь довольствовались тем, что невежливо поворачивались к нему спинами, образовывая группы, которые его не слушали, занимаясь обсуждением распри, только что возникшей между старшиной и его противником. И, тем не менее, нельзя сказать, что его совершенно не слушали, потому что в тот момент, когда оратор подошел к современности и к своим выводам, с разных сторон к нему стали подниматься головы, и вскоре, словно посредством какого-то таинственного механизма, он собрал всех вокруг себя. Дело в том, что выводы носили особый отпечаток. Не прямо, но все же довольно явственно и лишь чуть-чуть прикрываясь учеными ссылками, он в своих выводах полемизировал со старшиной. Юридическое положение ясно, изгнание незаконно, а следовательно, – это был несколько смелый вывод, но здесь любили такие остроумные заключения, – ходатайство у законных властей бесцельно. Только окольными путями, через протекцию, может быть путем подкупа, можно добиться чего-нибудь. Тем самым молодой ученый высказался против предполагавшейся аудиенции и за ходатайство через посредство лейб-медика. Он гордо выпрямился, его истощенное, заостренное лицо, обрамленное светлой бородкой, было бледно, как мел, глубоко лежащие голубые глаза вспыхивали беспокойным огнем. Этот бедняк был опьянен своей правдивостью. Все знали, что он кормился за столом старшины Элии Мунка и зависел от своего благодетеля. Но он желал показать, что в совете он не поддается никакому влиянию. Последние слова он выкрикнул с кашлем и хрипом, словно обессилевши от своего мужественного напряжения. После этого, тяжело переводя дыхание, он уткнулся в раскрытую перед ним на пульте книгу, опустив голову на вытянутые руки.
Но эффект, произведенный его речью, был сейчас же уничтожен разразившимся шумом. Прежде чем старшина мог ответить, вскочил его верный соратник, Липман Спира. Уже во время последних слов ученого он ерзал от нетерпения. Теперь он бросился к Аарону Просницу со словами:
– Это обман, жалкий обманщик, лжец, лжец, выгнать тебя надо! Убирайся вон!
Вокруг поднялись на защиту Просница. Здесь всякий имеет право высказать свое мнение. Для этой цели сюда и собрались. Даже старый Соломон Меркль, который, как это часто с ним бывало на заседаниях, задремал с полузакрытыми глазами, проснулся от шума и ласково попросил разъяренного Спира умерить свой пыл. Другие ударяли ладонями по раскрытым фолиантам и повторяли: «Ша, ша, ша», требуя спокойствия. Но Спира неистовствовал. Борода его, которую он теребил пальцами, была всклокочена, он кричал, что не может оставаться в одной комнате с нечестным человеком, который говорит вопреки собственному убеждению. Пускай либо удалят Просница, либо он покинет совещание. Старшина ударил ладонью по своей книге, зычно крикнул «ша», и только тогда все затихло.
– Ты останешься, и он останется, – отрывисто и спокойно сказал Мунка. – А говорить будет рабби.
Рабби Марголиот, сопровождаемый судебными заседателями, пришел незадолго перед тем, и старшина, безупречный в таких формальных любезностях, предоставил ему честь, полагающуюся ему по рангу. Но Спира в своем честном возбуждении долго еще не мог успокоиться. Дрожа всем телом, он обиженно поглядывал на Мунку, который лишил его слова. Ему особенно больно было такое отношение со стороны человека, которого он почитал от всей души и за которого готов был бороться до последней капли крови. Как непокорное дитя, он зарыл голову в руки и почти плакал.
– Я могу и помолчать, – ворчал он. – Пожалуйста, если угодно, мне все равно. Я совершенно бескорыстно хотел отстаивать хорошее дело. Я был и остаюсь убежден, что Просниц советует неправильно. Больше я ничего не хотел сказать. Личность его меня не интересует. Но если кто-нибудь в этом собрании, – здесь он снова вскочил, – усомнится в моем бескорыстии и будет утверждать, что я говорил по личной злобе на Просница, а не в интересах дела…
А на другом конце комнаты Аарон Просниц, с бледным лицом, кашляя, тоже клялся в чистоте своих побуждений. Он тоже стремился только к тому, чтобы собрание вынесло правильное постановление. Никакие побочные интересы не руководили им.
«Они чисты и бескорыстны, как будто это теперь нужно», – думал Давид, сидя в своем уголке. Его приводила в ужас бездарность этих людей. Они думали о своей чистоте, а не о спасении народа. Разве эта непомерная гордость своим безгрешием не являлась злейшим грехом, разве не была она предательством?
Рабби начал свою речь:
– Человек бежит ото льва, а навстречу ему медведь. Он спешит в дом, опирается рукою об стену, и его кусает змея.
Рабби демонстрировал свою ученость почти так же, как и молодой историк. Тот цитировал рескрипты, здесь сыпались цитаты из Писания и комментариев к ним. Это тоже длилось бесконечно, хотя собрание уже вскоре стало обнаруживать признаки нетерпения. Впрочем, и у рабби был свой проект. Он указал на бургграфа Лео фон Розмиталя, который уже неоднократно давал понять, что за хорошую ежегодную плату он готов сделать евреев своими подданными, «охранными евреями», и изъять их из юрисдикции короля и пражских шефенов.
Лицо старика Мунки затуманилось. Давид понимал его нетерпение. Все то, что ему подносили как великие открытия и великую мудрость, все это он уже давно испытал, сам испробовал бесконечное множество раз и, понятно, не преминул сделать и в данном случае. Прежде чем ухватиться за последнее средство – аудиенцию у короля, он испробовал другие, мелкие средства, которые ему здесь предлагали как совершенно оригинальную выдумку. Или, может быть, молодой Ааарон Просниц действительно думал сказать ему что-нибудь новое, когда напоминал об окольных путях протекции и, может быть, даже подкупа. Это, пожалуй, особенно раздражало старшину, который за годы своего пребывания на посту десятки раз с успехом пользовался такими средствами, тогда как кабинетный ученый Просниц был знаком с ними только понаслышке. А с бургграфом, о котором упомянул рабби, как он уже несколько недель тому назад докладывал в совете, неоднократно вел переговоры Кралик, и каждый раз безуспешно. Так к чему же теперь вся эта болтовня? Вместо того, чтобы сказать: поступай так, как найдешь правильным, ты – единственный человек, который по многолетнему опыту разбирается в делах, – вместо того, чтобы сказать это, люди вносят бесполезные предложения, только путают и мешают. Каждый хочет говорить сам и как можно больше. Никто не в состоянии отказаться от слова, ну, хотя бы из самодисциплины. И Давиду казалось, что на лице этого строгого, непоколебимого человека было выражение усталости.
Заседание продолжалось.
Обнаружилось, что, в сущности, не было никаких настоящих партий, расходящихся во взглядах. Предложениями обоих главных противников Мунки и Кралика никто не занимался. У каждого был свой собственный проект, который он считал единственно правильным и по сравнению с которым все остальные возможности спасения, предлагавшиеся другими, представлялись ему обманчивыми и даже вредными и требовали самого энергического противодействия. То, что говорили другие, встречалось безусловным презрением. Каждый говорил прямо и резко, но почему-то эту резкость, хотя ее все проявляли, считал совершенно из ряда вон выходящей, как будто лишь у него одного хватило на это смелости. И поэтому каждый, не стесняясь, порицал остальных и, видимо, гордился тем, что он не стесняется в своих выражениях и сеет вражду и раздор. «Видишь, я всюду наживаю врагов», – говорил его торжествующий взор. В этом собрании не было человека, который не считал бы себя самым умным, самым лучшим, единственным повелителем и вождем. А если он публично признавался в своих недостатках, то это была лишь игра, потому что он считал, что именно таким припадком раскаяния он особенно подчеркивает свою ценность. И, сжимая кулаки, Давид думал: «Как хорошо, что я отдался греху. Я нехороший, но, по крайней мере, я явственно вижу зло. Я не позволю себя обмануть».
До всех дошла очередь, и все говорили. Тем временем наступил полдень. Некоторые ходили домой закусить, но когда им предоставляли слово, они оказывались на месте. Все хотели говорить, никто не желал слушать. Даже добродушный старый Соломон Меркль, когда его разбудили, произнес речь, не имевшую никакого отношения ко всему, что говорили остальные, и сводившуюся главным образом к воспоминаниям его юности, которые, по его мнению, он должен был изложить как нечто чрезвычайно существенное для понимания нынешней ситуации.
К середине дня затянувшиеся прения, наконец, уперлись в вопрос: аудиенция или доктор Ангелик. Давид удивлялся. Все остальные побочные предложения, словно повинуясь естественному закону природы, отпали, причем инициаторы этих предложений даже не замечали того. Просто уже не говорили больше о бургграфе и об остальных богемских чиновниках, о письмах в Польшу, о германском императоре, об апелляции к папе, о всех этих весьма отдаленных и часто нелепых средствах, которые так ревностно защищали. Все это был мнимый поединок. Его нужно было разыграть, а теперь все приходило к концу. И становилось ясным.
Тогда решительно потребовал слова Мейер Дуб – высокий сильный мужчина с черной, как смоль, густой бородой. Его оглушительный голос заставлял себя слушать. Он уже много раз вмешивался в прения, которые тянулись почти двенадцать часов, и каждый раз ему хотелось изложить какую-нибудь новую мысль. Собственно говоря, это не были его самостоятельные мысли, но он приписывал себе особое умение приводить в порядок чужие предложения, согласовывать, сглаживать их. И никакая сила в мире не могла бы его остановить в выявлении этого, как он полагал, высоко полезного его свойства, необходимого для общего блага.
– Дайте мне говорить! – начал он, размахивая руками во все стороны, чтобы утихомирить собрание. – Нет никакого смысла продолжать такой спор, дайте мне сказать только несколько слов, и вы сейчас увидите, что я быстро все улажу.
Живой взгляд довольно красивого лица, сильные движения высокой фигуры имели что-то подкупающее, непосредственное, убедительное, так что и Давид взглянул на него с надеждой, что вот теперь наступит просветление. Мейер Дуб, по профессии литейщик олова, действительно говорил вначале очень вразумительно и перечислял все проекты, выдвинутые на собрании, обещая согласовать их. Чиновников, к которым можно было обратиться, он сгруппировал по рангам, начиная от главного канцлера королевства. Но вскоре он ударился в несущественные детали. Стремясь никого не обидеть, он отмечал даже мысли, брошенные вскользь, в серьезность которых никто не верил, которые здравым инстинктом были уже давно отброшены в сторону. Мейер Дуб снова вызвал путаницу и притом в такой момент, когда собрание почти уже подошло к цели. При этом его рычащий голос не позволял прерывать его. И хотя он обещал сейчас кончить, он говорил дольше всех ораторов.
Давид не мог больше выдержать.
Он вышел из комнаты на улицу. Перед домом стояла большая толпа евреев. Ожидали результатов тайного совещания, о котором все знали. Здесь тоже имелось бесконечное число различных мнений. Портной Ефраим, мясник Бунцель и многие другие выступали здесь в качестве ораторов. Болтовня шла такая же, как и в комнате.
Какой глубокомысленной казалась Давиду, по сравнению со всем этим шумом, несловоохотливая Моника. Когда они стояли перед трупом, он почувствовал, что она чужая ему, но разве и здесь она не сделала того, что было нужно, что диктовалось необходимостью, и притом сделала без лишних слов, повинуясь велению сердца. И вдруг он вспомнил, что Моника предлагала свою помощь на тот случай, если не будет другого исхода. Речь могла идти только о том, чтобы она пошла к бургграфу. Давид решительно от этого отказался. Послать свою возлюбленную к бургграфу, – эту мысль он хотел выжечь из головы.
Когда он вернулся домой после прогулки, он не поверил своим ушам. Ослепленные люди спорили теперь о том, можно ли считать врача Ангелика, державшегося вдали от общины, правоверным евреем. Старшина Мунка выдвинул этот вопрос, очевидно, для того, чтобы создать затруднения для проекта Кралика. И верный оруженосец Мунки, всегда возбужденный Липман Спира, размахивая руками и бородой, громил еретика Ангелика. Плащ у него расстегнулся, шапочка сбилась с головы, он являл собою образ неистового драчуна.
Недалеко от Кралика, толстого и неподвижного, но каждую минуту готового к отпору, Давид заметил Голодного Учителя Гиршля. Резкое разделение между советом и улицей исчезло, нетерпение ждавших внизу нельзя уже было сдерживать, некоторые граждане стояли на лестнице, другие заглядывали в полураскрытую дверь, сидели на окнах, выходящих на лестницу. Прибегали посланцы, сообщали общине о предполагаемых решениях, осведомляли членов совета о настроениях в толпе. Одним из этих посланцев был также и хромой учитель, который действительно, как в этом лишь теперь убедился Давид, пользовался вниманием богатого ювелира и тем самым приобрел рупор для выступления в совете. Гиршль что-то нашептывал ювелиру, после чего Кралик, до тех пор скупившийся на слова, важно встал и сказал:
– Если здесь нападают на врача Ангелика, относительно которого я имею доказательства, что он верен религии, то следует проверить образ жизни людей, которые состоят даже на службе у общины. Я имею в виду старика Герзона, одного из привратников.
– Это не относится к делу, – крикнули ему.
– Я привожу этот пример только для того, чтобы надлежащим образом оценить строгость старшины и преданного ему, высокоуважаемого Симеона Лемеля. Нельзя заподозревать невинного и одновременно защищать человека, знакомого, как говорят, с каббалистическими писаниями, которые лучше бы сохранять в тайне. Человек этот ждет пришествия Мессии не к концу мира, а в наши дни, его мучают злые духи, доказательством служат его совершенно сумасшедшие трубные сигналы. Вместо того, чтобы протрубить двенадцать часов, он трубит сорок.