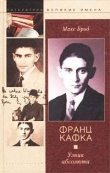Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
«Юность, мать, Прага, отчий дом – все сгорело на этом костре, превратилось в груду серого пепла. Все стало бессмысленным! И ничего мне так не будет недоставать, как твоего неодобрительного покачивания головой, Тувия. Ради такого конца ты, добрый, глупый, верный слуга, последовал за мною из Праги в Рим, а оттуда в Португалию и Авиньон на два года в тюрьму и потом один-единственный сопровождал меня в Рим?! Для этого! Как все бессмысленно!
И лишь одно, что раньше всегда казалось бессмысленным, получило оправдание: твой странный страх перед Мольхо, которого ты всегда почитал, но к которому тем не менее не любил приближаться.
Неужели ты чувствовал, что ожидало тебя из-за него?»
И Реубени тихо перебирал в памяти спутанные линии судьбы. «Какое странное сочетание обстоятельств, что Мольхо должен был отнять у меня еще и старого Тувию, как отнимал до сих пор все. Это был у меня последний остаток любви и поддержки. Жалкий остаток, но все же единственное утешение в это печальное время. Разумеется, Мольхо этого не хотел, так же, как не хотел разорвать мой победный венок в Португалии почти накануне последнего шага»…
Сару уже не было больно от этих мыслей, он примирился. Какая-то сверхъестественная сила владела ими обоими и всегда решала не в его пользу, а в пользу Мольхо, – и теперь было ясно, что покоряться должен был он.
«Так возьми же меня совсем, мой друг! Будь ты вождем! А я буду повиноваться. Ведь все равно неправильно все, что я делаю. Я всегда оказывался не прав. А с тобою Бог. Даже из огня он спас тебя и ввел в него моего слугу! Так повелевай же ты. А я буду делать то, что ты велишь».
Мольхо пришел к Реубени в первую же ночь, когда он мог свободно выходить. Реубени задал ему вопрос – что теперь делать?
Мольхо полагал, что не следовало больше оставаться в Риме. Это значило бы – испытывать Бога. Но Реубени требовал более точного решения и настаивал, чтобы его дал Мольхо. Тогда Мольхо признался в своем тайном желании, которое он уже давно лелеял.
Сар говорил с папой и с королем португальским и в обоих пробудил любовь к народу израильскому. Что настоящая миссия Реубени потерпела крушение, этого Мольхо не сознавал. Но в силу сложившихся обстоятельств имеется еще более мощный повелитель, нежели они, самый мощный из всех, непобедимый цезарь, ныне властитель Испании, Италии, Германии, Нидерландов и нового мира… А так как Реубени в сомнении опустил голову, то Мольхо еще настойчивее продолжал, что самое великое слово, которое cap сохранил еще в своем сердце, должно быть сказано перед ним, повелителем земли. Слово во славу Божию – самая мощная весть от царя Хабора…
«С этим пойти к холодному, неумолимому императору, в котором еврейский народ видел „армила“ – врага Мессии в борьбе Страшного суда?..»
Мольхо, очевидно, угадал мысли Реубени. Именно потому, что император Карл является исконным врагом, cap должен выступить перед ним и до конца бороться за дело Божие. А если он позволит, то Мольхо сподобится его славы и будет сопровождать его в этом подвиге.
Реубени все время кивал головой.
– И момент теперь очень благоприятный, – продолжал Мольхо, как бы желая еще сильнее закрепить уже принятое решение, – император Карл недавно прибыл в Регенсбург на открытие имперского сейма и чтобы призвать немцев против турок. Теперь там подходящее место, чтобы снова предложить союз и содействие еврейской армии из царства Хабор.
Юноша излагал еще многие другие соображения, в которых его собственные мистические надежды смешивались с холодными мыслями, в которых cap узнавал свои мысли. Только в этом соединении они становились ложью, нелепостью. Он ясно это видел, видел, что нет ничего более безнадежного, нежели мысль заинтересовать делом евреев католика Карла, который считал самого папу и католическую церковь недостаточно ревностными. Но противоречить Реубени сейчас не был в состоянии. Да и не хотел. Наоборот, так приятно было теперь, впервые после многих лет, не иметь своей собственной воли и дать увлечь себя течению. Однажды он уже испытал нечто подобное у кровати больного Мольхо. Тогда он не был достаточно силен для этого – или достаточно слаб. Только теперь он созрел. Наконец он может сбросить с себя бремя своего властного «я», которое постоянно требует от него притворства, искусственных уловок. И как ему сразу стало легко, свободно. Все растворилось в приятной истоме. Не надо ходить, держаться прямо, можно падать, падать, без удержу, падать во тьму, как тот бургомистр Клобоук, о котором ему рассказывали в детстве… Гуситы выбросили его из окна пражской ратуши; он судорожно держался за подоконник; его ударили молотком по руке… и тогда, наконец, он отказался от намерения жить – дал свалить себя. Какое наслаждение испытываешь, когда доходишь, наконец, до этого! Какое сладострастное ощущение, когда гибнешь и как будто по своей воле. Говорят, что только в этот момент семя вечности дает свои ростки в человеческих сердцах.
Так Реубени решился отправиться вместе со своим другом Мольхо из Рима к императорскому двору. Они поехали вместе. Была весна года «рацав», то есть 5292 года от сотворения мира и 1532 года по христианскому летоисчислению.
XXVI
Настоящий «крестовый поход» – так называл Мольхо их путешествие через Флоренцию, Болонью, Верону, вверх по реке Эч, через Альпы. Их обоих видели на Бренерском перевале. Мольхо нес свое знамя, темное знамя, испещренное стихами из псалмов.
Правда, бывали еще моменты, когда Реубени признавался перед самим собою, что он, в сущности, иначе представлял себе этот поход, но такие настроения быстро проходили, растворяясь в новом счастье, которое все сильней овладевало им.
Ничего подобного он еще никогда не переживал. Ему казалось, что с него спали тесные путы, больно сжимавшие кровообращение, и новая жизнь пылко и бурливо разливалась по всем его членам. Он не испытывал больше боли, не ощущал тяжести в голове. Исчезла жуткая боязнь ответственности. Оказалось, что можно жить и без этой боязни и вообще без забот о завтрашнем дне. Только до сих пор он никогда этого не пробовал. Теперь он стал веселым, непринужденным. Он радостно шагал рядом с юным Мольхо, в каком-то детском благостном настроении, которое, как нечаянная радость, обвевала его в эти дни теплым благовонным ветерком и ароматом свободы. За всю свою жизнь он ни разу не был так счастлив, как теперь. Может быть – тогда, в первые дни после своего бегства из Праги, когда он тоже был в пути и с ним была прекрасная девушка. Тогда он переживал нечто подобное. Но тогда к счастью примешивалось еще достаточно мрачного, угрожающего. Теперь у него на сердце было впервые совершенно легко, и с каждым днем оно билось сильнее и любвеобильнее. С постаревшего рано лица стали исчезать морщины, и он внешне стал таким же молодым, каким был внутренне. Казалось даже, что с того момента, когда он подчинился воле Мольхо, он вместе с этой волей приобрел уравновешенную кротость своего друга и тем самым приобщался к благословению, которое явно лежало на всем существе Мольхо и которого он сам был лишен. И по мере того как он переставал заглядывать в свое мрачное, терзаемое грехом «Я», перед ним раскрывали свою прелесть леса, луга, сады и живая природа.
Они уже спустились к Инсбруку. Южный ландшафт исчез вместе с кукурузой, виноградниками, пальмами и кипарисами, покрытыми до вершины дорожной пылью. Они уступили место беспредельной зелени темных и густых горных лесов и волнистых лугов, которые окутывали взор мягким и кротким светом.
А когда они вышли на баварскую равнину через Мюнхен к Фрейзингу и Ландсбургу, сара охватила радостная дрожь. Ведь это весенний ландшафт Праги, ведь это – родина, страна детства, страна первой любви, это – приют, возвращение к вечному началу, не знающему конца.
Луга покрыты одуванчиками и другими весенними цветами, желтыми и белыми; у рек рядами выстроились низкие ивы с подрезанными ветвями. По лугам бродят коровы с телятами, а из-за холмов мелькают верхушки выкрашенных белой краской церквей. Правда, чернеющими отверстиями своих башен они похожи на черепа, но в них нет ничего страшного. А дальше – снова лес, лес, какого он не видал уже двадцать лет. Радостная тень, в которой свободно дышится. Нежная, почти желтоватая зелень молодых березок выглядывает кое-где среди темной чащи сосен и елей.
Для Мольхо этот край был чужим. Но он нисколько не изменил своих привычек, при помощи жестов легко изъяснялся с людьми, язык которых он не понимал, хорошо ладил со всеми, а по вечерам, когда не удавалось устроиться на ночлег, закутавшись в плащ, так же спокойно ложился на покрытую росой траву, как в итальянском амбаре. И немедленно засыпал, и ему снились возвышенные видения, в которых посланцы Бога сходили к нему и открывали ему волю Божию.
Реубени никогда раньше не жил с ним в такой близости. Только теперь он впервые до конца постиг всю чистоту души Мольхо, безупречную правдивость всех его слов и дел, ибо даже вблизи, при самом интимном общении он оставался таким же, каким был раньше. «Я же, – думал про себя Реубени, – с моей хитростью и коварством, был для него приблизительно тем же, чем Макиавелли и Аретино представлялись мне – фигурой поучительной, но весьма печальной».
И он благословлял судьбу, что злое время прошло и осталось позади. «Правда теперь и во мне, слава богу, теперь я не притворяюсь, я правдив. Правда объединяет меня со всей сладостью мира, с этими цветущими деревьями, которые так наивно и нежно растут на склонах гор, каждое – словно составляет предмет гордости сада, словно все окружающие смотрят на него и говорят: взгляните, это наша вишня, наша вишня».
И Реубени, который еще недавно считал себя недостойным дышать скверным воздухом в жалком переулке у театра Марцелла, теперь дышит полной грудью в сознании, что ему не нужно больше лгать, вдыхает доносящийся из фруктовых рощ аромат.
Какая мягкая земля! Тихо падает весенний дождик и смывает всю пыль. Можно подумать, что на дороге нет камней, он идет по ней, как по ковру, и белый отблеск деревьев поддерживает его, словно крыльями. Он совсем обезумел, опьянел от ликования, от беспрестанного ликования щебечущих птиц.
Есть ли какая-нибудь цель в их путешествии? Он не знает и не задумывается над этим. Он достаточно думал и размышлял всю свою жизнь, теперь он, как бы в награду за все свои муки, даже не хочет знать, куда они идут. Всем распоряжается Мольхо, и он так нежен по отношению к нему, к любимому учителю, что отстраняет от него всякие неудобства во время их продолжительного странствования.
С уст Мольхо не сходят надежда и шутки, и странно, как воодушевление переплетается с шутками и остроты с воодушевлением. Мольхо такой веселый и оживленный. Им не скучно в пути. Он умеет так занятно рассказывать, изобразить, как примет их в Регенсбурге император Карл: поднимется с трона и со всеми курфюрстами пойдет им навстречу; если же он так не сделает, то, по крайней мере, вышлет к ним навстречу сенешала и выразит свое сожаление по поводу того, что несколько лет тому назад изгнал евреев из Регенсбурга и потому теперь не может предоставить гостям «миньен», – собрать десять мужчин, присутствие которых необходимо для совершения некоторых молитв.
Они подошли к Дунаю, и сразу перед ними поднялись обе колокольни огромного собора. Было воскресенье. В самый город упиралась равнина, мрачная и пустынная, местами болотистая и состоящая главным образом из невозделанных пастбищ.
Тяжелые облака свисали над темными грядами холмов. Издали доносились тихие грустные звуки регенсбургских колоколов. В этом похоронном звоне cap осознал всю нелепость их затеи. Он почувствовал, что их ожидает в этом городе; в этой северной стране их встречала мрачная воля, узко устремленная на определенную цель, а не радостное искусство и не широкий размах Рима, не рыцарская предприимчивость и жажда завоеваний португальской знати.
И тем не менее друзья ни минуты не медлили, шли, не останавливаясь, бодрым шагом навстречу угрожающим соборным башням и глухому звону колоколов.
XXVII
Свободный имперский город Регенсбург уже несколько недель был переполнен депутациями всех сословий германской нации.
Католические и протестантские князья вели между собою переговоры, точно так же, как и городские советы, которые частью придерживались римского исповедания, частью лютеранского.
Огромная армия турок в двести тысяч человек вторглась в Венгрию. Фердинанд из Вены умолял брата о помощи. Император Карл стремился побудить имперские сословия как можно скорее мобилизовать армию. Другой его целью являлось уничтожение ереси в Германии, но при создавшемся положении он не мог добиваться этого с достаточной энергией. Протестанты соглашались дать субсидию не иначе как при условии, чтобы «королевское величество изменило направление своих мыслей».
Опираясь на победы, одержанные над Францией и папой, император с большим дипломатическим искусством сумел отклонить такое давление на свою совесть. Но в то же время ему нужно было выяснить свои отношения с папой, дружба которого казалась не вполне надежной. Этого же требовали и отношения с Францией, снова проявившей воинственные наклонности и даже стремившейся завербовать союзников среди германских князей.
В мемуарах императора, составленных им самим и притом, как сообщает один из придворных, по образцу «Комментариев» Юлия Цезаря, рассказывается, что во время рейхстага император страдал от ушиба ноги, причиненного падением с лошади на охоте. А затем там сообщается еще о третьем припадке подагры.
В такой обстановке у императора не было охоты принять двух еврейских безумцев или авантюристов. На них не обращали внимания даже низшие придворные чины. Только раз им удалось видеть его издалека, когда он направлялся в собор на торжественную обедню приветствовать папского легата. С ним была многочисленная блестящая свита. Тысячи вооруженных людей составляли его кортеж. За ним следовало пятьдесят пажей в ливреях из бархата и шелка. В процессии участвовало также все духовенство, присутствовавшее на рейхстаге.
Балдахин, под которым император ехал на белом коне, несли городские советники. Властелин мира, одетый в простое черное платье, был человеком среднего роста, бледный, белокурый, с болезненным выражением лица, с холодными голубыми, устремленными в пространство глазами. Нижняя губа резко выпячивалась вперед. Лицо выражало упрямую волю, и в то же время на нем лежал отпечаток тревоги: император постоянно боялся, что его дела, когда они не посвящены всецело интересам веры, способны вызвать гнев Божий. В своих комментариях он пишет: «Из-за таких дел Бог нередко весьма гневался на меня, и я хотел бы не навлечь его гнева на себя этими записками. И без этого у него достаточно повода, чтобы гневаться на меня».
Это почитание Бога, приправленное горечью, делало внука жизнерадостного Максимилиана мрачным, одиноким и упрямым.
Когда Реубени и Мольхо протискивались сквозь войска, стоявшие шпалерами, чтобы пробраться к императору, они были арестованы.
В свите кардинала Мольхо опознали как преступника, бежавшего от римской инквизиции.
Его снова предали суду. Казалось, что инквизиция выпустила его на время, только ради шутки, чтобы потом снова изловить свою жертву. На этот раз обвинение было предъявлено заодно и его спутнику Реубени.
Мольхо обвинялся в повторном еретичестве, Реубени – в совращении в иудейскую веру и в сговоре с еретиком. По обычаям священного судилища эти обвинительные пункты не были сообщены арестованным.
Всякое действие, исходившее от инквизиции, составляло тайну. Заключенных совершенно отрезали от внешнего мира. При аресте им только сообщалось, что священное судилище никого не привлекает к ответственности без достаточных на то оснований. Им предлагалось проверить свою память и самим указать, в чем они чувствуют себя виновными. За это им обещали соответствующую милость. Обвиняемым не сообщалось также ничего о показаниях свидетелей, им не называли даже главного свидетеля обвинения. Даже самый приговор оставался в тайне. За исключением «relaxatio», выдачи светским властям для сожжения, о чем сообщалось ночью накануне, осужденные после многих лет заточения только на лобном месте узнавали, к какому наказанию они приговорены – пожизненному тюремному заключению, конфискации имущества, ношению «санбенито», то есть страшного позорного одеяния, или же к какому-нибудь легкому наказанию.
Эта система, рассчитанная на запугивание и парализацию воли, создана была главным образом для того, чтобы открыть соучастников и раскрыть всю организацию еретиков. Путаные, мечтательные речи Мольхо при первом же допросе показали, что от него многого узнать не удастся. Зато Реубени, который давал ясные ответы, был несколько раз подвергнут пыткам.
Но так как он оставался стойким, то от этого способа допроса временно отказались.
Смертный приговор, по крайней мере для еврействующего еретика Мольхо, был предрешен. В Евангелии от Иоанна сказано: «Кто не останется во Мне, тот будет отброшен, как виноградная лоза, и засохнет. Ее подберут и бросят в огонь, где она сгорит».
Ссылаясь на эти слова Писания, в то время считали необходимым, чтобы смертный приговор над еретиком совершался посредством сожжения его живым.
Можно было апеллировать к папе, но они еще незадолго до своего ареста узнали, что папа, следуя желанию императора, издал буллу, которой, после многолетнего сопротивленья, наконец все-таки вводилась инквизиция в Португалии. После этого они оба, хотя им и не давали сообщаться друг с другом, пришли к одному заключению, что апелляция будет бесполезна. В Риме, под давлением Испании, заглохли последние ростки свободы.
В эти годы императору удавались все его начинания. Огромная турецкая армия отступила после непродолжительной борьбы. Турецкий флот потерпел поражение.
Из Регенсбурга Карл отправился в Вену, а оттуда, ввиду неожиданно скорого окончания войны, проследовал в Италию, чтобы снова встретиться с папой.
В Мантуе была сделана остановка. Герцог Гонзаго оказался гостеприимным хозяином, и император оставался у него в течение целого месяца, чтобы отдохнуть от всего пережитого за этот год.
Здесь император, которого однажды уже привели в восторг полотна Тициана, снова увидел картину этого великого мастера. Он выразил желание, чтобы Тициан написал его портрет. За художником были отправлены в Венецию гонцы. К императору явился также и Ариосто и поднес ему своего только что законченного «Неистового Роланда». Театральные представления, охоты и пышные празднества следовали одно за другим. Говорят, что Карл V состязался с герцогом, одетым в мавританский костюм, в испанской игре – метании копий и обнаружил большую ловкость. На турнире он направился против него с десятью всадниками, одетыми в белое, герцог же предводительствовал отрядом, одетым в белый и желтый цвета. Два часа они ломали копья. Общее мнение было таково, что император превзошел всех в искусстве верховой езды и в ловкости, с которой он обращался с копьем.
В программу празднества по испанскому обычаю было включено также аутодафе – великий праздник веры, на котором объявлялись и совершались приговоры над узниками инквизиции. Это зрелище было в то же время благочестивым делом, за которое всем присутствующим на нем отпускались грехи на сорок дней. Чтобы сделать более внушительной эту церемонию, прославлявшую чистоту религии и власть священного судилища, обыкновенно из соседних судебных округов собирали как можно больше еретиков и вероотступников и зараз исполняли над ними приговор. Нередко исполнение приговора откладывалось только для того, чтобы приурочить его к такому аутодафе, хотя процесс был закончен раньше.
Это и было причиной, почему Реубени и Мольхо, закованных в кандалы, привезли обратно в свите императора через Альпы и доставили в Мантую. Вместе со многими другими они являлись действующими лицами этого праздника веры.
Оставшись один, без Мольхо, Реубени еще в городской тюрьме в Регенсбурге скоро пришел в себя. Он понял, что совершилась роковая ошибка, которую нельзя уже поправить. Радостное, счастливое путешествие с Мольхо – именно это счастье и было ошибочным шагом, после чего правильный путь оказался навсегда покинутым.
Мрачные стены тюрьмы нашептывали ему: «Ты должен был грешить, – таков был закон твоей жизни», – и он отвечал на все эти голоса: «Да, это так, действительно так, а когда я один только раз захотел быть безгрешным и жить легко, мне оказалась уготована гибель. Мне нельзя было этого делать. Я должен был оставаться осторожным, старательным, заботливым, должен был предостерегать, потому что я понимал, что это обращение к наиболее недоступному из всех монархов было настоящим безумием. Но меня манило хоть раз послушаться своего сердца и ринуться в опасность, не задумываясь. Это было так соблазнительно и прекрасно, что у меня не было сил противостоять этому. Ведь все, все объединилось для того, чтобы ослабить меня».
И он выдерживает суд этих нашептывающих голосов, он жмется в темный угол тюремной камеры, словно бросается в объятия.
Он больше уже не стыдится. Нет, теперь он видит все отчетливее, чем раньше, и грех кажется ему любимой дочерью Бога, к которой он склоняется с шуткой, с приятной насмешкой и которую можно любить и, лаская, поучать.
* * *
Однажды вечером, во время остановки в одной из долин южных Альп, к нему явился молодой человек, Алькобез, поэт, с поручением от мудрецов в Софеде, в Святой земле. Они послали его, и он уже в течение нескольких месяцев находится в пути. Он ищет сара, напал на его след в Риме, оттуда поехал в Германию, где узнал о несчастий, постигшем обоих, и теперь уже давно следует за кортежем императора.
Наконец представился случай поговорить наедине. Во время путешествия охрана постепенно ослабла: солдаты начальника тюрьмы сидят в кабачке. Кругом тьма, скоро наступит ночь.
Сар сначала думает, что посланец явился, чтобы смелым подвигом спасти его вместе с Мольхо. Это соответствовало бы его вновь окрепшей воле. Но об этом не может быть и речи.
«Это не мой путь. И все-таки, может быть, путь. Или, по крайней мере, переход?»
Алькобез привез ему копию первого тома «Шулхан Аруха». Это было произведение, над которым работал Иосиф Каро. Мольхо рассказывал о нем, но Реубени тогда не придал этой работе большого значения. Теперь же он неожиданно видит ее перед собой.
«Накрытый стол» хочет усадить весь народ за стол, на котором поданы Божественные законы, так что остается лишь протянуть руку, и, протягивая руку, народ становится единым, однородным, железным, несокрушимым телом. -
– Из-за любви к тебе и Мольхо пишет эту книгу Каро, и этим только занята душа его.
Руками, звенящими в кандалах, Реубени берет книгу.
Столько ненависти встретил он у своего народа, а теперь, незадолго перед концом, этот привет любви.
– Прочитай что-нибудь, – с начала!
И он слушает. Кругом притих лес, не слышно даже ветерка, не слышно, как ревут звери в горах. И он внимает вести древнего предания, которую слушал когда-то от своего отца: «Утром праведник встает, как лев, навстречу своему господину. Нетерпеливый, полный огня и сил, словно желает разбудить утреннюю зарю». Странно звучит такой привет здесь, в горной долине, никогда не видавшей льва, но все же это привет духа и любви, действительный повсюду.
И снова следуют странные слова, придавленные, согнутые, искривленные. «Не мой это путь», – думает про себя Реубени, но только одно он ясно видит: «Не надо бояться. Эта книга, по крайней мере, сплотит мой народ и сохранит его, пока не придет другой, который будет сильнее меня».
– Есть у тебя еще какая-нибудь весть ко мне, Алькобез?
– Ничего, кроме этой книги.
– Достаточно, более чем достаточно. Скажи своему учителю – пускай растут его силы и пускай он закончит то, чем утешил меня перед смертью.
На душе у него становится радостно. Его яростное напряжение, казавшееся совершенно бесплодным, все же не было напрасным. За морем, в Софеде, оно разыскало человека, который построит мост к отдаленным поколениям. И только тогда – в должное время – путь будет пройден до конца.
* * *
В Мантуе Реубени удалось снова побеседовать с Мольхо. До этого времени их держали в строгой одиночке.
Только в ночь накануне казни исполнили их желание и разрешили им свидеться.
Когда Реубени ввели в камеру Мольхо, тот лежал па тюремной койке, прекрасный, бледный. Продолжительное путешествие в оковах обессилило юношу.
– Таким же я видел тебя однажды, когда ты лежал без сознания, и тогда я хотел умереть с тобой. Теперь мое желание исполнилось.
Огромные глаза Мольхо горят безумным огнем.
– Сгорим жертвою, принесенною Всевышнему.
– Ты всегда этого желал.
– Теперь скоро, скоро!
Реубени садится возле Мольхо, целует его, словно хочет успокоить ребенка, слишком возбужденного от радости. Потом он улыбается странной улыбкой и говорит:
– Если бы ты только знал, Мольхо, какую роковую роль сыграл ты в моей жизни!
Мольхо испуганно приподнимается.
– Учитель!
– Нет, теперь все уже хорошо. Но разве я не был прав, когда вначале отшатнулся от тебя и ни за что не хотел общаться с тобою? Потом ты становился все сильнее и сильнее и, в конце концов, ты захватил власть над нами обоими.
Он мог шутить совсем нежно, шутливо угрожать пальцем, – так далеко позади лежала вся его горечь против друга, и завистливая переоценка тоже оставалась далеко позади. Его спокойный взор указывал теперь каждому из них надлежащее место, на котором он был незаменим; оба делали свое дело, и нельзя было заместить одного другим. И казалось, только этим спокойным взорам возможна свободная от страсти добрая любовь, с которой он кротко успокаивал пытавшегося возражать Мольхо.
– Нет – не власть, – словно в бреду твердил Мольхо. – Вы властелин, я всего только слуга помазанного царя.
– Этого нельзя с такой точностью утверждать, – нежно возражал Реубени. – Если хочешь, так оставайся при этом, что ты был мой слуга, но кто господин и кто слуга, кто выше, кто ниже – это можно постигнуть только в мире вечности, тогда только становится известным подлинное взаимоотношение всего сущего. Меня часто смешило, когда я представлял себе, как изумлены были бы люди, если бы им уже здесь, на земле случайно показали их действительное место. Многих из тех, кого мы почитали, мы совсем не сумели бы найти, потому что они скромно стояли бы где-нибудь внизу. То, что представлялось нам славой, оказалось бы позором, то, что для нас было грехом, оказалось бы необходимым и правдивым. Это все лишь слова. Подлинное значение станет ясным только в будущем мире. И наверху мы, быть может, встретим совсем незаметных людей, то есть тех, которые казались нам незаметными, но которые имеют право на это место благодаря какому-нибудь деянию, известному только Богу.
– Вот, быть может, тот мальчик, – взволнованным тоном перебил его Мольхо, – который сегодня через начальника тюрьмы прислал мне свою вышитую золотом шапочку для того, чтобы она завтра была сожжена вместе со мною. А может быть, поэт Алькобез, который в течение месяца не жалел сил для того, чтобы показать мне книгу, принести утешение, раньше чем я умру.
И Реубени рассказывает внимательно слушающему Мольхо, как подвигается труд Каро в Обетованной земле.
– Или сам Каро! – возбужденно восклицает Мольхо. – А где же очутится император?
Эта игра дала пищу фантазии Мольхо. Реубени был рад, что он выдумал ее, но в то же время он испытывал волнение, когда он, отвлекаясь от придуманного им образа, обозревал все загадочное разнообразие человеческих стремлений, частицей которых он был и сам. Где-то в глубине сознания он почувствовал уверенность, что это разнообразие действует в направлении неизвестной цели, но что оно не пропадет даром…
Утомленный всем этим, Мольхо среди разговора заснул на час, как маленький ребенок. Реубени бодрствовал у его ложа. Он усыпил его словно сказкой и песнями.
Празднество «публичного и всеобщего аутодафе» – Auto publico generale – начиналось с того, что в зале заседаний инквизиции еще до рассвета читалась месса. Затем выстраивалась процессия, окруженная сильным военным эскортом. Улицы были переполнены, и путь ограждался барьерами. На площадях, через которые проходила процессия, были устроены возвышения. Все окна в домах прилегающих улиц за много дней раньше были распроданы по высоким ценам. На площади, предназначенной для оглашения приговора, была воздвигнута главная трибуна с ложей для императора, для герцога Мантуи и для инквизиторов.
Процессия медленно приближалась к площади. Впереди шли солдаты, затем несли крест городской церкви, который был закутан. С ним шел церковный мальчик, звеневший колокольчиками. Затем шествовали покаявшиеся грешники, каждый в сопровождении двух дворян, добровольно взявших на себя эту почетную роль, и двух монахов. На осужденных была надета корроца – высокая, закругленная сверху шапочка и желтый, доходящий до колен санбенито, на который был наброшен длинный кусок полотна с указанием имени, сословия и преступления осужденного.
Корроца и санбенито приговоренных к сожжению на костре были помечены огненными язычками.
В руках у них были зеленые кресты. Монахи во время шествия убеждали их, стараясь заставить покаяться, причем обещали в виде милости, что они будут задушены у столба на костре, прежде чем их охватит огонь.
В черных гробах везли кости еретиков, которые были изобличены только после смерти. Эти кости тоже подлежали сожжению на костре, равно как и куклы в половину человеческого роста, которых несли на шестах в позорных митрах, как живых грешников; это были изображения еретиков, спасшихся от инквизиции бегством. Процессию замыкали инквизиторы и судейские чиновники, фамилиары, на лошадях, с знаменем суда.
На площади дворянство и духовенство разместилось в определенном порядке на специально устроенных скамьях. Несколько часов длилась проповедь. Потом император принес присягу и снова, пользуясь торжественным случаем, обещал хранить веру, ловить и наказывать еретиков, как того требуют святые каноны.
Наконец началось чтение приговора, по очереди с двух кафедр. Миловали покаявшихся, уводили присужденных к тюремному заключению, и, наконец, происходила «передача» светским властям вернувшихся в ересь и тех, кто отказывался покаяться, причем светскому судье давалось напутствие действовать «снисходительно и милостиво».
Формальность эта проделывалась в силу заведенного обычая, ибо, по церковным правилам, клирик не должен был произносить смертного приговора или принимать в нем участие под страхом «иррегулярности». Но эти ласково звучащие слова, в сущности, были приказом светским властям немедленно предать еретиков сожжению на костре, причем в случае неисполнения светские власти сами подлежали церковному наказанию за поощрение еретиков и за противодействие инквизиции.