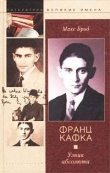Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Макс Брод
Реубени, князь Иудейский
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Светает.
Дымчатые утренние сумерки зимнего дня. Ласковыми словами мать уговаривает маленького Давида проснуться. Еще совершенно темно и холодно. Но нельзя же спать так долго: перед уходом в школу на целый день нужно еще посидеть час дома за ученьем.
…Не для всех детей это обязательно. Другим, может быть, достаточно и одной только школы. Но тебе, сыну такого ученого и святого человека…
И вот нежный, бледненький десятилетний мальчик сидит, ежится от холода, жуткий, как сами сумерки. Сидит и учится.
Он забрался коленками на кресло, – иначе ему не достать высокого стола. Обоими локтями он уперся о стол, кулачки прижал к щекам – так ему удобнее.
«И ты должен любить всевечного Господа твоего всем твоим сердцем и всею душою, и всеми силами».
К этому примечание: «Всем твоим сердцем – значит обоими побуждениями – хорошим и дурным».
Мальчик прерывает чтение.
Он не понимает. Снова читает громко, нараспев, подчеркивая отдельные слова, как это делают взрослые, когда спорят из-за какой-нибудь фразы в мишне: «Ты должен любить всевечного… и дурным побуждением»…
Он не понимает.
Голова его пылает. Громко растягивает он последнюю ноту и громко спрашивает еще раз: «А также и дурным побуждением?»
Но едва умолкает звук его голоса, как внезапно его охватывает страх. Такое эхо проносится по пустой комнате. Мальчик боится ночных призраков. Правда, он знает, что они бессильны над ним, пока он занимается священным учением.
Но вот остановился, он не в состоянии дальше думать.
Разве не прозвучали его слова как формула заклинания?
Темные силы надвигаются на него… мальчик пугливо озирается на косяк двери: там в серебряной капсуле прибит «мезузе» – пергамент со стихами из Писания. Мимо него не может пройти ни один призрак. Но что, если в «мезузе» ошибка? Если там не хватает хотя бы одной только буквы или даже маленькой частицы буквы? Это ведь может случиться, а тогда вся формула ничего не стоит, тогда злые духи смеются над ней.
Ребенок делает резкое движение рукой, словно обороняясь.
Свечка на деревянном столе мигает.
Давид вздрагивает: рядом совершенно отчетливо раздался стук.
Рядом сидит отец и занимается учением. Отец постоянно сидит за учением. С пяти часов утра он сидит за книгами и засыпает только после полуночи. Он засыпает за тем же столом, за которым занимается. Одну руку он кладет на книгу, другой рукой подпирает голову: так он спит каждую ночь и бранится, если его не разбудят через три часа.
Ведь каждые шестьдесят дыханий сна есть предвкушение смерти, и благочестивые не должны этого испытывать. Только по пятницам, в ночь на субботу, отец ложится в постель, но и этим он исполняет завет религии, – отец ничего не делает иначе как во исполнение заветов религии.
Мальчик боится Лилит, царицы всех ночных призраков, Лилит – жены Самоэля. Лилит подвергает испытанию души самых возвышенных людей. Даже Адам некоторое время жил с ней, когда после грехопадения он отвратился от Евы, но потом он вернулся к Еве, и с тех пор Лилит ненавидит всех детей Евы, людей же с возвышенной душой она особенно ненавидит…
Давид совсем не удивится, если огненная женщина Лилит проникнет в комнату отца.
Снова шум.
Мальчик не в состоянии дольше оставаться один. Он открывает дверь в комнату отца и молча останавливается на пороге. Так делает мать. Никто в доме не решается заговорить с отцом первый, обыкновенно ждут у двери, пока отец не заметит вошедшего.
Но отец совсем не сидит за столом. Он вскочил и отодвинул кресло. Одной рукой он обхватил длинную серебристую бороду, которая доходит у него до пояса, другую, с растопыренными пальцами, поднял вверх, губы у него побелели, как борода, хотят что-то сказать, но не могут.
Мальчик подбегает к окну, на которое обращены широко раскрытые глаза старца.
Внизу, на дворе, занесенном снегом, лежат дрова. Темная фигура крадется между штабелями дров и перелезает через стену.
Вот оцепеневшее от ужаса тело отца оживает. Он стремительно открывает окно, высовывается в него и кричит изо всех сил вдогонку исчезающей фигуре:
– Гефкер!
Давид понял: «гефкер» – это значит бесхозяйное имущество. Отец объявил дрова, лежащие на дворе, бесхозяйным имуществом, для того чтобы предупредить грех, связанный с кражей. Не вор испугал его, а отвратительный грех, который должен был совершиться. Вор убегает, но это уже не вор, а простой бедный еврей, который взял из бесхозяйного имущества ровно столько, сколько нужно для его потребностей.
И снова отец сидит за столом; красивое лицо с правильными чертами приняло свое обычное спокойное выражение. Давид хочет спросить объяснения трудного места. Но разве можно мешать отцу? И он снова тихонько, на цыпочках возвращается в свою комнату.
Но он не может забыть побледневшие губы, с которых сорвалось слово «гефкер». Самое происшествие не производит на него особенного впечатления. Да он и никогда не задумывается над тем, что делает отец. Ведь все, что он делает, безусловно правильно! Но в течение целого дня он не может забыть ужасное выражение лица, растерянные глаза благочестивого старца, в которых отражается злое дело.
Не может забыть и в школе, где он менее внимателен, чем обычно, за что несколько раз его наказывают розгой.
II
Отец – ученый. Средства к существованию добывает мать. У нее в первом этаже лавка, где продается железный лом. Лавка приносит хороший доход.
Симеон Лемель – писец, так зовут отца в еврейском городе. Он пишет свитки Торы. Но особенно охотно пишет он священные стихи для тфилин – кубиков, которые прикрепляются ко лбу и рукам на ремнях во время утренней молитвы. Он пишет это потому, что ему доставляет удовольствие помогать людям в исполнении Божьих заповедей.
Вся его жизнь посвящена хвале создателю. Он ни на одну минуту не забывает, что стоит перед царем всех царей, чьим величием полна земля.
По утрам он «подымается – как лев на службу господину своему». Так велят мудрецы. Надо вставать с нетерпением, полным огня и силы. Словно желаешь разбудить утреннюю зарю.
Весь распорядок дня точно указан в священных книгах. Симеон Лемель знает, чему должен быть посвящен каждый час. Нет такой вещи, для которой не было бы своего времени в смысле запрета или разрешения. Тем самым все поставлено в связь с повелителем мира.
Когда Симеон Лемель приступает к своему ежедневному занятию – к писанию стихов для тфилин, он руководствуется множеством правил, установленных на сей предмет. Ни одна буква не должна касаться другой. Каждая должна быть окружена свободным пространством. И хотя более снисходительные авторитеты разрешают пользоваться черными чернилами, приготовленными и без чернильного орешка, но Симеон Лемель всегда старается держаться правила писать только чернилами из горького орешка, смешанного с древесной или масляной сажей. Кожа, из которой выделывается пергамент, должна быть выдублена горьким орешком или кальком и выделана специально для изготовления тфилин. Симеон пишет с крайним старанием. Ибо если в тфилин будет хотя бы ничтожная ошибка, то тот, кто накладывает их, окажется невыполнившим заповедь, велящую накладывать тфилин, и грех падет на писавшего. Поэтому писец должен быть очень богобоязненным человеком и строго соблюдать все заповеди. Каждый раз, когда упоминается имя Божье, он должен показать, что пишет это имя с благим намерением, как имя Бога. Симеон следит также особенно за тем, чтобы все строчки были ровные и чтобы всякая буква выходила отчетливо, одним росчерком, ибо сказано: вещи, которые нужны для исполнения заповеди, должны быть сделаны красиво.
Когда он не занят писанием тфилин, он изучает священные книги. После обеда у него собираются его ученики. Некоторые из них старше его, ибо все ценят его глубокомысленные комментарии. А между тем нет человека скромнее его. Только в пятьдесят лет он начал записывать результаты своих исследований. До тех пор он изучал только писание «ранних», то есть комментаторов, которые жили до Маймонида. Он работал очень основательно и методично, как оно и соответствовало столь возвышенному предмету. В течение некоторого времени он усердно писал; но написанным оказалось многое такое, что давно уже имелось в писаниях «позднейших» комментаторов, которых он еще не знал. Друзья и ученики, из уважения к нему, не решались обратить на это его внимание. Но когда однажды это все же было сделано, Симеон Лемель спокойно зачеркнул написанное и положил в ящик. И ни минуты не раскаивался, что напрасно трудился так долго. Разве он знал, что такое слава? И разве не заключает в себе всякое занятие учением самодовлеющее высшее счастье и подлинное назначение человека?
Так живет Симеон Лемель уже шестьдесят лет своей простой жизнью в непоколебимом покое. Он знает, в чем смысл его жизни и смысл мира: в служении Богу. Знает также, что существует бесконечное множество тайн, и уважает эти тайны, принимая на себя ярмо небесного господства. В своей умеренности и даже воздержанности он уравновешен и весел, но, празднуя субботу или радостные праздники, он может веселиться, как ребенок, и часы его веселья исполнены такого же мира, как часы серьезных занятий. Пятерых детей унесла у него болезнь, только самый младший остался в живых. Но никогда никто не слышал из уст его слова возмущения, а тем паче отчаяния.
Никогда он не пошатнулся на своем пути, никогда не проявил хотя бы колебания или возбуждения.
Поэтому Давид не может забыть, как отец сегодня смотрел широко раскрытыми безумными глазами. Что же он увидел там на дворе? Само зло, Лилит. Как ужасен должен быть грех, если даже такой благочестивый человек, как отец, окаменел перед ним.
И все же сказано, что Бога надо любить «также и дурным побуждением».
Мальчик никак не может этого понять. И ему не к кому обратиться с расспросами.
III
Однако это неверно, – есть такой человек. Только с ним запрещено говорить. Уже полгода как Давид ведет знакомство с человеком, у которого можно получить ответы на самые разнообразные вопросы. Это Гиршль, по прозвищу Голодный Учитель.
Не то чтобы считали Гиршля еретиком, но он пользуется плохой славой в общине. Поэтому к нему в школу посылают только самых нестоящих детей, детей бедных родителей, да и то не всех, потому что для одаренных детей из бедных семейств всегда найдется зажиточный покровитель. Не заботятся только о тех, у кого нет ни богатого отца, ни дарования. Имея таких бедных клиентов, ему приходится маяться вдвойне и ходить в лохмотьях. Это, конечно, не способствует его авторитету у пражских евреев.
Ходят слухи, что он читает светские книги на латинском языке. В точности никто этого не знает, но уже одних слухов достаточно для матери Давида. Как испуганно завопила она, когда увидела, что Голодный Учитель прохаживается перед ее домом вместе с ее единственным ребенком. Дело в том, что если уж Гиршль начинает говорить – то говорит без конца. Когда Давид приходит к нему, он идет потом провожать его до дому и все время не перестает говорить. Впрочем, так было только в первое время этой странной дружбы, завязавшейся между пятидесятилетним человеком и рано созревшим десятилетним мальчиком. После истории с матерью Давид лишь тайком пробирался к Голодному Учителю.
Мальчик изобрел способ искусственно вызывать кровотечение из носу. Это – его первая ложь. Дрожа и краснея, он преподносит ее. Но зато велика и награда. Ему разрешают уйти из школы еще днем, сейчас же после обеда, который варит жена его учителя. И тогда он может до вечера сидеть в комнате у Гиршля. Это – маленькая грязная комната, неуютная и какая-то незащищенная, потому что она расположена у самой стены, отделяющей еврейский квартал от запретной христианской улицы старого города. За стеной виден портал церкви. О, какое это жуткое зрелище! Мальчик любит заглядывать в таинственные темные впадины между статуями, в которых иногда вздрагивает резкий свет, словно от множества субботних свечей.
У Давида очень часто теперь приключается кровотечение из носа. Ему стыдно, он презирает себя, но не может устоять.
– Где ты пропадал столько времени? – встречает его Гиршль, который немедленно бросает своих учеников, громко читающих по складам, и запирает за собой дверь, ведущую в комнату, где происходит ученье. – Уже четыре дня, как ты пропадаешь бог знает где.
– Всего лишь три дня, – жалобно возражает ребенок.
– А тем временем старшина снова отклонил мое ходатайство. Большая школа получает дрова от общины, а я ничего не получаю. Ровно ничего. Хоть замерзни в эту жестокую зиму. Но, погоди, я когда-нибудь выступлю и разоблачу все злоупотребления. Разумеется, все двадцать семь старост голосовали как стадо баранов, и даже твой великий отец, этот безупречный ученый, покривил душой в деле бедняка.
«Не лучше ли мне уйти отсюда? – думает мальчик. – Нехорошее говорят здесь».
Но маленький прихрамывающий человек не выпускает своей добычи. Он схватил Давида за воротник и втиснул его в кресло. У него голова безумца, с вьющимися поседевшими черными волосами. Один глаз побольше, другой поменьше, и смотрят они пристальным, неподвижным взглядом.
– Как они пыжатся, эти старейшины. Можно подумать, что они не такие люди, как я или ты. Такое же самомнение, такие же страсти, такие же разочарования. Попробуй уколоть их, и они закричат. А потом будут утверждать, что пели великолепнее, чем наш кантор поет в день Всепрощения. Суета сует, говорит мудрец. Моль, летящая на свет. Если можно было слышать, как кричит моль, то раздавался бы великий вопль. Вот так вопят и люди. А назавтра все миновало, как будто никогда и не было. Но сегодня всякий считает свою судьбу столь важной, словно он один существует на свете.
У Давида мелькает мысль: а ведь Голодный Учитель говорит против себя. Но он не прерывает его. Стоит только вставить малейшее замечание, как Гиршль топает ногою и кричит: «Ты душишь мои мысли. Дай мне выговорить!» Давид восхищается этим неистовым человеком и боится его. Но своим детским умом он уже постиг, что маленькими и небрежно брошенными замечаниями Гиршля можно направить в любую сторону. Следует только выжидать, тихонько сидеть и ждать с широко раскрытыми глазами – потому что пока еще Гиршль говорит не о том, что надо. Правда, на молодой ум опьяняюще действуют уже одни его сравнения и его рассуждения, а еще больше – тот пыл, с которым все это выбрасывается наружу, в полном противоречии к спокойному достоинству, к которому Давид привык у отца. Но не ради этих ораторских приемов пришел он сюда. Он выжидает. Спокойно слушает возбужденного человека, которому не перед кем свободно излить накопившуюся годами желчь и который счастлив, что нашел, наконец, слушателя.
– А наш рабби, этот знаменитый человек! – кричит Гиршль. – А чем, спрашивается, он знаменит? Ты знаешь чем?
– Да, вы мне уже часто рассказывали про это.
Но Гиршль не обращает внимания на его ответ.
Такая уж у него особенность, что он постоянно повторяет одни и те же истории, одни и те же остроты. И совершенно не обращает внимания, когда ему говорят, что уже слышали это.
«Он готов говорить со стеной, – думает ребенок. – А разве я для него больше значу, чем стена?» И хотя он еще не в состоянии разобраться в этом ощущении, но все же он чувствует, как тягостно и непристойно такое унижение слушателя, которое позволяет себе его слишком говорливый собеседник.
– Наш рабби Исаак Марголиот известен как сын великого Якова Марголиота из Нюрнберга. А почему считался тот, да будет благословенна его память, великим во Израиле, столпом изгнания? Потому что он однажды получил письмо от Рейхлина. Рейхлин просил его прислать ему каббалистические сочинения, а старик отказался, на том основании, что нехорошо глазу смотреть на яркое сияющее солнце. По-моему, это грубость. Но тем не менее, наш рабби сын знаменитого отца – правильнее бы сказать, сын знаменитого письма.
Гиршль не смеется, но тяжело дышит через ноздри. Теперь Давид пользуется благоприятным случаем.
– Всего одно только письмо. Да разве это так много. Ведь вы же сами…
– Одно письмо! Я получил двадцать, даже тридцать писем от христиан. Разве не переписывается со мной г-н Венцель Альбус фон Урац, старший шефен старого города и магистр высшей школы, разве не советовался со мной его светлость Богуслав Лобковиц фон Гасистейн по поводу еврейского слова, которое он хотел вставить в один из своих дистихов? Да, там, за стеной меня знают, а собственные сограждане смотрят на меня, словно перед ними осколок стекла. А в свободной прекрасной Италии обо мне говорят у тех евреев, которые являются подлинными гуманистами, а не такими темными людьми, как старшины совета. Ты ведь видел у меня копию географии Абрагама Фарисоля? Этот ученый человек, пользующийся милостью герцога д’Эстэ, послал мне ее по моей просьбе. А вот я покажу тебе, когда ты будешь постарше, мою корреспонденцию с Йозефом бен Иосуа Гакоген, лейб-медиком дожа Генуи. Он обещал мне также прислать свою историю правителей Франции и Турции. А также свою книгу «Долина слез». И, наверно, пришлет, когда закончит это произведение.
– А что в этой «Долине»? Об этом вы еще никогда не рассказывали, – спрашивает Давид, который, наконец, привел возбужденного человека туда, куда хотел.
Дело в том, что при всей своей раздражительности и мелочности Гиршль – ученый, сведущий человек. Он много знает о новых странах: и островах, которые были открыты другими народами в их морских путешествиях, о которых в гетто проникали только смутные, непонятные легенды. Он рассказывает также о грандиозных происшествиях из прошлого этих народов, он знает их жизнь, их нравы. Вот это именно и влечет мальчика в полуразвалившуюся жалкую хижину на окраине еврейского города. Здесь он навостряет ушки и часами с радостью слушает всеми преследуемого мудреца, который тоже часами готов рассказывать без умолку.
«Сократ, – думает мальчик. – Таким был Сократ». Дело в том, что Гиршль как-то рассказал ему о Сократе, жившем среди народа «евоним», то есть греков. А разве Гиршль не так же мужествен и непоколебим, как древний философ? Он остался независимым, никогда не поддавался соблазну со стороны общинного старшины, который требовал от него отказа от грешных занятий и взамен обещал хорошее место. Нет, Гиршль предпочел остаться холостым, отказался от хорошей невесты. Он часто рассказывает об этом мальчику, не обращая внимания на то, что тому мало понятны такие лишения и что его больше интересуют другие подробности борьбы, например, отлучение, которое было произнесено над Гиршлем в синагоге, при погашенных свечах. Потом это отлучение пришлось снять без его просьбы, ибо его добродетельный образ жизни выяснился для всех. После этого Голодный Учитель много лет подряд питался только хлебом и яблоками. Но не пал духом, несмотря на кличку, которую ему дали, и несмотря на свою тяжелую бесплодную профессию. А когда у него дела шли хоть немножко лучше, он только и знал, что покупал книги и копии документов… Все исключительно по собственному вкусу. Эта твердость пленяет мальчика не меньше, чем пестрое знание, которое его так манит в этом человеке.
– «Долина слез», – говорит Гиршль, – как я уже сказал тебе, еще не закончена моим другом. Он описывает там все преследования, которым подвергались евреи, начиная с разрушения храма и кончая преступным изгнанием их из королевства Аррагонии и Кастилии десять лет тому назад, – изгнанием, которое коснулось самого великого человека, а вместе с ним и многих тысяч наших братьев. Всякий, кто прочтет это произведение, – пишет он мне, – будет поражен, и слезы польются из глаз его. И, положив руку на чресла, он воскликнет: «Доколе же, господи?» Но Израиль говорит вместе с псалмопевцем: «Я не умираю, я живу и во все времена прославляю чудесные подвиги». А я, реб Гиршль из Тахау, добавляю еще: и во все времена провозглашаю о деяниях тех диких зверей, тех народов, которые грешили своей кровожадностью в отношении меня.
Его сероватые глаза затуманиваются выражением ненависти.
– Разве они не поступали с ним как звери? Но у нас остается одно утешение: они и между собой вели себя как дикие звери. Разве они люди? Поди сюда, дитя мое, я прочту тебе еще из этой хроники о французских правителях. Поди и посмотри, какие это звери. Я расскажу тебе о Хлодвиге и Фредегунде или прочту тебе о войне Алой и Белой Розы и о всех тех позорных деяниях, от которых стынет кровь.
– Не надо читать, рассказывай, рассказывай. Я прочту потом сам, когда ты будешь заниматься с учениками, – умоляет Давид и садится на скамеечку для ног в самом тесном уголке комнаты. Причем тут же, немедленно, словно про запас, забирает как можно больше книг и рукописей, которые пачками лежат на ящиках и досках во всех углах комнаты. Большинство этих книг Давид уже успел проглотить в своей неутолимой жажде чтения, потому что под руководством Гиршля он научился разбирать языки христиан. Но он не может достаточно ими насладиться. И пока Гиршль говорит, – а Давид слушает его внимательно, – его глаза уже блуждают по драгоценным вещам, которыми он овладел. Это гравюры на дереве – на одних изображены люди с собачьими головами, торгующие перцем и мускатными орехами, на других одноногие люди, которых путешественник видел у африканских берегов, или вот листовка, принесшая первую весть о Колумбе: как король испанский снаряжает два корабля для Христофора Колумба, чтобы отправиться в восточные страны. У мальчика закипает кровь. Почему он не мог отправиться с этим героем, почему он не присутствовал, когда корабли застряли на отмелях или когда на утреннем рассвете с вершины мачты раздался крик: «Земля, земля!» и вслед за этим было заряжено орудие и загрохотало над холодными одинокими гребнями волн, устремлявшихся к берегам острова. А времени так мало. Уже становится темно, вечером надо быть дома, в спокойном чистеньком жилище отца. А здесь, где так много можно услышать, где так много есть чего почитать и увидеть, здесь двумя, самое большое – тремя часами исчерпывается его время на целую неделю. Чтобы использовать его, он готов одновременно и читать и слушать рассказы Гиршля. Напряжение огромное, маленькая головка работает сотней тысяч колесиков. Он прислушивается – и если он при этом может прочитать хотя бы только начальные слова главы, он уже вспоминает все ее содержание. Иногда он улыбается, когда учитель, бурно шагая по комнате, громовым голосом описывает ужасные пытки. Но улыбка относится к той паре кроликов, которых португальцы привезли на остров Мадеру и из-за которых они вскоре должны были очистить недавно основанную колонию, – потому что бесчисленное потомство одной этой парочки пожирает все, что люди сеют и сажают. И среди этой зародившейся улыбки мальчика охватывает холодящий ужас. Гиршль доказывает низменность «этих властелинов», цитируя наизусть распоряжение о пытках миланца Бернабо Висконти: «…в течение сорока одного дня надлежит постепенно усиливать муки, начинать надо с пяти ударов, а кончать распиливанием отдельных членов тела и осторожным раздроблением всего тела снизу доверху, при помощи колеса. После нескольких дней пытки надлежит пропускать один день, для того, чтобы жертва не умерла преждевременно». Этим законом тиран принуждал своих граждан к спокойствию и повиновению.
– Вот каковы эти правители, в распоряжение которых мы отданы, как беззащитные овечки! – восклицает Гиршль голосом, которого никак нельзя предполагать в его изможденном маленьком теле. – Нет такого порока, которому они не предавались. Праведник и пророк, появившийся среди них, по имени Савонарола, осыпал их проклятиями и жалобами, прежде чем они его сожгли. Книгами дьявола называет он их священников, книгами, в которые дьявол вписал всю свою злобу. Да, все ужасы Вавилона, распутство, жестокость процветают там. Убийства остаются безнаказанными, яд и кинжал вершат все дела, уста полны сладких, соблазнительных речей, а рука жадно хватается за все злое.
– И все-таки они… эти народы, – мучительно сознает ребенок, – и все-таки эти народы именно теперь совершили великие открытия. Почему же это так: мы, евреи – ничего, а они – все?
– Не прерывай меня, дай мне закончить хоть одну фразу! – кричит на него учитель.
Мальчик немедленно умолкает, но с самим собою он продолжает говорить: «Они отправляются в Новую Испанию, в страну Ципангу, они привозят золото, пряности, они расширяют свои владения, они отдают приказы самым отдаленным нациям, они сооружают грандиозные здания, возвещающие их славу и блеск, они счастливые, их любит Бог, а не нас, не нас. Мы остаемся пленниками римского императора, слугами его налоговой палаты, а жилища наши черны и крохотны, мрачны, как темницы и пещеры».
Маленький Давид плачет. Уже не впервые случается, что он доходит до такого возбуждения. Он почти всегда возвращается от Гиршля в лихорадочном состоянии.
Но Гиршль ничего не замечает. Охваченный пылом, он красноречиво громит христианство, а также заодно – богачей из еврейской общины, которые его преследуют. Ничто не может устоять перед его гневом. Он единственный человек, который никогда не совершил ничего дурного, никогда мухи не обидел. Он человеколюбив и ко всем приветлив.
Гиршль тяжело переводит дыхание и опирается о полку своей библиотеки, он кажется большой мухой, усевшейся на корешках книг И в то же время, кажется, этими книгами как бы охватывает весь мир, для которого издает законы и правила нравственности.
– Может быть, те народы оттого так могущественны и любимы Богом, что они служат Богу также и дурным побуждением? – тихо говорит Давид дрожащим голосом.
Гиршль его не слушает. Он повернулся лицом к окну и смотрит в пространство. Лицо его исказилось, он подымает палец, прикладывает его к уху… Да, действительно так, – там, перед домом, где отпущенные из школы дети шумно играли, у городских ворот и у начала чужой улицы сразу все стихло, так жутко стихло. Уже слышно, как дети бегут по лестнице в соседнюю комнату, а издали с улицы доносится тихое пение.
– Окна закрыты?! – кричит Гиршль, шумно распахивая двери в комнату, где сидят школьники.
И он ковыляет туда – и не только смотрит, хорошо ли закрыты окна, но еще заставляет ребятишек встать у стены, противоположной окнам, тихонько в ряд и не шевелиться.
С улицы раздается хорал. Развеваются церковные хоругви, мальчики идут с зажженными свечами и кадильницами а за ними большая толпа народа. И среди нее священник, несущий святые Дары. После того как однажды при таких обстоятельствах возник слух, что еврейские дети осыпал песком Святые Дары, когда их несли мимо стены к тяжело больному, – этот слух вызвал нападение на гетто, причём было убито несколько тысяч евреев, – с тех пор по строгому приказу еврейского общинного совета все окна, выходящие в христианский город, должны запираться, и все прилегающие улицы и ворота должны быть очищены, как только к ним приближается священник с процессией.
Гиршль, который только что был судьей всего мира, дрожа всем телом, присоединяется к своим ребятишкам, – делает знаки Давиду, не ушедшему от окна, прислушивается к пению хора, к перезвону серебряных колокольчиков, к постепенно затихающему звону колоколов.
Он так запуган, что пинками заставляет детей стоять у стены, хотя уже на улице давно все затихло.
Давид смотрит на него широко раскрытыми глазами, ему стыдно за учителя. Ах, если бы у него была хоть одна капля крови этого Хлодвига, этой Фредегунды, хотя бы одна вспышка упорства Висконти! Как бы это украшало учителя. А тут такая трусость!
С раскрасневшимися от стыда щеками, со слезами на глазах, Давид убегает домой. Гиршль совсем ослаб, против обыкновения он даже не удерживает гостя за рукав.