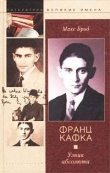Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
VII
В тихом маленьком саду Бельведера, между цветущими апельсинными деревьями, которые так ярко сверкали в лучах весеннего солнца, что заслоняли блеск расставленных в разных местах мраморных статуй, Реубени, в сопровождении кардинала Эджидио, ожидал выхода папы. Весь длинный путь от Дамазова двора в Ватикане они шли мимо незаконченных построек, мимо колоссальных зданий Браманте, площади для турниров и парка. Все это только еще воздвигалось. Может быть, папа хотел показать своему гостю грандиозные проекты, выполнением которых он был занят, по примеру своих предшественников на папском престоле? Хотел поразить ими как показателем своего величия? Но Реубени едва взглянул на них. Задумчиво опустив голову, он следовал за кардиналом. И только здесь, в тиши сада, он осмотрелся по сторонам. В нише, которой заканчивалась тенистая аллея, стояло чудо мира – группа Лаокоона, найденная лет двадцать тому назад среди раскопок. Искаженные мучительной болью черты Лаокоона привлекли внимание сара. Он подошел к статуе и долго ее рассматривал.
– У этого человека хватило мужества пойти против своего Бога! – сказал Реубени, обращаясь к кардиналу.
– И ведь он был прав, когда швырнул копье, – улыбнулся кардинал. – И тем не менее его обвили змеи.
Сар оставался серьезным, и казалось, что на его почерневшем, худом, изможденном лице отражается бледный отблеск боли, испытываемой Лаокооном.
– Это неизбежный риск. Следовало бы эту группу отлить и поставить в комнате каждого политического деятеля.
Кардинал приложил палец ко рту.
Приоткрылась тайная дверца – единственная, которую непосредственный предшественник папы, северянин и враг язычников Адриан оставил незамурованной вокруг этого двора, наполненного, по его выражению, «идолами». Ничто так мало не соответствовало настроению нынешнего папы, как это трусливое замуровывание всех выходов. Но за короткое время своего правления он был обременен тяжелыми заботами и еще не успел отменить все мрачные мероприятия, которые делали Адриана непонятным и нелюбимым у веселого населения Рима.
Папа был одет в простой белый плащ. Это был красивый представительный мужчина, уже не тот юноша с умным, несколько любопытным взглядом, которого нарисовал Рафаэль.
– Вы – первый воинственный еврей, которого я вижу, – непринужденно начал папа. – И я еще не могу вполне уяснить себе, какое чувство это во мне вызывает. До сих пор я всегда считал одним из ваших преимуществ, что вы живете совершенно мирно, без оружия, и ожидаете дня пришествия пророка, когда лев и ягненок будут пастись рядом и дитя будет сторожить их, а лев будет питаться травою, как домашний скот.
Климент улыбнулся. По-видимому, он не мог вполне освоиться с представлением о льве, питающемся травою. Греческий или римский автор не допустил бы такой безвкусицы! Явно развеселившись, он продолжал, причем его веские слова не вполне согласовывались с улыбкой, игравшей на его лице:
– Я всецело исполнен желания стремиться к царству мира, которое нам предсказано, – я хочу дать мир всему свету. Весь свет жаждет мира. А между тем, из лона земли, недовольной множеством кровожадных деяний, которые и без того совершаются, выходят все новые воинственные племена. Теперь вот с неведомого Востока, откуда раньше вторгались татары, сельджуки и другие завоеватели, собирается выступить еврейская армия.
Реубени попросил кардинала передать, что и он признает конечной целью политику всеобщего мира и всеобщей любви, как этого требуют пророки. Но любовь не овладеет сердцами, пока один народ, рассеянный среди других, как это имеет место с евреями, несет на себе чужеземное иго и всеобщую ненависть. Италия переживает то же самое. Она почти беззащитна перед вооруженными до зубов великанами. Но беззащитность означает: терпеть ненависть и, в свою очередь, испытывать ненависть и тем самым усиливать взаимное раздражение среди народов и все больше оттягивать наступление царства мира.
Папа с живостью прервал его.
– Во всяком случае, ничто не могло бы так способствовать примирению борющихся великанов, как ваше сообщение, князь. Армия в пятьдесят тысяч человек, выполняющая давний план пап крестового похода в Святую землю и гарантирующая успех этому начинанию, сразу направила бы взоры всех против великого врага христианства и Европы, с которым мы до сих пор могли бороться только хорошими проповедями и некоторым количеством, уже не столь хороших, венецианских кораблей. Мое предложение императору Карлу и королю Францу, чтобы они заключили мир и обратили силы против Солимана, сразу перестало бы быть простым предложением, а имело бы за собой армию. А только армия решает дело.
Папа встал и сделал несколько шагов. Затем он повернулся к Реубени. Лицо его оставалось еще по-прежнему приветливым, но приняло то выражение хитрости, соединенной с умом, свободным от предрассудков, которое дало основание императорскому посланнику писать в своем донесении из Рима, что «этот первосвященник – самый скрытный и загадочный человек в мире».
– Все равно, преувеличиваете вы или нет… – сказал папа и сейчас же остановился, словно желая подойти к вопросу с другой стороны. – Я сам достаточно долго был легатом, чтобы знать, что вполне допустимо не только распространять неверные сведения о силе противника, но также изображать в возможно лучшем свете силы своей собственной страны. И если даже допустить самое крайнее: что ваше царство Хабор совсем не существует, – он подошел ближе и в упор посмотрел на сара, – то уже один слух о нем мог бы иметь для нас благотворное значение и мог бы дать другое направление всем воинственным намерениям.
Воспоминание о той опасности, которой он сам подвергался, снова придало взору папы некоторую мягкость.
– Я, конечно, не допускаю такой для нас маловероятной возможности, но даже и в этом случае вторая часть вашего проекта являлась бы вполне честным предложением: вооружить европейских евреев, отправить их воевать к берегам Святой земли либо в соединении со вспомогательной армией на Востоке, которая должна напасть на турок со стороны Аравии, либо без этой вспомогательной армии. Как бы то ни было, мы готовы передать ваше предложение тому европейскому двору, который меньше всего запутан в европейских распрях и который поэтому в состоянии с наибольшими шансами на успех осуществить такое морское предприятие. Мы имеем в виду португальский двор, посланник которого, дон Мигуэль де Сильва, как раз недавно был принят нами и передал нам сердечный и почтительный привет от своего короля.
Во время лукавой речи папы, которую кардинал Эджидио переводил ему пункт за пунктом, Реубени сидел неподвижный и холодный как лед. Затем он попросил повторить ему последние слова, сказанные папой. Потому ли, что он сначала не совсем ясно их понял, или потому, что он их понял очень хорошо и именно ввиду их важности желал установить их подлинный текст. Во всяком случае, он ответил только на эти заключительные слова. Сомнений папы в подлинности его миссии он совершенно не коснулся, словно они были недостойны его и даже совсем не были высказаны. Предложение папы направить его к королю Иоанну португальскому, сказал он, вполне соответствует намерениям его брата, царя Иосифа, равно как и его собственным желаниям. Его благодарность была выражена в лаконической и законченной форме; она давала возможность вежливо закончить беседу.
Но папа, по-видимому, совершенно не собирался прекращать на этом разговор. Он кивнул головой сару, который уже собирался подняться, и взял его за руку:
– Еще одно обстоятельство, которое побуждает меня обратить на ваше предложение внимание именно португальского короля. Дон Мигуэль привез мне из Лиссабона не только выражение преданности, но также и просьбу и жалобы своего повелителя: жалобы на вас, евреев, или, вернее, на новых христиан, которые приняли крещение при короле Мануэле.
Реубени впервые утратил свое спокойствие и прервал речь папы, попросив кардинала перевести его возражение.
– Они приняли крещение не добровольно, их заставили, силой затащили в церкви, – мы поэтому называем их «анусим», то есть действовавшие по принуждению.
Климент, видимо, хотел поскорее миновать этот пункт. Он сделал широкий жест, как бы отмахиваясь, и стал снова воплощением философа, свободомыслящего и благородного человека.
– Я знаю, чего стоит такое крещение. По моему распоряжению, епископ Коутинго в Лиссабоне оправдал маранов, которых за соблюдение вашей Субботы и Пасхи и других еврейских обрядов обвинили в еретичестве и отступничестве от христианской веры. Он просто объявил их евреями. Такие же мараны, да еще похуже, живут невозбранно в моей пограничной области, в провинции Анконе, а также и в самой столице. Мы стремимся к обращению души, а не к порабощению тела. Другой образ мысли не соответствовал бы нам, ибо мы стремимся восстановить академию Платона, озаренную светом веры. Но не в этом дело. Несомненно, что среди окружающих короля Иоанна есть люди, одаренные богатым умом и сильной волей, которые держатся иного мнения, нежели мы. А в делах политики, в конечном счете, решает не то мнение, которое правильно, а то, которое хорошо вооружено. Так выслушайте меня: посланник дон Мигуэль жаловался, что в его стране приобретает большую силу притворное христианство, и для того, чтобы, по образцу Испании, в корне истребить эту «чуму», как он выражается, он и вместе с ним король Иоанн желают, чтобы мы распространили на Португалию деятельность Святой инквизиции, действующей в Испании. Три инквизиционных трибунала должны быть учреждены – в Лиссабоне, Эворе и Коимбре. Нет надобности добавлять, что это означает для маранов больше трех тысяч, а может быть, и все тридцать тысяч костров. Поэтому, может быть, ты ускоришь свою поездку в Португалию для того, чтобы помочь твоим братьям? Если король Иоанн примет в качестве союзников еврейское войско, то ему уже нельзя будет одновременно требовать введения у себя инквизиции.
– Ради этого я не ускорю своей поездки в Португалию даже на один день, – заметил Реубени, и холодное, почти оскорбительное равнодушие, с которым он теперь говорил, резко противоречило той страстности, с которой он прервал папу, когда тот заговорил про маранов. – Правда, я нахожу намерения португальского короля несправедливыми, но не для того я приехал из царства Хабор, чтобы отстаивать права отдельных евреев или какой-нибудь части еврейства. Мой король и совет семидесяти старейшин послали меня не для того, чтобы провозглашать заветы кротости и милосердия. Я воин, и я несу с собою оружие. Со своей стороны, я требую тоже оружия для того, чтобы пополнить военное вооружение моего народа. Но я понимаю, что ни Франция, ни император не в состоянии дать ни одной пушки, ни одного человека, так как близко последнее решение в их споре между собою. По этой, а не по какой-нибудь другой причине я следую совету вашего святейшества, когда вы предлагаете мне обратиться к лиссабонскому двору.
Этот гордый и сдержанный ответ, по-видимому, понравился папе больше, нежели все, что было сказано до сих пор.
– Правильно! Это ново и необычно, но это правильно! – восклицал он после каждой фразы, которую переводил кардинал. – Вы стремитесь к большему, нежели обыкновенно считают возможным ожидать от евреев, – сказал он. – Они обычно вопят о милосердии и о справедливости, а при недостатках, свойственных человеческому разуму, эти вещи обыкновенно совпадают. Но вы хотите другого. Я вас понимаю. Вы стремитесь к военному и политическому влиянию, вы стремитесь к той действительности, которая всегда повелевала государствами, хотя только наше время выдвинуло исследователя и правдивого изобретателя этих действительных законов властвования. Я имею в виду нашего слугу Николо Макиавелли.
Папа пришел в большое возбуждение. Лакеям, принесшим прохладительные напитки, он сделал знак, чтобы те не мешали. Во время своей оживленной речи он невольно пришел в движение, и остальные оба должны были последовать за ним. Три фигуры, две в ярко-белом одеянии и одна в пурпурно-красном, спускались по террасам ватиканских садов. Но за внешне любезной беседою папы скрывалось страстное желание убедить, и от внимательного наблюдателя не могло укрыться, что за гладким лицом, лишенным морщин, таятся скрытые заботы и хитрость. Был ли Реубени внимательным наблюдателем? По его лицу этого нельзя было заметить. Оно оставалось неподвижным, темные глаза глядели тупо, взором, обращенным внутрь. Вся его фигура сохраняла мертвенное спокойствие. Могло показаться даже, что душа этого человека витает где-то в другом месте, что она ушла куда-то вдаль, замкнулась там и предается покаянию.
– И вот видите, – сказал Климент, – от этих законов властвования португальская инквизиция не так далека, как это кажется. Вы сами указываете на Португалию как на единственную великую державу, которая в этой войне еще сохранила нейтралитет. Между тем, инквизиция означает торжество Испании. Ведь именно испанская партия при лиссабонском дворе стремится зажечь костры, а в какой мере преобладание Испании может усилиться, благодаря сначала духовной, а затем дипломатической близости с португальским двором, в этом вы убедитесь, если узнаете последние вести, которые мне доставили из Ломбардии.
Реубени знал их, хотя они были доставлены всего лишь накануне спешной папской почтой. Он всегда был самым тщательным образом осведомлен о делах людей, с которыми ему приходилось вести переговоры, и постоянно пополнял свои сведения новыми донесениями. Он мог поэтому свободно обсуждать с папой отступление французов из Ломбардии. Папа вскоре заметил, что Реубени не был удивлен ни сообщением о смерти французского героя Баярда, ни вестью о предстоящем вторжении императорских войск в Прованс. Звезда Испании восходила, в этом нельзя было сомневаться. «А победитель вырежет ремни из нашей шкуры». Эти слова папы вспомнились сейчас посланнику.
Сразу уяснив себе это, он поклонился и сказал:
– Ради вашего святейшества я готов ускорить свою поездку в Лиссабон, насколько это возможно. Я понимаю, что много будет потеряно, если Португалия поддержит победоносную Испанию. Ваше святейшество не желает, чтобы Испания еще больше расширила свои владения, захватила еще больше итальянской территории, нежели она и без того имеет. Вы не согласны на это, даже если взамен император укрепит и расширит владения наследника святого Петра. Ваша курия со славой продолжает политику дяди вашего святейшества, великого Лоренцо Великолепного, – создание собственными силами свободной Италии на основе союза четырех главных государств: папского престола, Венеции, Милана и Флоренции. Это и побудило Великолепного дать в свое время иностранцу, который предложил ему свою помощь, следующий превосходный ответ: «Я еще не могу ради собственной выгоды подвергнуть опасности всю Италию».
Тем, что он упомянул о славном Лоренцо, cap, по-видимому, окончательно завоевал симпатии папы. Папа радостно пожимал ему руку. Он немедленно изготовит послание к Иоанну португальскому, а у португальского посланника будут затребованы паспорта для Реубени и его спутников.
Казалось, у папы явилась новая надежда, тогда как Реубени ни в чем не проявлял своего волнения, хотя он и достиг цели своих желаний. Климент указал на сверкающие башни Рима и сказал растроганным голосом:
– Прекрасная Италия! потребуется еще много труда, прежде чем мы освободим ее от варваров. Мне кажется, что действительно есть какое-то сходство между судьбой обоих наших народов, порабощенных чужеземцами, – между итальянским и еврейским народами. Сначала, когда ты заговорил об этом, сын мой, я, – прости меня, – счел твои слова несколько высокомерными. Но слеп тот человек, который не сознает своего несчастья и не признает его. Мы, итальянцы, гордимся нашим высоким образованием. Мы действительно является учителями всего мира, мы гордо показываем сокровища древности, которые в большом изобилии извлекаются из нашей почвы, из наших библиотек. К ним наши современные мастера стихосложения и древних языков, наши скульпторы и художники присоединяют чудеса искусства, не уступающие древним. Но на что нам вся наша наука, наш тонкий вкус, наше воспитание! И то же самое можно сказать и про вас, евреев! Ведь уже теперь Италию подчиняют себе французы и немцы, с более грубыми головами, но с более сильными кулаками, подчиняет гениальная военная организация испанцев, а главное – их золото, которое в неисчерпаемом количестве вливается в их страну из недавно открытой Океании. Вот они, подлинные силы, против которых надо бороться не изящной культурой и искусствами, а жестокой войной не на жизнь, а на смерть. – Папа, который до сих пор уверенно и красноречиво излагал свои мысли, вдруг остановился. – Рим прекрасен, но что с ним станет, если враг ворвется сюда и зажжет пожаром все, начиная с моей виллы на Монте-Марио до замка святого Ангела и Порте ди-Нона, если пронесется с грабежом по всем улицам, по всем дворцам…
На все эти слова, которые больше могли заинтересовать художника и мыслителя, нежели политика, Реубени ничего не ответил.
А папа видел мысленно Рим, гибнущий в кровавом пламени. И, словно не желая отдаться этому ужасному видению, он пошел назад по ступеням террасы. Птицы тихо насвистывали свои песни над озаренными светом деревьями и оранжереями – жалобные песни весны.
– Странно, мы оба стремимся к установлению мира на земле, – сказал папа, – почему же мы все это время говорили только о войнах? О войнах, которые велись раньше, и о новых войнах, которые мы собираемся вести.
Реубени, очевидно, считал такие размышления не относящимися к делу. Он выдавил из себя только слова:
– Потребуется еще много времени, прежде чем люди созреют настолько, чтобы обходиться без войн.
– А до тех пор чуткий, тонкий человек должен быть отдан на растерзание животному, которое ничем не стесняется, или должен сам стать животным?
Прежде чем войти через портал в сад Бельведера, Климент снова мягким, не способным к сопротивлению взором взглянул на далекий Рим. Казалось, он искал в его прочных стенах и великолепных куполах гарантии для будущего. Он покачал головой, словно желая прогнать невеселые мысли. И, наконец, повернулся спиной к великой картине, которая ничего не могла ему сказать.
В саду раздался громкий смех. Перед группой Лаокоона, положив руки на живот, корчился от смеха какой-то придворный; лицо его исказилось в гримасу, и он оглушительно хохотал. Перед ним стоял в непринужденной позе человек высокого роста в рыцарской мантии, обрамленной мехом. У него была большая борода, высокий лоб, но полное отсутствие аристократизма в чертах лица: его безобразили нос картошкой и огромный рот с толстыми выпяченными губами. Как только смеявшийся заметил папу, он моментально затих. Другой, что-то рассказывавший, тоже умолк. Оба они опустились на колени.
Лицо папы просветлело, когда он увидел человека в рыцарской одежде.
– Аретино! Какой же новой шуткой ты привел в такое состояние одного из самых невозмутимо-торжественных капитанов моей гвардии?
– Ваше святейшество, это было сказано всерьез, а не в шутку. Этот несчастный мраморный старик, – он указал на Лаокоона, лицо которого выражает бессилие и боль, – живо напоминает мне старого толстого прелата, которого я вчера наблюдал в скважину стены в комнате, когда он был у моей Нанны. Эта добрая девушка, несомненно, мастерица своего дела. Но с этим старым козлом…
– Пьетро! Вы снова хотите из-за своей болтовни лишиться только что дарованного вам помилования?
– Я как раз пришел поблагодарить за него. Я спешил приветствовать первые утренние лучи солнца, которое снова взошло для меня.
– Вы не заслужили помилования, сонеты ваших «позиций» не только грязны, но и скучны, и язык у них скверный.
Хотя слова и лицо папы выражали отвращение, он тем не менее оставил своих спутников и, словно убегая, пошел рядом с быстро шагавшим Аретино.
– Ваше святейшество знает, что я не грамматик. Я люблю тот язык, на котором говорят на улице, и презираю ученый хлам, собранный из старых полуразбитых надписей. Правда, в наше время без знания этого хлама уже не решаются пожелать друг другу доброго утра и спросить, сколько стоит фунт артишоков.
– Ты щеголяешь своим невежеством, я никогда не одобрял этого. Вот такой образ мыслей и порождает твои непристойные и пошлые стихи, которые возбуждают к тебе ненависть всех благородных душ.
– Но эти стихи, – бесцеремонно прервал его Аретино, – оказались весьма полезными, когда я их вывесил на «пасквино» для осмеяния всех остальных кандидатов на папский престол и для избрания вашего святейшества.
Папа рассмеялся.
– Это верно, ты был и останешься «Aretino il veritiero», хотя Божественным я тебя не желаю назвать.
– Если ваше святейшество называет меня правдивым, то не могу ли я из этого сделать вывод, что и это платье на мне не является ложью, хотя до сих пор я носил его, не имея на то права, а сегодня одел только от радости по поводу моего помилования.
– Пожаловать тебя званием рыцаря? – Папу, по-видимому, не рассердило это бесстыдное попрошайничество, он только задумался. – У моего брата Льва в рыцарях были шуты и юродивые! Рыцари Рима, которые будут защищать его от врагов и пожара! Но, пожалуй, те две канцоны, которые ты прислал мне вчера, заслуживают большего, нежели простое прощение. Огромное у тебя дарование, Аретино. Только объясни мне, как могут из одной и той же головы выходить такие возвышенные и святые строфы и в то же время такие отвратительные и глупые сонеты?
– Сонеты я писал к глупым картинам Джулио Романо, такого же бабника, как я сам, а канцоны вдохновлены самым значительным и величественным образом, который я когда-либо видел, – вами самими, святейший отец, которому я почтительно предлагаю, как наместнику Христа на земле, примирить враждующих королей и воюющие государства и, ставши во главе их, пойти походом на турок.
– Да, верно, в этих канцонах говорилось о походе на турок!
Это напомнило Клименту о Реубени и кардинале, которые остались у группы Лаокоона. Ему не хотелось продолжать с ними беседу. Он отпустил их жестом. Но зато речи Аретино, смесь дерзости и неумеренной лести развлекали его. Их можно было слушать одним ухом, и всегда среди них попадались меткие, веселые замечания. К тому же развлекало не столько содержание болтовни, сколько ее свежесть и неисчерпаемость, что свидетельствовало об удивительной жизненной силе, таившейся в этом человеке. Эта переливающаяся через край сила и уверенность сообщалась другим, и она была почти что необходима такому сдержанному и трезвому человеку, как Климент. Это было хорошим противоядием против печального настроения, в которое обычно повергали его беседы на политические темы. Удивительно, насколько можно было по-разному изобразить одно и то же дело. Этот поход на турок, объединение монархов, все это казалось серьезным, жестоким, почти безнадежным делом, когда об этом говорил еврейский посол, а в обработке Аретино получалась изящная, легкая и приятная канцона.
Папа слегка наморщил губы: разве философы не учили сомневаться во всем? Он улыбался мудрой усталой улыбкой – улыбкой, которая уходила куда-то вдаль, минуя шутника, но которую тот мог принять как одобрение всем своим смелым выходкам и как поощрение к дальнейшему злословию.