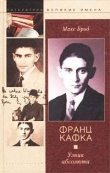Текст книги "Реубени, князь Иудейский"
Автор книги: Макс Брод
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
VIII
Несколько недель спустя мать ему говорит:
– Только что была здесь дочь кузнеца, – сказала, чтобы ты пришел сегодня после обеда. Заказанная работа готова.
Шутит мать, что ли? Но она совершенно спокойно, с улыбкой, добавляет:
– Вот как ты стал интересоваться делом. С чего это вдруг?
Давид хочет убежать к отцу в его комнату, где тот сидит за учением. Неужели мать в союзе с его врагами? Но когда она бросает на него ласковый взгляд: «Какой ты стал прыткий», ему становится ясно, что она сама стала жертвой обмана. Ее обмануло это хитрое, злое дитя, которое заманивает его на кузницу, чтобы снова сыграть с ним злую шутку.
– Хорошо, я пойду.
Ему стыдно говорить об этой хитрости и обо всем, что ей предшествовало. В сущности, следовало бы раскрыть ложь. Но ему уже некогда. И он старается успокоить себя: ведь не я же все это затеял.
– Ты пойди в кузницу «У лягушки на болоте», – говорит ему мать вдогонку.
Так, значит, она все-таки шутит! Правда, мать ведет дело с несколькими кузнецами. Но разве можно сомневаться, о ком идет речь?
Но стоило ему только двинуться в путь на свидание с коварной дочерью кузнеца, пройти несколько переулков от дома, как он почувствовал, что его ничто уже не может задержать в пути, и на душе у него стало легко и весело.
Падает легкий и теплый дождь. Может быть, это дождь гонит его так, что он еле переводит дыхание. Ему хочется скорей обсушиться где-нибудь под кровом. Улицы за воротами гетто пустынны, – они сегодня еще чище подметены, чем всегда. Лавки закрыты. Кое-где расфранченные люди забегают под деревья, чтобы укрыться от дождя. Деревья аллеями расположены вокруг площади старого города. Всюду раздается смех, пестрят яркие одежды с разрезами и фижмами. Сегодня воскресенье – день отдыха у христиан.
Большие ворота на кузнице закрыты. На мгновенье его охватывает разочарование. Но в это время в верхнем этаже приотворяется окошко, в которое кто-то смотрел. Это она сама.
– Я сейчас открою.
Моника впускает его в кузницу, которая совершенно пуста.
– Никого нет? – задает он глупый вопрос.
Девушка молча идет по двору. Ему остается только следовать за нею. К кому обратиться? Всюду кругом молчание, тишина. Неужели это тот же самый дом, тот же двор? В этом безмолвии все кажется иным, чем в шумные будни.
Под серым небом шевелятся от дождя деревья, покрытые, словно каплями, маленькими зелеными почками. Одно дерево уже все в белых цветах.
– Эта лестница ведет в мою комнату. Она как раз над кузницей. – Девушка указывает на витую лестницу. – Я провожу обыкновенно все время днем и ночью здесь. А теперь мы пойдем в другое здание – там мы все обедаем и живем. Только сегодня отец и мать ушли на церковный праздник в Порич, в деревню, и оба подмастерья пошли с ними.
Давид пересекает двор вслед за болтающей девушкой.
Почему она стала вдруг так болтлива, а раньше не ответила на его вопрос? Это один из ее секретов: иногда она почему-то так странно умолкает и только потом, некоторое время спустя, когда ей вздумается, отвечает на вопрос. Так было и при первой их встрече.
Он вспоминает об этом. И вдруг ему начинает казаться, что он уже знает ее очень давно и бесчисленное множество раз говорил с нею о самых важных предметах. Это смущает его, потому что в то же самое время она кажется ему какой-то чуждой. Она непонятна ему – и вместе с тем вот сейчас, например, она очень приветлива. В комнатке она усаживает его за стол у очага, в котором разводит огонь со словами:
– Скверная сегодня погода.
Она подает на стол хлеб и масло. Он отказывается.
– Я могу у вас есть только яйца, – робко говорит он, не желая ее обидеть.
Но она снова оставляет его слова без внимания. Она, по-видимому, совсем не собирается во что бы то ни стало угощать его. С напряженным ожиданием смотрит она ему в лицо. Еду она подала только потому, что так делает ее мать, из подражания старшим. Дитя! Но нет, она совсем не ребенок, почему она кажется ему ребенком? Правда, на лице у нее детская улыбка с четким рядом зубов под полными изогнутыми губами. И личико у нее такое маленькое и узенькое, какое он видел только у детей. У матери его тоже такое маленькое лицо, только оно сморщено от старости. Но ростом девушка выше его на голову. И какой она кажется ему стройной и тонкой, когда она приносит из угла комнаты два кувшина и ставит их на пол около стола.
– Вот твои кувшины, – говорит она. И снова ждет, так как он не проронил ни слова.
Слышен треск поленьев в печи. И другой, более слабый звук. Это дождь стучит в окно.
Девушка одета по-праздничному. Волосы у нее сегодня не распущены, а спрятаны под белым чепцом с золотой тесьмой. Только у ушей видны блестящие шелковые пряди туго заплетенных кос. Он задумчиво смотрит на ее белую шею, изящный платочек на груди.
Может быть, она заметила, что он стыдится своего грубого плаща. Она играет пальчиками по желтому кружочку, что у него на плече:
– Ты совсем промок, сними плащ.
Он закутывается плотнее.
– Ну, так возьми, по крайней мере, свои кувшины.
Он все еще боится, что она сыграет с ним какую-нибудь шутку, и боится также рассердить ее своими постоянными отказами. Поэтому он и не расспрашивает, в чем дело с этими кувшинами. Сейчас он даже не совсем уверен, что он их заказывал. Главное, он боится рассердить ее. Поэтому он придвигает ногою кувшины ближе к себе, словно об этом не стоит говорить даже.
– Ну, как, доволен ты? – спрашивает Моника совершенно естественным тоном.
Его бросает в жар от ее упорства и лжи.
– Доволен ты работой? – Она обернулась к нему и выражение лица у нее ласковое, – незаметно, чтобы она издевалась над ним.
У него такое ощущение, точно его поймали, уличили в уговоре с ней. Но он ни за что не хочет отказаться от этого безмолвного уговора – хотя и стыдится, так стыдится, что даже не может говорить. Глаза его теплятся благодарностью, которая давит его, не позволяет ему поднять глаз.
– А я недовольна тобой, – продолжает девушка легкомысленным тоном. – Ты остался мне должен. Во-первых, два поцелуя.
– Два? – вырывается у него.
– Значит, об одном ты знаешь? Это тот, который ты не принял, когда открыл мне замок и принес ящик.
Ему передается ее веселый тон. Вдруг все начинает казаться не таким опасным.
– Нет, – говорит он, – уже если кто остался должен этот поцелуй, так это ты, а не я.
– Это все равно. Если женщина остается должна поцелуи, значит мужчина упустил их. А потом тут еще есть второй поцелуй, насчет которого не может быть никакого спора. Я должна была его получить от тебя, когда помогла тебе вылезть из подвала. Помнишь? А вместо того я тебе его дала и ты даже не принял его. Значит, ты мне должен еще этот второй поцелуй.
«Как это все туманно – очень сложный казус», – мелькает у него насмешливая мысль. Никогда ему не приходило в голову, что о такой шалости, как поцелуй, можно размышлять и говорит с таким же глубокомыслием, как о каком-нибудь изречении в Талмуде. А ведь по этой части он силен.
Девушка перенесла борьбу в такую область, где он сильней ее. И вдруг он чувствует, что он в состоянии справиться с ней. В сознании, что она ничего не может ему сделать, он даже решается на ироническое замечание:
– Во всяком случае, речь может идти только об одном поцелуе.
– Почему?
– Потому что все поцелуи одинаковы.
И гордый своим превосходством, он смело и спокойно рассказывает ей историю о бедняке, который принес сыну своему одну вишенку и сказал: «Все остальные имеют такой же вкус». Он рассказывает так, как рассказывают у него дома. Весело покачивая головой, нараспев и растопырив пальцы; это подчеркивает острые словечки.
Когда он кончает свой рассказ, она щелкает его по носу.
«Вот тебе и похвала», – с изумлением думает он. Дома говорят обыкновенно в таких случаях «очень хорошо» или, что является еще лучшим знаком одобрения, сейчас же рассказывают другую подобного рода историю.
А эта дикая девчонка просто сует ему под нос два пальца – два ужасных пальца с когтями.
– Насчет вишен, – смеется она, – это, может быть, и так, но с поцелуями дело обстоит иначе, и это я тебе сейчас докажу.
– Каким образом? – неосторожно говорит он.
– Вот, например, первый поцелуй, который ты остался должен.
Она обхватила его. Он терпеливо принимает это как урок. Да, вот так целует мать вечером, когда он ложится спать.
– А вот второй поцелуй.
Он такой неожиданный, что Давид почти теряет сознание. Этому второму поцелую нет конца. Все тело ее устремилось к нему и целует его. Она сидит у него на коленях, прижалась к груди. Ему кажется, что она растекается по его лбу, по щекам. Нет возможности уйти от ее дыхания, которое, как аромат цветов, сливается с его собственным. И лицо ее вдруг стало таким бледным, торжественным, серьезным. Он едва узнает ее, когда она, наконец, отводит губы от его рта и снова начинает осыпать его бесчисленными поцелуями.
– Тебя лихорадит, – шепчет она ему в ухо, – ты дрожишь от холода. Подойди ближе ко мне!
Он уже не может, не хочет бежать. Он совсем обессилел. На глазах его выступили слезы, которые она стирает быстрыми поцелуями. Слезы снова появляются, и снова она их снимает своими поцелуями, словно прикладывает лекарство.
В течение нескольких минут она не произносит ни слова.
И вдруг, продолжая сидеть у него на коленях, она ударяет острым носком башмачка по кувшинам и говорит:
– Я выбрала кувшины, чтобы тебе не тяжело было нести.
Вот их молчаливый уговор!
У нее нет злых замыслов против него, слова ее звучат так тихо и так мелодично, как песня, которую она пела, когда он увидел ее в первый раз. У нее нет никаких дурных мыслей. Она подумала даже о том, чтобы ему не пришлось нести тяжелой ноши, если ее умно задуманный план увенчается успехом.
– Ты хорошая, – тихо говорит он. Он перестал бояться ее, впервые он отвечает на пожатие ее руки, которой она его обнимает. Он целует полуоткрытые мягкие губы, которые она ему подносит.
«Неужели я попался в западню? Вот сейчас она засмеется». Но она не смеется. И он уже не думает, что она может засмеяться. Когда впервые их губы встречаются добровольно, они сливаются в первый настоящий поцелуй, первый, который требует больше, чем может дать, указывает путь пылкой крови.
– Что ты делаешь, Моника?
– Снимаю с тебя плащ, лихорадку.
И снова ее загадочное молчание, которое он не может понять.
Но это уже не коварное молчание, а мудрое и кроткое. Против кротости ее он так же бессилен, как и против того видения, которое посещает его во сне все эти ночи. Оно похоже на Монику, только чересчур суетливо и не такое прекрасное, серьезное и святое, как она.
IX
Грех был чудовищен. Сколько он ни пытался в последующие дни, он не в состоянии был охватить его пределов. Грех был так огромен, как его счастье, и столь же многообразен, как это счастье. Клубок счастья и клубок грехов. О существовании некоторых из них он только догадывался, потому что никогда не слыхал о них, несмотря на тщательное изучение своих собственных грехов. За то, что он утратил собственную чистоту, он заслуживал наказания. Это он знал. Но за то, что он посягнул на чистоту другого существа, он заслуживал проклятия. Еще ребенком он изучал трактаты о браке и разводе, разбирал самые сложные случаи, совершенно не понимая сути того, о чем там говорилось. Но во всяком случае в этих пределах он понимал свои ошибки. Но к кому ему было обратиться за советом, когда он задавал себе вопрос, в какой мере порочно любить христианку? Не только спать с нею, но любить, вопреки всем законам и обычаям, любить, как любит жених невесту, благородной страстью, которую нельзя утолить иначе как длительной связью. И это невзирая на то, что ее нельзя было назвать своей невестой и притом не столько по еврейскому закону, сколько еще больше по законам страны. Мудрецы совсем не предусмотрели такого случая. Он был настолько исключительным, невозможным, что никто не подумал привести его хотя бы в виде учебного примера.
Но странно, чем больше казался Давиду его грех, тем меньше он его мучил. Словно он был слишком велик, чтобы можно было его почувствовать. Ему казалось, что он должен испытывать угрызения совести и что угрызения эти должны быть жгучими, невыносимыми. Но их не было! Он не понимал этого, возмущался их отсутствием. Но ничего не помогало. Факт остается фактом. Это была новая загадка в дополнение ко всему непостижимому, что внесла в его жизнь Моника.
Они не могли встречаться иначе как по вечерам на берегу Молдавы, у рыбацких хижин. Здесь можно было, по крайней мере, поболтать некоторое время, не опасаясь, что дома заметят его отсутствие или что прохожие увидят их и начнут кричать, что еврей заигрывает с христианкой.
– Нельзя ли мне снова притти к тебе?
– Невозможно.
– Вот так, как тогда?
– Но ведь тогда был церковный праздник, это бывает раз в году, глупенький.
– Так, значит, ты выбрала как раз этот день?
– А ты сердишься на меня за это?
– Моника!
Она любила, когда он смотрел на нее жалобными глазами. Она называла их верными песьими глазами, и чем грустней они смотрели, тем нежнее она их ласкала.
– Неужели ты не понимаешь, что я рада была бы снова быть твоей – совсем твоей.
Он пугался, когда она открыто называла вещи своими именами. Ему было непонятно, почему она совсем не стеснялась! Это очаровывало его и в то же время заставляло особенно остро сознавать свой грех.
В те короткие мгновения, которые они проводили, сидя обнявшись на берегу реки, перед наступлением сумерок, она иногда рассказывала о своем детстве, о своем отце, который был родом из Франконии. Уже несколько раз было близко к тому, чтобы его изгнали из Праги из-за религиозных распрей; как немец он остался добрым католиком и не хотел ничего знать о новой форме причастия с чашей. Но с тех пор как город и окрестности успокоились под властью польского принца, который был католиком, дела отца пошли лучше. Придворные бывают теперь у отца, – особенно усердно посещает его сам бургграф, который подковывает у него в кузнице всех своих лошадей и заказывает ему оружие, причем постоянно заигрывает с красоткой Моникой.
– А отец это терпит?
– Он дорожит хорошими заказчиками.
– А ты?
– Я прошу графа фон Розмиталя приходить к нам когда ему угодно. Он красивый господин. И он отваживает от меня Каспара, который втюрился в меня, как дьявол.
– А отец все это видит и не запрещает?
– Отец! Да он только смеется, когда они безобразничают.
Еще раньше чем он успевает уяснить себе это, закрываются ворота в городской стене, которая тянется по берегу Молдавы вокруг гетто. Ему нужно пройти в ворота, прежде чем стемнеет. А Моника должна особенно спешить, потому что ей нужно пробежать через всю еврейскую улицу и выйти в старые ворота на противоположном конце.
Однажды она ему рассказывает случай, который она сама называет началом всех ужасов ее жизни. Она впервые говорит таким тоном обвинения.
Слыхал ли он что-нибудь о гильдии молодых живописцев в Праге? О необузданных художниках, которые собираются у мастера Матвея Райзека, бакалавра школы Тейна и строителя новых ворот? Все они хорошие рисовальщики и резчики по камню, но и большие повесы, особенно те, что рисуют на полотнах не святых, а разных языческих богов и богинь по итальянскому образцу. Один такой чужестранец, родом из Ломбардии, очень важный, в длинном бархатном плаще, пришел однажды к ее отцу и попросил отпустить ее на службу к нему. У отца дела тогда были очень плохи. И он отдал ее на службу важному иностранцу, разумеется, на честную службу. Ни о чем другом не было и речи, хотя ей, несмотря на ее молодые годы, сразу показалось странным, что чужеземец слишком внимательно осматривал ее фигуру и шепнул своему спутнику что-то вроде похвалы ее «Божественному телу».
– А сколько лет тебе было тогда?
– Пятнадцать.
Давид соображает, что она, пожалуй, старше его, потому что она говорит об этом, как о чем-то давно минувшем. А тем временем она продолжает рассказ о том, как она прослужила несколько дней в доме господина Бальбо, как сначала все шло по-хорошему. Она носила воду, помогала кухарке, прибирала комнаты, словом, делала все, что полагается прислуге. Но однажды вечером она еще за ужином почувствовала, что к пище примешан какой-то дурман. Страшно сонная, и в предчувствии чего-то плохого, она улеглась в постель. А потом настало ужасное пробуждение.
– Какое пробуждение, Моника?
Она запинается. Не упрямство мешает ей окончить рассказ. Она бледнеет, закусывает верхнюю губу. Давид упрашивает ее. Все, что говорится только намеками, кажется ему ужасным, усиливает в нем страх, который его никогда окончательно не покидает. Наконец, она уступает его настояниям:
– Я проснулась на постели, которая была покрыта черным бархатом, таким же черным и тяжелым, как тот, из которого был сделан плащ моего хозяина. Я лежала привязанная – и вся нагая, даже без рубашки. А вокруг меня, при свете множества ламп, сидели мужчины, молодые и старые, перед каждым стоял станок, и все рисовали меня. Они не заметили даже, что я уже проснулась, потому что сначала я не могла произнести ни слова, точно мне залепили рот глиной. Вот эту минуту я не могу забыть: как они рисовали меня и как глаза их, двадцать или сорок глаз, ходили по мне, жадные, голодные, как хищники. Глаза у них были такие напряженные, широко раскрытые и в то же время усталые, словно они нагляделись на меня досыта, до пресыщения.
– А потом?
– Наконец, я могла закричать, стала дергать обручи, которыми были прикреплены мои руки и ноги.
– Ну, и что тогда?
– Тогда все они так скверно захохотали.
Больше Давиду не удается ничего узнать, сколько он ни расспрашивал. Обидели ли ее, убежала ли она, осталась ли она после служить? На все эти вопросы она не отвечает. Она плачет, склонясь к его плечу, и руки ее, которые он держит в своих руках, дрожат. И, сочувствуя ей, он видит себя на ее месте, на ложе пыток, обнаженным при ярком свете, и в то время как его тело ощупывают холодные паучьи глаза, он почти физически ощущает, как при этом в глубине ее сердца что-то треснуло, чего нельзя поправить. Сколько может вырасти из такой трещины в сердце! Может быть, потому она и захотела завладеть им, потому бросилась на его стыдливую грудь, что грубые люди поранили ее стыдливость. И он готов окутать ее раннее чувство всей своей жизнью, своим тихим нетронутым прошлым.
Для него остается загадкой, как она может перестать плакать, словно проснуться от слез. Она взглядывает на него ясными светлыми глазами:
– Говорят, что в Италии в этом не видят ничего необыкновенного.
– В чем именно?
– Да вот в том, что рассматривают раздетых женщин, изучают их телосложение, рисуют их. Даже очень порядочные женщины не стесняются показывать свое тело художникам.
– Кто это сказал тебе? Может быть, господин Бальбо?
– Он и господин фон Розмиталь. Но у нас это было тогда непривычно и ново. Так осталось и по сие время. Потому что мы – варвары.
– Потому, что варвары?
Давид чувствует, что книги, которые он читал у Гиршля, не в состоянии помочь ему. В действительности все происходит иначе. Он читал латинские стихотворения, посвященные знаменитым художникам и скульпторам, он знает, что эта странная порода людей «любит красоту». Но что это делается именно таким образом и что Моника имеет какое-то отношение к красоте, этого он не знал. Но разве он не знал, что она красива? Ах, что он знал вообще до этого времени!
О бургграфе, например, он знал, что тот требует именем короля много денег у евреев и что его приходится уговаривать, и что он собирается прогнать нас, если мы не будем платить. И это тот самый бургграф, который подковывает своих лошадей в кузнице «У лягушки на болоте», который ведет с Моникой шутливые разговоры об итальянских нравах. Несколько недель тому назад ему не пришло бы и в голову, что он может расспрашивать об этом бургграфе совершенно по-иному, без страха, но с лихорадочной злобой.
Он крепко жмет руку Монике:
– Что общего у господина фон Розмиталя с господином Бальбо? Чего они от тебя добиваются? Скажи!
И она, которая только что искала у него поддержки, становится господином положения. Серые глаза светятся как бы отблеском ее ноготков.
– Добиваются того же, чего и все мужчины.
– Моника, скажи еще что-нибудь, прошу тебя, только не молчи.
– Он приглашает меня к себе в гости, в замок на Градшине.
– И ты была там?
– Да.
– Часто?
– Да.
– И ты любишь его?
– Глупенький мальчик, – ласково говорит она, – лучше бы ты думал о том, как ты был у меня в гостях. Я знаю дверцу в городской стене, как раз под башней в нашем дворе. У отца есть ключ от нее, но он хорошо хранит его.
Она раскрывает руку, и на ладони у нее ключ.
– Ты откроешь ночью ворота в городской стене?
Она недовольно качает головою и делает несколько шагов вперед.
Огромный еврей-привратник, сумасшедший Герзон, стоит у воды, смотрит на ребятишек, пускающих плоские камни по воде, так что они несколько раз подпрыгивают. Он бормочет по древнееврейски: «Рукоятка копья его как ткацкий станок, а острие копья его – шестьсот шекелей железа».
– Ты понимаешь, что он говорит? – спрашивает Моника Давида.
– Нет, – грустно отвечает он. Каким чуждым стало все эго для него.
– У тебя есть ключ от этих ворот? – кричит Моника старику. Страха она не знает. Она готова заговорить со всяким и вести беседу о чем угодно. У Давида, волнуемого страхом, все вопросы, на которые он не получил ответа, остаются в сердце, как осколки стекла. Молча стоит он рядом с Моникой.
Но огромный Герзон не позволяет шутить с собой. Бледное лицо с взлохмаченными красными волосами поворачивается к девушке:
– Пращой и камнем, вот таким камнем, как бросают эти мальчики, побил он филистимлян.
Давид подбежал и оттолкнул от Моники великана.
– Спасибо! – кивает она ему головой, хотя не без насмешки. – Я совсем не знала, что ты можешь быть таким храбрым.
И вдруг она заторопилась уходить, не может даже сказать, когда придет снова. Он это узнает из письма, которое она спрячет на берегу под камнем. Она так делала уже не раз, но теперь это говорится в каком-то ином тоне. Так не раз уже бывало. Прогулки, на которых они, казалось, сближались совсем тесно, заканчивались в плохом настроении, взаимным отчуждением. Даже при прощальном поцелуе она играет с ним и быстро отнимает губы.
Она оставляет его испуганным и беспомощным.
Как тяжело ему в одиночестве. Единственное, чем он может заниматься, это писанием ей писем. Если он только не читает поэмы, как христианин Орландо полюбил прекрасную язычницу Ангелику. Разве это не тот же грех, что влечет его к прекрасной христианке? В сладкозвучных стихах он постоянно находит себя, свою страсть, свою гибель. Эти стихи у него на устах, когда он вечером пробирается к берегу и прячет под камнем письмо, предназначенное для Моники. Возвратившись домой, он лежит без сна и твердит свое письмо.
Давид переживает первую весну. Впервые в жизни он замечает сонмище мелких светящихся искр на темных ветвях: это пробиваются почки. Беспокойно бродит он среди памятников на кладбище, – все свое свободное время он проводит в этом единственном месте в стенах еврейского гетто, где растет зелень. Кладбище – «еврейский сад», как его называют, единственный сад, который мы имеем. Своей сиренью и жасмином он напоминает ему двор Моники. Давид чувствует там, на кладбище, легкое прикосновение весны и с ужасом замечает, какая бесконечная сила в этом прикосновении. Это словно рука Моники: она гладит, но если сопротивляться – она поставит на колени.
За эти несколько недель страсть научила Давида многому такому, что раньше оставалось для него скрытым. Он еще не знает, как много ему надо учиться. Но муки любви уже делают свое дело. Они изощряют его взор.